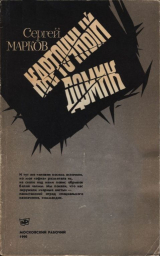
Текст книги "Карточный домик"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Красиво, – сказал Миша.
– Да. Очень. Не рисовал там?
– Какой! Вначале чуток, в учебке еще… Все думал – вот вернусь… Я скучал там по морю.
– Ни разу порыбачить не удалось?
– Карпов ловили в озере. На макуху.
– На что?
– Подсолнечный жмых. У нас так не ловят, Володька Шматов научил. И крабов ловили корзинами, майками, руками.
– Крабов – это не хило, – сказал я.
– Они там пресные. Маленькие. Но ничего, есть можно. Однажды с Витей Левшой наловили…
– И что?
– Да так, – помолчав, сказал Миша. И долго потом молчал. – Знаешь, Эдик, – он открыл окно, высунул голову, и ветер вздыбил белобрысый ежик волос. – А я все ж таки везучий. У нас каждый третий погиб. В батальоне спецназа. А я жив. Я вернулся.
– Это же здорово! – вскрикнул я.
– Здорово. Смотри, лодки.
– Слушай, – сказал я. – Пошли завтра на рыбалку. В море. А?
– Твоя «Жучка» все еще самая быстрая на побережье?
– Кто ж ее сделает-то, мою «Жучку»? – я подмигнул.
– Как и твоего «Чарли». – Лицо Миши было неподвижным, точно одеревеневшим.
– Ну так идем завтра?
– Пораньше заходи за мной, – сказал он. – В крайнее справа окно постучи.
– Да, я помню.
– Хотя нет, не надо. Я на причал приду.
– Мне спиннинг американский подарили.
– У меня свой есть. Кто подарил-то?
– Отдыхала тут одна. Жена дипломата.
– Все обслуживаешь?
– Э, слушай, мужа в ООН срочно вызвали, женщина в тоске и печали осталась и в полном одиночестве.
– Развеял тоску?
– Не знаю. Сказала, что имя свое я оправдал, в раю она побывала и что отдыхать теперь только у нас на Мысе будет. Может, девчонок завтра возьмем? Как в тот раз, помнишь, перед самой твоей армией. Мэрлин с Бриджит. Или других. Хочешь, я сделаю?
Он посмотрел на меня, и захотелось исчезнуть и больше на глаза ему не попадаться.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Утром на причал он не пришел. Подождав до девяти, я поехал к нему домой. Он лежал одетый на кровати, закинув руки за голову, и глядел в потолок.
– Ты чего опять, Миш? Я жду…
– Эдем. Делать больше нечего? Самый деловой человек на побережье. Зачем тебе?
– Затем, что мы друзья.
– Какой из меня друг…
– Слушай, надоел! Мы друзья, Миша. Ты меня понял? – я выругался по-грузински.
– Эдик. Не надо мне этого.
– Не надо?!
– Не ори. Если Никитич, защитник Родины, орденоносец и с обеими руками, всю жизнь бутылки на пляже собирает…. Он Родину защищал, понимаешь ты? А я…
– Что ты? Пошли на рыбалку.
– Не пойду я ни на какую рыбалку.
– Пойдешь. Я в пять утра встал, снасти налаживал, рачков ловил, мидий набрал полный таз… Пойдешь! – Я схватил его за ногу и стащил с кровати. – Слушай, дурака не делай из меня, да!
– Ладно. Пошли. Только ве́рхом, не по улице.
На двух моторах мы быстро дошли до Косы, обогнули ее слева, встали на якорь. И тут только Миша заметил на сиденье специальное гнездо, которое я смастерил утром, чтобы он мог вставлять в него рукоять спиннинга и одной рукой крутить катушку. Я думал, опять вспылит, но он ничего не сказал. Размахнулся, забросил, большим пальцем притормозил, поставил удилище в гнездо и попробовал крутить – леска запуталась. Я вытащил «бороду», распутал. Он снова забросил, довольно далеко, стал наматывать леску, метрах в пяти от нас блеснули две серебряные ложки-ставриды, он весь напрягся, вздулись желваки, лицо налилось кровью, рыбины взметнулись в воздух, я вскочил, чтобы поймать их, потому что цеплялись они часто лишь за край губы, но промахнулся, сам чуть в воду не упал, а ставриды, шлепнувшись о борт «Жучки», ушли. На Мишу я боялся посмотреть. Качались молча на волнах. Снова хрипло завизжала его катушка, бултыхнулись в воду грузики. И он вытащил трех ставрид, затем сразу шесть, я тоже стал таскать, клев прерывался ненадолго и начинался вновь, мы стали очки считать, как в баскетболе: двадцать три – двадцать семь, тридцать пять – сорок, пятьдесят два – пятьдесят девять. Поглядывая на развевающийся на ветру рукав, я держал в голове, что должен проиграть, но увлекся, когда пошел огромный косяк, и к полудню счет стал семьдесят восемь – шестьдесят четыре в мою пользу. И клев прекратился. Мы еще побросали в разные стороны, но бесполезно.
– Поплыли на Косу, – сказал Миша.
– Ловить больше не будем? – спросил я, зная, что Миша не умеет – не умел, во всяком случае, проигрывать. – А то давай южней проверим?
– Спасибо, Эдик.
– За что?
– За то, что в поддавки со мной не играл.
– Пожалуйста, – сказал я.
На песчаной Косе он стянул с себя джинсы и рубаху, остался в плавках. Лежа на животе, я смотрел на море, на чаек. Прошло минут десять.
– А ты – девочек возьмем, – сказал Миша тихим, равнодушным голосом. – Сам боишься на меня взглянуть.
Я повернулся. Руки не было по самое плечо.
– Красиво? Мне одна москвичка-художница все твердила, что я на гладиатора похож. Смахиваю, как считаешь? Мы с ней обнаженными весь день здесь провалялись. У нее загар был потрясающий. Как негритянка. И все ей мало, мало было. Ненасытная.
Миша стал с подробностями, называя все своими именами, рассказывать то, о чем не рассказывал раньше никогда, о чем у нас на Мысе среди мужиков вообще не принято рассказывать.
– Это у тебя после контузии? – не сдержался я и пошел купаться.
Вода была потеплей, чем возле Мыса. Проплыв метров двадцать, я оглянулся и увидел, что он трясется, уткнувшись лицом в песок, рыдает. Но решил, что лучше ему побыть одному. И правильно сделал.
Мы поджарили на железе мидий, ставридок. На сладкое ели дыню, и Миша сказал, что особенно сочные сладкие дыни были на минном поле, таких дынь, как там, мне не попробовать; вернувшись в лагерь после боевой операции, после многокилометровых маршей по горам в семидесятиградусную на солнце жару, они обжирались дынями так, что шевельнуться не могли, в тени отлеживались.
– А если б из «сварки» в этот момент или ракетами?
– Хрен с ними. Однажды кино про войну привезли. А они с гор стали реактивными снарядами долбить. Только молодые попрятались. И то не все. Старики до конца войны, до знамени на рейхстаге фильм досмотрели. Вообще-то, не всегда стреляли. Только кажется так. Пошли купаться.
– Айда, – сказал я; в детстве по этой команде мы забегали в море.
Я поплыл, а Миша долго стоял по пояс в воде, не решаясь.
– Давай! – крикнул я.
И он медленно поплыл вдоль берега, одной рукой загребая по-собачьи воду под себя, хлебая ртом и погружаясь с головой. Он лучше всех на Мысе плавал баттерфляем, в спортивном лагере без тренировки выполнил норму первого разряда, и его пригласили в спортроту – но он отказался. Лейтенант приходил к нему домой, уговаривал – ни в какую. «Пострелять хочу», – сказал он нам вечером на набережной. «В кого, Мишенька?» – спросила Бриджит, сидя на парапете, но он вместо ответа поцеловал ее в раскрытый накрашенный рот и долго не отпускал, как она ни мычала и ни брыкалась. А когда отпустил, сказала, ехидно улыбаясь: «Чем же они виноваты?» – «Кто?» – «Те, в кого ты пострелять хочешь. Что они тебе плохого сделали?» – «Мне лично – ничего». – «А кому? Леонида Ильича, бедненького, обидели?» – «При чем здесь? Они апрельскую революцию с дерьмом хотят смешать». – «Мишенька, ты серьезно? – с интересом и даже с испугом посмотрела на него Бриджит. – Тебе что, и в самом деле этот мифический интернациональный долг не терпится выполнить?» – «При чем здесь интернациональный долг. Это политика. А что ты, баба в мини-юбке, смыслишь в большой политике?» – «Ничего, – согласилась Бриджит. – Пойдем лучше попляшем в «Алые паруса».
Искупавшись, мы лежали на песке возле воды, смотрели, как накатывают волны и пузырится желтоватая пена.
– Медуз много было этим летом?
– Мало, – ответил я. – Но большие. И жгучие. Одну мою знакомую в глаз ужалила.
– Жену дипломата?
– Нет, немку. Западную.
– Ты и вэст теперь обслуживаешь?
– Слюш-ш, прынцыпалный разныца нэт. Вот плавки подарила.
– И только-то? Мэрлин японец сто долларов за ночь заплатил.
– Дал бы я тебе промеж ушей…
– Дай. Шлюха ты валютная.
Я взял одежду и пошел к катеру.
– Поплыли домой, – сказал ему, не оборачиваясь.
– Плыви, я здесь останусь.
– Жить? Как знаешь. Твое дело.
Я вытолкнул «Жучку» с берега, запрыгнул, врубил мотор и пошел на северо-запад, к поселку. Но километра через полтора повернул направо, обогнул Косу и встал там на якорь, забросил спиннинг.
«Мне всю жизнь теперь вокруг него плясать лезгинку? – думал я. – Такое впечатление, что Эдем его туда заслал. И никто не знает еще, что он там делал. Если правду говорит… А если даже правду? Он мой друг. Хотя совсем другим стал. Там любой станет другим. Пострелял, называется. Нет чтоб в спортроте двойную пайку масла хавать».
Почти уже в сумерках я вернулся на Косу. Он сидел по-турецки у воды.
– Поплыли, хватит дуру валять, – сказал я, заглушив моторы. – У меня огни габаритные не горят. Слышишь?
– Эдик, помнишь Царя?
– Толика Царева, Валькиного брата?
– Мы мальчишками были, и он на причале нам рассказывал про Флориану, остров, на который мечтал поплыть. Помнишь?
– Мне столько про острова рассказывали и про разные мечты. – «Жучку» сносило, и я почти кричал. – При луне. Сядешь на берегу, обнимешь – и понеслась. Кто не мечтал об островах, ты мне скажи? Романтика. Алые паруса. Туфта все это. Там не понял?
Он не ответил. Я опустил весла, подгреб, выпрыгнул на песок. Сел рядом.
– Там не понял, – сказал он тихо. – Наоборот. Идешь по барханам, за спиной эрдэ – рюкзак десантника килограммов пятьдесят, на одном плече автомат или два, на другом ручной пулемет, спереди тоже что-нибудь болтается увесистое типа оборонительных гранат. Плаваешь в поту, пыль забивается в рот, в нос. Мозги плавятся. Уже ни страха нет, что из-за какого-нибудь бугра или дувала полчерепа тебе снесут, ни усталости. Ни даже жажды, потому что кажется, все внутри выгорело. Никаких вообще желаний и мыслей. Идешь, и вдруг остров весь в цветах, плещутся вокруг зеленовато-голубые волны. Это не мираж был. Больше никто из ребят этого острова не видел.
– Поплыли домой.
– Поплыли.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В ноябре его взяли на «профилактику» – оформлять заказ-наряды. Но перед Новым годом он оттуда ушел, никому ничего не объяснив. И лишь в конце зимы сказал мне, что не смог вытерпеть того, что до армии казалось нормой.
– А что Иван Сиропович сказал? – спросил я; Иван Сиропович с недавних пор стал одним из крестных отцов нашей автомафии.
– Ничего. Он знает, что в милицию к нему я не пойду. Я сказал просто – не мое это дело.
– К цеховикам тебя устроить, бижутерию всякую продавать, бирюльки? Кусок верный будешь в месяц иметь.
– Можно.
Но и от них он ушел, набив единственной рукой лицо одному из цеховых крестных отцов и почти со скандалом, чего никогда цеховики на своем участке не допускали.
Работал на пропускном пункте у входа в интуристовский комплекс, в кегельбане, на кортах – но и там своя, интуристовская мафия, которая готова была Мишу принять в семью, но не готова к его неожиданным эскападам и изобличениям.
И из юношеского военно-спортивного клуба, где работал инструктором, он вынужден был уйти, потому что вместо того, чтобы делиться с юношами боевым опытом, угрюмо молчал, а потом вдруг при посторонних – пришел по направлению военкомата защитник Сталинграда – рассказал, как прикончили двух пленных мальчишек и старика. Девать их было некуда: отделение уходило на боевую операцию, и погибло в том бою почти все, может быть, Бог – их или наш – покарал. Мишу спросили, верит ли в Бога, он ответил, что все, кто там был, не в каптерке отсиживался и не на свинарнике, а по-настоящему был, верят, но не все об этом кричат.
Хотел Миша вернуться к спорту – пробовал на водных лыжах кататься, держась одной рукой за фал, на лошади скакать, на мотоцикле ездить. Потом решил стать циркачом, как знаменитый наш земляк – однорукий цирковой гимнаст, и с утра до ночи поднимал гирю, подтягивался на турнике, придумывал свои упражнения и научился делать стойку на руке – «однолапого крокодила»…
А в начале лета запил. Я четыре дня его разыскивал, нашел у Надежды в погребе – он допивал остатки прошлогоднего вина. С трудом мне удалось его оттуда вытащить – вернее, вынести – на берег. У моря он очухался. Я думал, снова начнет о том, что все бесполезно, все потеряно и не на что уже надеяться. Но Миша молчал; то, что в нем происходило, выдавали лишь его удары камнем о камень.
– Письмо получил от дружка, Кольки Хлебникова. Я его однажды раненого из-под огня вытаскивал. Пишет, что из свадебного путешествия вернулся. На исторический думает поступать.
– Вот видишь, – зачем-то ляпнул я.
– Что видишь? Видишь? – он с размаху ударил ладонью по культе.
– Слушай, – сказал я, – мы прошлым летом с одним писателем тут рыбу ловили. Хороший писатель – я с «Жучки» чуть от смеха не слетел, когда он рассказывал. Говорит, что самая лучшая на свете книга – про Дон Кихота. А написал ее знаешь кто?
– Сервантес.
– Точно. А знаешь, чего у этого Сервантеса не было?
– Чего?
– Руки! Он был ранен в морском сражении. А какую книгу написал!
Миша собирал вокруг себя голыши и бросал в воду – пускал «блины», считая вслух:
– Раз, два, три, четыре… «Дон Кихот» не о войне, – сказал.
– А о чем же?
– О похождениях хитроумного идальго. Философская книга. О войне бы он не написал.
– Почему?
– Потому что был солдатом. А кто в мясорубке побывал, о ней писать не будет. Не сможет. У корреспондентов это хорошо получается. Приехал к нам один из журнала. Приказали взять его с собой на операцию и бойню по первому разряду устроить, чтобы он описал. Зажали мы в ущелье караван, который якобы из-за границы оружие вез. Уничтожили. Корреспондент тоже за милую душу палил. Потом фотографировался на фоне трупов. А оказалось, «деза» была самая обыкновенная. Дезинформация. Оружия не нашли. Но это мелочи. Издержки производства. Корреспондент потом расписал в журнале, как героически вел бой в ущелье с бандой, как пули у него над головой визжали. Открытие сделал; пулю, говорит, которая летит в тебя, не услышишь. Молодец. Мы с ребятами от хохота чуть не подохли, когда читали.
– Ему тоже кушать надо.
– Само собой. Но они-то в чем виноваты?
– Кто?
– Которых мы в том ущелье для него положили. Фуфлологи они все – корреспонденты.
Наверху на дороге остановилась «Лада». Выскочили четверо здоровенных наголо стриженных парней, скидывая на бегу одежду, с гиканьем, свистом бросились к воде.
– Не знаешь, что это за потсы? – спросил Миша.
– Фашисты. Я вон того знаю, с цепью, папаша его у нас на Мысе живет. Царь их на старом причале вырубал, помнишь, когда старика того, смершевца, убили? Тогда они пацанятами были, а сейчас попробуй.
– Почему фашисты?
– Со свастикой прошлым летом ходили. Гимны фашистские пели.
– А наши ребята что?
– Ничего. Эти целой толпой приезжали. И все вот такие накачанные бугаи.
– Башка трещит, – Миша достал из кармана бутылку с домашним вином, выдернул зубами пробку, отхлебнул. – Не желаешь?
Он поставил бутылку на камни. Фашисты орали, брызгались, резвились в воде, как негритята из детской песенки. Один из них – Женя, с цепью на шее, самый здоровый, «фюрер», как они его называли прошлым летом, – вышел на берег и, поигрывая лоснящейся мускулатурой, насвистывая, пошел к нам.
– Что ему, как думаешь? – спросил Миша. – Курить будет просить?
– Они не курят, – ответил я, напрягшись.
Женя приближался, глядя на нас прозрачными бесцветными глазами, чуть заметно улыбаясь. Трещала у него под ногами галька. Я знал, что он справится с нами в два счета, если захочет, но машинально огляделся, ища камень потяжелей. Больше, чем за себя, я боялся за Мишу. А он казался невозмутимым.
– Здорово, мужики, – рыкнул Женя, оскалившись в квадратной ухмылке, и сдавил руку мне, потом протянул Мише, но Миша руки не заметил. – Местные будете?
– Будем, – сказал я.
– То-то гляжу, где-то я тебя видел. А ты… – он кивнул на пустой Мишин рукав. – Оттуда?
Миша молчал.
– У меня много корефанов оттуда. – Женя присел на корточки. – Уважаю вас, честно. Настоящие мужики. Сам бы туда пошел.
– Что ж помешало? – навел на него прищуренный взгляд Миша.
– Здоровье, – ухмыльнулся «фюрер», надув бицепсы. – Пьете?
– Хочешь? – предложил я. – Домашнее.
– Пить – здоровью вредить. И вам не советую.
– Без советчиков обойдемся, – рубанул Миша.
– Какие мы нервенные. Ну ладно, не буду мешать. Отдыхай – заслужил. Мы сюда месяца на полтора. Так что повидаемся.
Их приехало тринадцать человек – фашистов-культуристов. Свастику они на этот раз открыто не носили, гимнов не пели поначалу и вообще были похожи на безобидных атлетов, приехавших отдохнуть и потренироваться. Жили в палатках на берегу. По утрам, часов в шесть, бегали вдоль моря, в плавках, босиком по камням, потом делали зарядку – сотни раз отжимались, приседали, держа над головой здоровенные булыжники, потом заплывали чуть ли не к горизонту и, возвратясь, шли на ферму пить парное молоко, есть творог, сыр, яйца. Днем загорали. Под вечер качались по полтора-два часа – притом не просто, а по науке, по инструкциям, один из них вел учет в тетради. Вечерами бродили по поселку или сидели в «Алых парусах», пили сок, глазели на танцующих и гоготали.
Впервые в этот приезд проявились они на диком пляже, слева от поселка, за старым причалом. У нас там организуется так называемый нудистский пляж, где с легкой руки, а может быть, ноги или какой-нибудь другой части тела известной киноактрисы загорают женщины и мужчины, пожилые и молодые – без всего. Милиция изредка устраивает на них облавы, но почти безуспешно, так как заранее об этом знают все. Фашисты же – по просьбе местных жителей, возмущавшихся голыми: «Безобразие, дети ходят, а они титьками, хозяйством своим трясут, ни стыда, ни совести, совсем с ума посходили, сволочи!..» – нагрянули неожиданно, схватили дюжину нудистов, долго со смаком фотографировали, чтобы отправить по примеру милиции фотокарточки на работу, и, затолкав в машины, не обращая внимания на угрозы мужчин, мольбы и плач женщин, повезли в город, высадили их в чем мама родила в самом центре, на площади возле памятника.
Стали охотиться – опять-таки якобы по просьбе местных жителей – за приезжими хипарями. Одного гнали вдоль моря километра четыре, отрезая ножницами и вырывая пряди волос, другого заставили на пляже побрить свою подругу, третьего, когда он изложил им свою философию всеобщей любви и братства, швырнули в яму с навозом. Ловили наркоту, которой много у нас развелось в последнее время, сдавали в милицию или заставляли всячески издеваться друг над другом. Ловили по вечерам возле интуристовского комплекса путанок, заезжих, местных не трогали, побаиваясь нашей мафии, а столичных ставили «на хор», пропускали у себя в лагере через «трамвай» и сажали на проходящий ночной московский поезд.
Стали по ночам жечь факелы, как прошлым летом, и горланить гимны. Никитич, бывший танкист, ругнул их, и они забросили его в камыши. Двух черноволосых студентов-москвичей, один из которых не выговаривал букву «р», заставили на набережной кричать хором: «Мы жиды порхатые!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тогда Мишка пошел к ним. Я тоже, чтобы не отпускать его одного. Они сидели вокруг костра.
– А, гамарджобаздоровенькибулыбаревдзэссаламалейкум! – встал нам навстречу Женя и пожал руки. – Милости просим, как говорится, к нашему огоньку.
Мы с Мишей присели.
– Вы, парни, понимаете, что так просто это не кончится, – сказал Миша.
– Что – это? – ухмыльнулся «фюрер». – Ты имеешь в виду танкиста ужравшегося, который тут за нами с бутылкой гонялся?
– Все имею в виду.
– Проституток, наркоманов, хипов и прочее дерьмо? Так ты что, за них? Никогда не поверю! Быть того не может. Пока ты кровь, как говорится, проливал, они торчали тут, ширялись, дрючились с неграми за валюту, позоря страну. Или ты за жидов? Сам жид? Не похож. Ты чего, в натуре? Я уважаю тебя…
– Обойдусь без твоего уважения.
– Ваших-то мы не трогаем. У танкиста почти прощения просили – когда протрезвел. А шлюх, хипов гасим, потому что плодятся они, как тараканы вонючие, спасу от них нет, смердят, позоря страну…
– Кончай ты – про страну, – оборвал Миша.
– Это почему же? Ты, вы все – гордость страны, а они – блевотина отчизны. Давить их надо. Мы – санитары общества. Если не мы, то кто?
– Уезжайте, – сказал Миша.
– Нет, старина. Недельки две-три покантуемся еще у вас. Позагораем. А там видно будет.
– Уезжайте. Прошу.
– Нам и менты ваши благодарность вынесли. Не, не уедем. Не проси. Встали! – скомандовал он своим.
Фашисты-культуристы отошли на специально выровненный пятачок, размялись и, взяв камни и чугунные бруски, стали качать трапециевидные, дельтовидные, широчайшие и прочие мышцы.
– Я предупредил вас, парни, – сказал Миша.
– Вали отсюда, интернационалист ссаный! – крикнул кто-то. – А то вторую клешню обломаем!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В тот вечер Мишка впервые после возвращения пришел в «Алые паруса». Женя в майке расхаживал по бару и предлагал всем помериться на руках силами, но никто не хотел, видя его бицепсы.
– Может, ты, воин? – сказал он, увидев Мишку.
Мой друг молча сел, стукнул локтем о стол.
– Да я шучу, – заулыбался Женя, но Миша глядел ему в глаза, и «фюрер» неохотно, но все-таки взял в свою руку Мишину кисть, надеясь разделаться с калекой мгновенно.
Не получилось. Культурист-фашист свирепел, наливался кровью, напрягаясь, однако Мишка, побледневший, упершись плечом с культей в стену, держался. Все, кто был в баре, затихли. Так прошло минут десять, полчаса, полтора – а они сидели, глядя в глаза друг другу, изо всех сил стараясь прижать руку противника к столу. Иногда Жене это почти удавалось, но Миша в последний момент выравнивал руку, гораздо более тонкую, чем у культуриста, но, словно проволокой, обмотанную вздувшимися жилами, а лицо его было неподвижным, белым, как гипсовая маска, и глаза не выражали ничего. И Мишка бы победил, я уверен, если бы не Мэрлин: нетрезвая, в короткой юбке, с полуоткрытой грудью, размалеванная, как индейский вождь, она вошла в бар с каким-то иноземцем и, увидев, что происходит, не долго думая схватила графин с вином и разбила его о затылок «фюрера». Фашисты-культуристы молча выволокли ее на балкон, поставили там на колени, окружили плотным кольцом, забелели чьи-то ягодицы, она вырывалась, но ее держали за волосы… Иноземец, присев у стойки бара, с интересом наблюдал через открытую дверь за происходящим. Остальные посетители продолжали пить и танцевать, делая вид, что ничего не видят и не знают. Наших было человек семь, не больше, и против фашистов нам явно не светило. Но Миша вдруг вскочил, ринулся на балкон – и фашисты устроили ему пятый угол. Он падал, его подхватывали за руку или за ремень, поднимали и били кулаками в лицо, в живот.
– Убейте, парни! – молил он с надрывным хрипом, захлебываясь кровью. – Иначе я вас убью все равно! Убейте!
Гремела музыка. Бармен Зураб позвонил в милицию. Приехали они минут через сорок, когда «Алые паруса» были уже закрыты, мы с Мишкой сидели на скамейке в зарослях самшита. Его рвало кровью и желчью. В два часа ночи милиция уехала, а в половине третьего на берегу собралось тридцать человек, со всего Мыса, на машинах и мотоциклах.
Фашистского лагеря уже не было на месте. Мы рванули напрямик к выезду с Мыса, чтобы их перехватить, но гаишники на посту у «Золотого руна» сказали нам, что они не проезжали. Подождав на перекрестке, мы отправились к скале «Прощай, Родина». Они были там, ставили палатки. И сразу стали палить по нам мелкой дробью из обрезов. Разбили пару лобовых стекол, несколько фар, но никого не задели. Мы съехали вниз, остановились в темноте под скалой, чтобы обсудить план действий. И тут на самом верху скалы затрещал мотоцикл. Я узнал Мишкин голос, он что-то кричал то ли им, то ли нам. Грохнул выстрел – Мишка исчез. Мы помчались по берегу прямо на лагерь – фашисты успели выстрелить всего несколько раз и бросились в море, уплыли в темноту. Шестерых мы выудили, вырубили на месте, двоих, среди которых был «фюрер» Женя, посадили в их «Ладу» и повезли на скалу.
Мишка сидел возле упавшего мотоцикла, держась за живот, вся рубаха его была в крови.
– Миша, что? – подскочил я.
– Зацепило.
– Перевязать?
– Не надо. После. Вы куда их?
– Разгоним и сбросим со скалы. На всякий случай влили им в пасти по бутыле чачи, пьяные, мол, слетели. Хотя в воде уж там не разберешь.
– Не делайте этого.
– Они фашисты, Мишка. Да и не смогу я уже ребят остановить.
– Останови.
– Озверели ребята!
– Останови, слышишь!
– Не буду!
– Пшел отсюда! – Мишка выматерился, обругав и мою мать.
Я ушел к ребятам. Они тянули жребий, кому садиться за руль «Лады». Выпало мне. Как будто знала обломанная снизу спичка, что однажды я уже почти сорвался с этой скалы, чудом «Чарли» меня спас, упав на нижнюю площадку и зацепившись колесами за камни.
Фашисты, связанные, сидели, прижавшись друг к другу, на заднем сиденье. Заставив выпить чачи с клофелином, ребята их развязали, «фюрера», уже впадающего в прострацию, пересадили вперед.
Я сел за руль и медленно поехал по шоссе, вспоминая, чтобы не задремала во мне ненависть, как они били на балконе Мишку и как на виду у всех измывались над Мэрлин.
Отъехав от скалы, я развернулся, включил дальний свет. Перевел на первую передачу, отпустил сцепление и тронулся. Мне надо было разогнать машину по крайней мере до восьмидесяти километров в час, чтобы она пробила собой кусты, растущие вдоль дороги, и вылетела с обрыва туда, где кончается отмель и начинается подводный обрыв, уходящий на большую глубину. И я быстро набирал скорость, петляя по серпантину, визжали протекторы, бились, словно бильярдные шары, головами о стекла фашисты. Перед последним поворотом стрелка спидометра была почти на сотне. Я выскочил на прямой отрезок, ведущий к площадке обозрения, где днем останавливаются автобусы с туристами, и вдруг фары выдернули из черноты разбитое окровавленное лицо, окровавленную рубаху. Мишка стоял в узком проломе между скалами на краю пропасти, куда я уже нацелил «Ладу», чтобы в последнюю секунду выпрыгнуть. До него оставалось несколько метров, когда я шибанул по тормозам, одновременно рванув ручник и резко выворачивая руль влево – «Лада» перевернулась и ударилась днищем о скалу. Женя открыл глаза, что-то пьяно пробормотал. Шевельнулся и другой. Я вылез, порезавшись о стекла, но боли не почувствовал. Миша все стоял на краю пропасти, держась за живот. Я подошел.
– Хватит, Эдик, – выдавил он еле слышно. – Хватит… крови.
– Спасибо тебе, Мишка.
Крутились по инерции колеса «Лады». Бежали к нам из темноты ребята.
1988
ИЛЬЯ МУРОМЦЕВ
1
Понять, что хочет от меня в час ночи этот Виктор, я не мог, а он настаивал: «Да это Виктор беспокоит, ты чего, Максим, не узнаешь?» Потом опять взял трубку старший лейтенант, дежурный сто восьмого отделения милиции, стал ухмыляться, мол, не признаю двоюродного брата из Елабуги, и тут я понял наконец, что никакой это не Виктор, а Илья и надо ехать выручать его на Пушкинскую.
Он сидел, сжав голову ручищами своими жилистыми, точно мяч на тренировке, между малолетними раскрашенными проститутками и наркоманом, судя по глазам. Особого эффекта удостоверение мое не вызвало, но все-таки дежурный объяснил, что гражданин задержан, потому что рвался в Елисеевский и оказал сопротивление сотрудникам милиции, пытавшимся его утихомирить. «Как же удалось его утихомирить-то?» – я подивился, но дежурный не ответил и братишку моего двоюродного отпустить не пожелал. И я решил остаться до утра с Илюшей за компанию в холодной и сырой кутузке. «Ты ему поверил? Я – сопротивление? Смешно. Читал О’Генри? Как жена потребовала, чтобы муж-боксер достал ей персик ночью посреди зимы. Вернулся вчера с тренировки, еле на ногах держусь. Она хохочет, лежа на кровати с этим Генри. Говорит, а ты бы смог, мой зайчик, если ты, конечно, любишь? Я – устал, мол, завтра рано утром тренировка. Ни в какую. Ну, не жрамши сел в машину и поехал. Приезжаю на Смоленку в гастроном. Мне персик, говорю. А продавщицы смотрят, будто из дурдома я сбежал. Хихикают. И посылают в Елисеевский к директору – ты у него и птичьим молоком машину подзаправишь заодно. Приехал. А уже закрыто. Постучался сзади. Открывают. Объясняю. Знаешь, с торгашами я никак наладить не могу. На разных языках. Захлопнули они передо мною дверь. Чуть нос не прищемили. Вот и все. А имя и фамилию здесь не сказал, чтобы телегу не отправили. Мне на Европу через месяц. Думал, твоя ксива, как в тот раз. Ты извини, что среди ночи поднял. Ты не обижайся на меня».
Я познакомился с Ильей, когда еще писал о спорте и ходил на стадионы, думал, как и ныне, впрочем, думаю, что спорт в себе содержит столько тем, сюжетов, сколько, может быть, ничто другое, ни одна иная область человеческого самовыражения, что марафонский, например, забег, бокс, да любые стоящие состязания – модель, образчик жизни, и в судьбе спортсмена – истинного – все закономерно, и физически, и даже философски обусловлено. С Ильей мы одногодки, перешли на «ты», хотя ему, я чувствовал, давалось это нелегко – он был уже и мастером, и чемпионом, повидал три континента, но почтения провинциального к центральной прессе не утратил. Помню, как смущенно он едва ли не оправдывался: мол, Ильей назвали в дедовскую честь, а деду равных не было по силе, дед богатырем был, мог быка убить одним ударом; и как жал мне руку, когда мы прощались после первой встречи на «Динамо», – погрузив, как в кузов, мою кисть в свою чугунную, сухую, коренастую ладонь, он осторожно, точно женщине или ребенку, сжал, решил, что может и обидеть, и сдавил сильнее, тут же отпустил, а в светло-голубых глазах блеснул испуг: не слишком ли? Он пригласил меня к себе на новую квартиру, чтобы обстоятельно поговорить за чаем. «Я заварочку привез из Эдинбурга качественную. Королева Лизавета дня прожить не может без такого чая. Точно говорю». Квартира оказалась общежитием, с отдельной, правда, и достаточно просторной комнатой, в которой был порядок не московский – все лежало на своих местах, все было выстирано, выглажено, убрано, заправлено. «Хозяйку как зовут?» – осведомился я, но он пожал плечищами и улыбнулся, покраснев, ответил: «Сам себе хозяйка». Допоздна в тот вечер пили чай с малиновым и яблочным вареньем, присланным из дома, из Елабуги, что посреди России; под конец мне удалось-таки его разговорить, он рассказал о маме, об отце, о старшем брате, утонувшем в Каме, и о тренере Самсоныче, который заменил Илье отца… Я написал. В редакции статью отредактировали и подсократили, а Илья – как передали мне – обиделся на что-то. Я звонил на стадион и в общежитие, но он молчал или мычал невнятно. Ну и черт с ним, я решил и принялся писать о плавании, о прыжках, о велоспорте. И лишь года через полтора, к спортивной журналистике поохладев, я встретил его в Киеве, и на Крещатике он объяснил, на что обиделся: рассказывал он мне о деде и отце, как человеку, а не как корреспонденту, я же написал про все в газете, да не это главное, а письма, что потом пошли со всей страны, мол, мужественный, стойкий, все спились в семье, а он стал чемпионом… «Да плевал я на таких газетчиков, ты понял! И жалеть меня не надо. Обойдемся без соплей». Я объяснил, как мог, и попросил прощения, хотя не знал, за что, и он простил, но больше ничего мне не рассказывал, не раскрывался. А в конце семидесятых поселились почти рядом, на Вернадского, и возвращались на его машине с Лилиного дня рождения, вернее, с их помолвки, на которой он впервые в жизни выпил и пошел на красный, чуть не сбил старушку, врезался в троллейбус. Я тогда сумел отмазать – обещал в газете написать про доблестных гаишников статью. Илюша возле дома обнял так меня на радостях, что хрустнуло внутри и я потом неделю шевельнуть плечом не мог.








