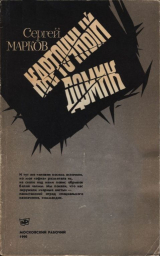
Текст книги "Карточный домик"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Почему я об этом вспомнил? Неужели теперь и Оля будет с этим сопряжена?
Надо заставить себя забыть. Все забыть. Вспоминать только детство, школу и то, что началось двенадцатого декабря прошлого года, когда я умывался снегом в аэропорту.
В ванной зашумела вода. Прислушиваясь к всплескам, к песенке про собаку и дворника, которую тихонько напевала Оля, я смотрел на площадь. И снова, в который уже раз после возвращения, мне показалось странным, что едут машины, троллейбусы, спешат куда-то мужчины и женщины, модно одетые девушки и парни, вон идет по той стороне в обнимку парочка, она в мини-юбке, в разноцветных сапогах, с всклокоченными фиолетовыми волосами, он – в цепях, в железных собачьих ошейниках, – а там в это время, может быть, в эту самую секунду такие же, как он, ребята…
Но забыть, забыть. О чем-нибудь другом думать. Я никогда не жил в настоящей гостинице. Мы с мамой ездили в другие города, но останавливались у родственников или у знакомых. Однажды в общежитии. И в Доме колхозника, где шесть человек в комнате. А здесь и всю жизнь можно было бы прожить. Картина Саврасова «Грачи прилетели». Тумбочки лакированные. Люстра. Графин. Телевизор опять-таки, который надо будет настроить. Хотел сам забронировать номер, позвонил еще в апреле. Но, оказалось, что это невозможно. Даже Олиному отцу удалось с большим трудом. Опять Семен Васильевич. «Что бы мы без папы делали?» – сказала Оля, узнав, что и билеты на поезд в свадебное путешествие нам достал ее папа через своего давнишнего знакомого полковника, ведающего воинскими кассами. А Семен Васильевич, похлопав меня по плечу, сказал: «Эх ты, пехота». Я ответил, что служил не в пехоте. Но когда он начинает говорить, то не слышит никого, а потом, смачно зевнув, лязгнув стальными коронками во рту, уходит, ложится спать. И он сказал, приготовившись к зевку: «Все вы – пехота».
За дверью ванной стало тихо.
– Черт побери! – ругалась Оля, вращая краны. – Ну я так и знала, ну просто уверена была, что вода кончится. Мне везет. Тихий ужас прямо! Слава богу, хоть мыло успела смыть.
Она вышла в длинном махровом халате, с мокрыми взъерошенными волосами. Улыбнулась.
– Почему ты мне не говоришь «с легким паром»?
– С легким паром.
– Чертов водопровод. Чуть-чуть воды не хватило для полного кайфа. Что ты стоишь, как истукан?
– А что мне делать?
– Во-первых, не грубить. А во-вторых, быстренько обнять свою девочку и поцеловать. И сказать, что любишь. Учить тебя всему…
– Крепко обнять? Чтобы мы с тобой стали одним?
– Конечно. Только с ума не сходи.
Потом, когда высушила феном волосы и накрасилась, она сказала:
– Глупый ты. Как ты не понимаешь, что я хочу, чтобы у нас с тобой все красиво было. А не так.
Она надела клетчатую красно-черную юбку, кожаный пиджак и туфли на высоких каблуках.
– Возьми плащ, замерзнешь, – сказал я.
– Ты что, забыл, что скоро лето?
Мы вышли. В Москве в это время совсем уж темно, а здесь ночь все не наступала. Бледно-зеленое в коричневатых разводах небо за темными резными силуэтами старых домов было похоже на театральный задник.
Оля взяла меня под руку, и мы чинно двинулись от площади по проспекту мимо тускло освещенных витрин. Народу было много, поблескивали в толпе ордена и медали фронтовиков, приехавших в город на День Победы. Завтра с утра будут митинги, встречи, слезы, цветы, песни, а сегодня фронтовики не спеша дефилировали по проспекту и улицам, асфальт которых остался неисковерканным гусеницами «тигров» и «пантер», хотя были немцы совсем близко.
– Папу в нескольких километрах от города ранило, – сказала Оля. – Хорошо, что мы сюда приехали, правда? Я бы ни за что не пошла под фатой к Вечному огню или еще куда-нибудь. А вот так приехать в город… Ты не обижайся на папу, когда он тебя учит. Он ведь жизнь прожил. И какую.
– Я и не думал обижаться.
– Если бы не они… – сказала Оля, глядя на фронтовиков. – Представляешь, они совсем молодыми тогда были. Как мы. Или даже еще моложе. И вот теперь впервые, может быть, с тех пор встречаются. Представляешь?
– Представляю, – ответил я, хотя плохо себе это представлял и однажды сказал Оле, но она назвала меня циником. А меня действительно удивляло, что так много народу знало друг друга на войне. Я вот, например, не знал почти никого даже из соседнего ДШБ, в котором служил раньше Павел. И нас, батальон специального назначения, они знали плохо, и однажды их борзый прапор, едва ли не вплотную подойдя, открыл огонь из пулемета с брони по двум нашим ребятишкам, спускавшимся с сопки, – за «духов» принял.
– Я так люблю, когда папа рассказывает про войну, – говорила Оля. – Он иногда про одно и то же по-разному рассказывает, но ведь столько лет прошло. Страшно. Мне иногда снится война: родители потеряли меня, я куда-то бегу, бегу, а вокруг бомбы, взрываются… Знаешь, о чем я думаю, когда просыпаюсь после таких снов? Я Бога или еще кого-то там благодарю за то, что у нашего поколения войны не было. Это страшно. Мы даже представить себе не можем, как это страшно. Смотри, – Оля указала подбородком на низенькую коренастую женщину, могучая грудь которой была увешана орденами и медалями, переливающимися в бликах фонарей.
– Да, – сказал я.
– А почему ты свой орден никогда не надеваешь? – спросила Оля. – Ты его взял с собой?
– Взял, – сказал я.
– А когда мы поедем к твоему Онегину?
– К Игорю Ленскому? Съездим.
7
Мы вышли на набережную. Немного постояли и пошли вдоль чугунной ограды. Вода была темно-бурой, в ней отражались сморщенные, точно подушечки пальцев от стирки, огни. Я взял Олю за руку, а она вдруг рассмеялась.
– Ты что?
– Ничего. Я просто вспомнила, как весной в девятом классе мы с тобой вот также вдоль Москвы-реки бродили. Помнишь? И ты боялся взять меня за руку. Это в тот вечер было, когда тебя комсоргом избрали. Ты такой важный был на собрании, такой смешной.
– А потом мы сидели на скамейке, и я все-таки взял тебя за руку.
– Нет, я первая. Туча над Ленинскими горами была похожа на медведя, и я сказала тебе об этом, взяв за руку. А ты сделал вид, что не заметил. И сказал, что не на медведя похожа туча, а на слона.
– Она и была похожа на слона. С хоботом.
– Не было никакого хобота.
– Был.
– Не было. Прекрати со мной спорить!
– Почему?
– Потому что я женщина, ты должен мне уступать.
– Ладно. Если женщина просит…
– Прекрати пошлить.
– Песня такая есть. В армии ее любят.
На большой скорости пронесся «ЗИЛ», чуть не обдав нас водой из лужи.
– Идиот, – погрозила ему кулаком Оля. – Пьяный, наверное. А что бы ты сделал, если бы он меня сейчас сбил? – спросила она. И добавила с ударением: – Насмерть.
Я не ответил.
– Слушай, – сказала Оля. – Я тебя все хотела спросить… Раньше, конечно, надо было, но лучше поздно, чем никогда. Там у тебя был кто-нибудь?
– Ты об этом у меня уже раз двадцать спрашивала.
– Да? Не помню. Ну так был?
– Где?
– Ну, в госпитале, скажем. Ты ведь больше месяца там пролежал. И такие письма мне писал оттуда хорошие. А один парень…
– Какой?
– Неважно, ты его не знаешь.
– Какой парень?
– Боже мой, ну, приятель Андрюшки Воронина, на одном курсе учатся. Они, кстати, через два месяца лейтенантами запаса уже будут.
– А…
– Что – «а»? – посмотрела на меня Оля. – Что значит это твое «а» идиотское? Ты ревнуешь? Так и скажи, что ты ревнуешь и веришь всему тому, что про меня наговорили тебе перед свадьбой.
– Я не верю, – сказал я.
– Многозначительные твои междометия мне надоели, понятно?
– Понятно. И что же этот парень?
– Он тоже служил в армии и у него был роман с медсестрой. Он рассказывал, как бегал к ней в самоволку по ночам. А там у вас, говорят, любая за двадцать чеков…
– Он был там?
– Нет, он под Москвой служил.
– А что он еще говорит?
– Что все оттуда фирменное тряпье привозят…
– Я же тебе привез свитер.
– Он ведь велик мне, его папа носит. А кроме свитера…
– Ничего, – сказал я.
– Но это неважно. Так как насчет медсестричек? Как ее звали?
– У меня не было романа с медсестрой. И вообще никаких романов не было.
– Ах да, – улыбнулась Оля. – Я и забыла. Ты же страхолюд такой на фотографиях. Слава богу, я тебя в жизни лысым не видела. Близко бы не подошла.
– А Андрея Воронина все ж таки заставили подстричься на военной кафедре, – сказал я вдруг зло, с армейской интонацией, так, как разговаривают между собой «деды́» в курилке, обсуждая ершистого салагу. – Классная была шевелюра.
Оля посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Пошла по набережной.
– Оль.
Она молчала. Я взял ее за руку, думая, что она вырвет свою руку, но она не вырвала, и от этого почему-то защемило, тяжко и темно стало на душе. То же было в госпитале, когда я лежал без сна и думал о ней: где она, с кем она?
Хорошенько выспавшись – для этого нужны были как минимум две подряд ночи от и до, – помывшись в бане, я порой не знал после отбоя, куда деваться, выть готов был, как шакал, зубами стискивал что попадалось, однажды бушлат, который был вместо подушки, насквозь прокусил, но тетя Дуня все спала на сеновале, не подозревая ни о чем. И снилась она мне часто. А Оля не снилась. Лишь однажды, кажется, за все два года, за семьсот тридцать восемь ночей она пришла ко мне, в коротеньком летнем платьице в горошек, которого я никогда на ней не видел, а на голове у нее был венок из васильков и ромашек. Я что-то похожее в кино видел. Она опустилась на корточки, наклонилась надо мной, я хотел поднять руку, чтобы дотронуться, но рука была слишком тяжела или ее вообще не было, как у Резо, моего соседа по койке справа, уверявшего медсестер, что советский больной – самый здоровый больной в мире. Оля улыбалась, лицо ее было освещено солнцем, скользили тени от деревьев, гладили ее щеку, ее губы, ее шею. Ясные спокойные глаза мне говорили что-то нежное, и я отвечал, долго мы вели этот безмолвный разговор и понимали друг друга, как никто никогда, а едва губы ее разомкнулись – я проснулся. Это была не Оля. И не тетя Дуня. Наклонилась надо мной рано утром врачиха, которая заходила к нам в палату накануне, и у Резо кончик носа побелел, Шухрат застонал, у всех нас дух перехватило, как только мы ее увидели, потому что была она той самой, фотографию которой мечтает наклеить себе в дембельский альбом и обвести разноцветными фломастерами любой солдат, русский, белорус, грузин, латыш, – и независимо от того, кому сколько осталось до дембеля. Она была величественной и неприступной, как английская королева. Говорили, что жена генерала. Звали ее Анна Алексеевна. Однажды после отбоя я вышел из палаты, доковылял до туалета, покурил. На обратном пути увидел свет в ординаторской, услышал голоса – майора, командира хирургического отделения, и ее глубокий, низкий, ироничный голос: «Ты сам знаешь, а ля гер ком а ля гер, на войне как на войне, и ничего бесплатно не дается… Что? Повтори. Ха! За такую женщину? А ты меня случайно не спутал с одной из своих медсестер? Ну, хорошо, хорошо. Запри дверь. И свет потуши…» Я не спал в ту ночь. Под храп Резо, протяжный и печальный, как грузинская песня, я глядел в потолок палаты. И целый год потом слышал ее голос за дверью. А майору на утреннем обходе на вопрос, как я себя чувствую, так ответил, что через десять минут был выписан из медсанбата и следующей же ночью на боевой в «зеленке» едва не заглотил пулю – она пролетела в сантиметре от верхней губы; но я даже пожалел, что не заглотил.
– А все-таки ты в армии поглупел, – сказала Оля в темном глухом переулке, выходящем на проспект. – Надоело. Пошли в гостиницу.
– О чем ты думаешь? – спросил я, помолчав.
– Ни о чем.
– Так не бывает.
– Бывает, – вздохнула она. – Я есть хочу.
Ресторан в гостинице на наше счастье был открыт.
– Что вы нам посоветуете? – спросила Оля массивного сочногубого официанта.
– Посоветую на диету сесть, – сострил тот. – Не потому, что вам это необходимо, девушка, а потому, что знаю нашу кухню.
– А все-таки? – сказал я.
Официант пожал круглыми плечами.
– Берите что хотите, – сказал. – Все в меню указано. И побыстрей, а то кухня закроется.
– Принесите, пожалуйста, порцию икры… – начала Оля, но сочногубый ответил:
– Икры нет.
– Два салата из огурцов…
– Нет огурцов. Из салатов – только «Фирменный».
– Хорошо, – согласилась Оля. – Ромштекс возьмем или бифштекс?
– Ни того, ни другого. Гуляш. Если остался. И рыба.
– Какая еще рыба? – сказал я.
– Жареная, – не взглянув на меня, ответил официант. К нему подошел модный парень в широких мраморных штанах, что-то шепнул, и они удалились; вышел парень из ресторана со свертком в руках. – Ну так что решили? – спросил нас официант.
– А взбитые сливки у вас есть?
– Вы что, смеетесь, девушка?
Оля, огорченно отложив меню, заказывала то, что осталось на кухне, а я сидел и смотрел на наш столик как бы со стороны. Возвышается над нами этот мордастый официант, и глубоко ему плевать на нас. Он даже не презирает, мы для него пустое место. И ни черта мы не можем, потому что пикнем – уйдем голодными. А он уверен в себе, как гранитная глыба. Но даже не это обидно, другое: что Оля, моя гордая, капризная, своенравная Оля, говорит с ним, глядит на него снизу, будто провинившийся ребенок на строгого воспитателя в детском саду. Да и я тоже.
8
Молча мы съели салат «Фирменный» из вареной картошки с луком, взялись за гуляш, почти холодный, с немыслимой подливкой. В армии, конечно, обо всем этом я и не мечтал. Но армия есть армия. Один раз, правда, Шухрат нам приготовил потрясающий плов – когда мы раздобыли морковь, черный молотый перец, свежую баранину в виде месячного барашка, изюм… Всю ночь пировали. Но это один только раз.
– Какое-то невеселое у нас с тобой свадебное путешествие, – заметила Оля.
– Почему?
– Я и сама думаю: почему? – она подняла глаза. – Может быть, действительно подождать надо было до июня? Хоть потеплело бы. Как ты думаешь?
– Я думаю, что ждать не надо было, – ответил я. Настроение мое поднималось с каждым кусочком гуляша и глотком вина. – Давай еще выпьем.
– Давай, – сказала Оля и, отставив мизинец, двумя пальцами взяла фужер за высокую граненую ножку. – Выпьем, – глаза ее казались совсем темными, глубокими, и я видел, как усталость и раздражение в них понемногу переливаются во что-то иное, то, что я любил и чего не находил в ее глазах давно. – За что? За любовь, – ответила она себе и выпила. Сморщила нос. – Все-таки дикая кислятина – этот твой «Рислинг».
– Мой, – улыбнулся я, коснувшись под столом ее ноги, а она смотрела на меня сквозь блестящее стекло фужера. – Оле́нька, – шепотом я назвал ее, как прежде, до армии.
– Что, Коле́нька? – прошептала она в ответ.
– Я тебя люблю.
– Спасибо, – она опустила фужер. – Помнишь, в детстве была игра, кто кого переглядит?
– Помню.
– Я у всех выигрывала. Давай.
Она выиграла. Я глядел, глядел, и мне стало казаться, что я тону в ее зрачках, и пошел бы ко дну, не моргни я и не спрячь глаза, как только в зале притушили свет.
Оля захлопала в ладоши.
– Закругляйтесь, молодые люди, – сказала официантка, подсчитывая выручку на счетах.
– У нас еще мороженое с вареньем, – вспомнила Оля.
Я отправился на поиски сочногубого и не сразу отыскал его в лабиринтах.
– Мороженое принесите, пожалуйста.
– А уже нет мороженого, – почему-то с вызовом ответил он. – Закрыто все…
– Мы ждали больше получаса, – сказал я тихо. – Принесите, пожалуйста.
– Ты что, угрожаешь мне? – он поднялся со стула.
– Я вам не угрожаю, – постарался улыбнуться я. – Может быть, у меня просто голос такой. Мы заказали мороженое и…
– А в милиции не хочешь мороженого покушать? А?
– Не понял.
– Сейчас поймешь. Володя, – позвал он, и из глубины лабиринтов появился жующий милиционер. – Здесь пьяный.
– Я пьяный? – Возможно, потому, что бывал в ресторанах всего несколько раз в жизни, я опешил. – Я?
– В чем дело, гражданин?
Я хотел объяснить, но кровь бросилась в голову, задрожало что-то, точно закипая, вверху грудной клетки, и я в самом деле, должно быть, стал похож на пьяного. Со мной теперь часто такое, даже из-за пустяков.
– Пройдемте, – милиционер, щуплый человечек лет тридцати с рыженькими усиками, цепко ухватил меня за руку выше локтя и повел в зал.
– Что ты натворил? – Оля испуганно вскочила, уронив стул. – Что он натворил, товарищ милиционер?
– С вами гражданин?
– Да, конечно, мы… у нас свадебное путешествие, товарищ милиционер, – выпалила она, показывая обручальное кольцо.
– Оль, – сказал я. – Ну при чем здесь?
Милиционер крепко держал меня.
– Отпустите его, пожалуйста, – попросила Оля, и он отпустил, готовый в любой момент снова схватить.
– Документы у вас имеются?
Оля поспешно вытащила из сумочки паспорт. Проверив, милиционер потребовал и мой паспорт. Из-за столиков на нас смотрели с любопытством.
– Мы здесь, в гостинице живем, – сказала Оля. – В триста седьмом номере.
– Ясно, – сказал милиционер. – Чтобы больше этого не было. – Он вернул мне паспорт и ушел.
Появился официант.
– С вас одиннадцать восемьдесят восемь.
Я заплатил. Оля вышла из ресторана, а я дожидался сдачи.
– И две копейки? – осведомился сочногубый, бросив гривенник. Монетка прокатилась по скатерти и упала на пол.
– Поднимите, – сказал я.
Ненавистно пыхтя, он поднял.
– Что, две копейки тебе еще?
– Да, – сказал я. – Еще две копейки.
Оля сидела на диване в фойе. Там было много народу, в основном фронтовики. Разговаривали они в полный голос. Смеялись.
– Зачем ты? – спросил я.
– Что?
– Про свадебное путешествие.
– Ты можешь мне объяснить, что произошло?
– Я сказал, что он забыл принести мороженое.
– И все?
– И все.
– Не ври.
– Я не вру.
– Ладно. Я так испугалась, когда он тебя вывел.
– Чего ты испугалась?
– Не знаю. Сама не могу объяснить. Ты очень нервный какой-то.
– Пошли?
– Подожди. Посидим немножко здесь.
– Хорошо, – я сел рядом с ней, сунув руки в карманы, чтобы скрыть дрожь, с которой никак не мог справиться.
Помолчали, глядя на фронтовиков, толпящихся у стойки и заполняющих бланки за низенькими столиками.
– Их три процента всего осталось, – сказала Оля. – Даже меньше.
А из нашего спецназа, подумал я, каждый третий вернулся на родину грузом номер 200 на «черном тюльпане». Но тут же выругал себя за то, что не сдерживаю обещания не вспоминать. И опять вспомнил – когда Оля заговорила о том, как в восьмом классе меня забрали в милицию за драку с мальчишками, отнявшими у нее на улице банку консервированного компота, – я вспомнил другую драку. Если можно так назвать.
Была ночь. Нас с Витей Левшой окружили на сопке в лазуритовых горах. Сколько их было, мы не знали, а они знали, что нас двое, и хотели взять живьем. Мы отстреливались, пока были патроны. «Шурави коммандос, сдавайся!» – заревел в тишине мегафон. А потом на русском – и я узнал голос…
– О чем ты опять? – спросила Оля. – Пошли в номер. Ужасно пошло звучит, да? В номера́…
Мы подошли к лифтам, и нас окликнули сзади, из-за стойки:
– Ребята, вы не из триста седьмого будете?
– Будем, – ответил я, спиной почувствовав недоброе. Голос у администраторши был липкий и приторный, как патока.
Открылись двери лифта. Надо было нам войти, подняться, запереться в номере, тогда бы бабушка надвое еще сказала. Но мы этого не сделали. Мы подошли к стоике, держась за руки, и администраторша с сахарной улыбкой на морщинистом напудренном лице попросила у нас, кивая на фронтовиков, прощения за то, что приехали участники Великой Отечественной войны, однополчане, должны были приехать еще вчера, но приехали сегодня, только что, а номера все заняты, из пятьсот восемнадцатого пришлось женщин переселить, из четыреста третьего… и вот триста седьмой двухместный очень нужен.
– Вы уж простите, молодые люди, мы виноваты, но вы нас простите, завтра утречком все уладим, я обещаю, а эту ночку как-нибудь…
Я отошел. Оля что-то говорила администраторше, а потом вдруг громко незнакомым мне, чуть ли не истеричным голосом:
– Да дело не в том, что мы не можем провести ночь друг без друга! И вообще, какое вам до этого дело?
Администраторша продолжала размазывать по стойке патоку, пока Оля не сказала:
– Тогда мы вообще из вашей гостиницы уйдем.
– Что ж, – равнодушно ответила администраторша. – Дело ваше. Галь, выпиши квитанции.
– Не нужно нам никаких квитанций!
С трудом мне удалось закрыть Олин чемодан, потому что запихнула она туда платья и юбки как попало. Мы спустились, но мне пришлось вернуться, потому что Оля оставила в ванной тапочки.
– Давай лучше вернемся, – сказал я на улице.
– Ни за что. Я себя не в дровах нашла. А на твоем месте я бы не молчала, а…
– Что?
– Если бы я не знала, то я бы ни за что не поверила, что ты воевал.
9
Заехав в одну, во вторую гостиницу и услышав: «Нет мест», мы отвезли вещи на вокзал в камеру хранения и снова попробовали устроиться в гостиницу.
– Двухместный? – переспросил швейцар, сонный дядя с пушистыми усами, похожий на Сталина с той фотографии в газете на потолке у Филиппыча.
– Да, – ответил я, – мы муж и жена.
Швейцар, зевая, долго изучал наши паспорта. Сверял фотографии с оригиналами.
– Только что, значит, расписались?
– Да. Вчера.
– Позавчера, – поправил швейцар, взглянув на часы. – А почему так поздно паспорт получил? – он подозрительно прищурил глаз.
– Да не сидел я, папаш, – улыбнулся я, – в армии служил.
– В армии? А где именно? В каких войсках?
– Это имеет значение?
– Ладно, в армии так в армии. Сам служил, давненько, правда.
– Вы нас поселите?
– Нет, – сказал он, но возвращать паспорта почему-то не торопился.
– Что – нет?
– Двухместных.
– Тогда одноместный.
– И одноместных нет.
– А что есть?
Усы швейцара, глаза, все лицо его поползло вдруг куда-то мимо нас, мы и оглянуться не успели, а он уже расшаркивался у дверей, за которыми маячили яркие одежды. Это были пьяные молодые иностранцы. Один из них поскользнулся и рухнул бы, не подставь ему швейцар, низко пригнувшийся, свою спину. Чаевые, должно быть, выразились в конвертируемой валюте, потому что вернулся дядя улыбающимся.
– Суоми, – с отеческой нежностью в голосе пояснил он. – Так вам надолго, ребятишки?
– Да хоть на ночь.
– А точнее?
– Дня на три, – ответила Оля.
– Паспорта я ваши оставляю. Вот вам ключи. Как ехать – сейчас нарисую. Впрочем, уже поздно. Берите на площади такси и поезжайте. Двухместных номеров нет, зато двухкомнатная квартира со всеми удобствами в наличии, – он подмигнул.
– Цена? – спросил я.
– Ну… по два червончика, скажем, устроит в сутки?
– С каждого?
– Да что я, Змей Горыныч какой, – разулыбался дядя. – Живите – любитесь на здоровье. Мы с женой на дачу перебрались, так что никто вас не побеспокоит. Белье в шкафу. Рядом универсам, лес прекрасный. Хоть весь медовый месяц живите. Только не ссорьтесь, – он снова подмигнул. – По пустякам.
– Хоп, – сказал я.
Мы взяли из камеры хранения чемодан и сумку и поймали такси.
– Не, ребят, – зевнул таксист. – За один счетчик вас туда никто не повезет. Обратно-то порожняком пилить.
– Ладно, два счетчика, – согласился я.
Мы погрузили вещи и поехали по ночному городу.
– Мне так стыдно, – прошептала Оля. – За то, что я в гостинице устроила. Фронтовики, пожилые люди, им ночевать было негде, а я… Но когда она начала про то, что мы как-нибудь переспим друг без друга одну ночь, и все стояли, слушали… Я не выдержала. Я хамка, да? Я эгоистка, да?
– Не бери себе в голову.
– Но все к лучшему. – Оля ущипнула меня за палец.
– Конечно.
– Будем жить одни в двухкомнатной квартире. Я не люблю гостиницы.
– Я тоже.
– В них все чужое, казенное.
– А там, куда мы едем?
– Мы представим себе, что это наша квартира.
– Хорошо, – сказал я, привлекая ее к себе. – Представим.
– А на самом деле, если даже папе и удастся пробить, то все равно квартира у нас будет не раньше чем через три года. В лучшем случае. Ведь размениваться-то они ни за что не захотят. Ума не приложу, где мы с тобой будем жить?
– Что-нибудь придумаем.
– С родителями? Или в комнате с твоей мамой?
– Снимем.
– Ты не знаешь, что это такое – снять в Москве квартиру или комнату. Да и на какие шиши, интересно? На мою стипендию?
– И на мою.
– Итого – восемьдесят, пусть девяносто. Это если ты еще поступишь.
– Поступлю.
– А квартира стоит не меньше сотни в месяц. И это, естественно, не в центре, а где-нибудь в Коньково-Бирюлеве. Или еще дальше.
– Ничего, – сказал я. – Что-нибудь придумаем.
– Думай, думай… муж. Объелся груш. Я точно знаю только одно: с родителями нам не жить.
– Подрабатывать буду. Может, сразу же на вечернее поступлю.
– Ну и толку? Что ты умеешь делать-то? Вагоны разгружать? Ведь ты до армии ничем не занимался, кроме своего дзюдо.
– Электриком работал.
– Да, я помню, – рассмеялась Оля. – Без году неделя. А знаешь, сколько у папы профессий? Двенадцать! Он и шофер, и плотник, и… Ладно, что об этом говорить. Который час?
– Четверть второго, – сказал я, глядя в окно на темные дома и тускло светящиеся через один фонари.
– Я завтра весь день просплю. А что мы вечером будем делать?
– Посмотрим.
Машина свернула с проспекта на бульвар, потом на узкую неосвещенную улочку, въехала через арку во двор, за которым город кончался и начинался лес.
Я заплатил, и мы вышли. Светились из всего огромного панельного дома только два окна на восьмом этаже.
– Это наши, – со смехом сказала Оля. – Нас ждут.
– Кто?
– Не знаю. Домовой. Или ведьмы. Но я уверена, что ключи у нас именно от той квартиры. Ведь нам везет с тобой.
Мы поднялись, и сразу стало ясно, что Оля права. Из-за обитой дерматином двери с номером, который написал нам на листочке швейцар, доносилась рок-музыка, топот и пронзительно, хрипло кто-то визжал.
– А может быть, мы дом перепутали?
– Тридцать девять, корпус два.
– Что будем делать?
Сказать я ничего не успел – дверь распахнулась, выбежала зареванная, с размазанной по лицу краской девушка, за ней здоровенный волосан-бородач в свитере и полосатых трусах.
– Заходите, ребят, – басом бросил он нам через плечо и убежал, сотрясая лестницы, вниз.
– Зайдем?
– А что нам остается? – улыбнулась Оля. – Здесь хоть весело, судя по всему.
– День Победы уже обмывают.
– Чем это пахнет?
– Что-то знакомое…
10
Мы вошли и через пять минут сидели на диване между длинноволосыми, мутноглазыми, сонными девушками и такими же парнями. Пили сухое вино из двух стаканов, потому что больше посуды не было. В соседней комнате ревел магнитофон. На кухне выясняли отношения – кто-то кого-то предал и продал, но пытался доказать, что все как раз наоборот.
– Здорово, да? – толкнула меня под локоть Оля. Глаза ее блестели. – Я тебе не говорила, я как раз об этом мечтала, когда мы таскались из гостиницы в гостиницу: чтобы шумная большая компания, чтобы музыка. Я люблю. Мы ведь с тобой совсем еще молодые, да?
– Конечно, – согласился я.
– И мы ведь будем иногда вот так гулять?
– Будем.
– Здорово, что мы никого здесь не знаем, и нас никто не знает, но никто даже не удивился, что мы пришли почти в два часа ночи.
– По-моему, здесь ничем не удивишь.
– Тебе не нравится?
– Нравится.
Подошел волосан-бородач, успокоивший на лестнице девушку, которая оказалась хороша собой, с монгольским разрезом больших глаз. Он посадил ее рядом с нами, она закинула ногу на ногу, демонстрируя белые ажурные колготки, и попросила спички. Я ответил, что не курю. Она стала разглядывать шрам у меня на запястье.
– Больно?
– Нет, – сказал я.
– Я умею снимать любую боль, – она прикоснулась к шраму кончиком мизинца.
– Она правду говорит, – сказал бородач. – Кстати, что вы как не родные сидите? Меня Митя зовут, – он пожал руку сперва Оле, потом мне.
Он оказался племянником переехавшего на дачу швейцара. Мы сказали, что из Москвы, ночевать нам негде. Племянник ответил, что никаких проблем быть не может. И добавил утробным басом: «Чуваки».
– Вы танцуете? – он взял Олю за руку и увел.
Сосед, прыщеватый очкастый юноша лет восемнадцати, стал яростно мне доказывать, что лучше «Дип пёрпл» в мире группы нет и быть не может. Я согласно кивал, а он хватал меня то за локоть, то за колено, напевая какие-то мелодии. Потом вдруг исчез, вернулся и потребовал, чтобы я слушал, но за стеной сменили его любимую кассету, и он снова исчез. Теплой ногой к моей ноге прижалась девушка с монгольскими глазами, с торчащими розовыми и зелеными прядями завитых волос. Спросила, в чем я вижу смысл жизни и уходит ли, на мой взгляд, талант, если он был, вообще, что такое талант? Парни смотрели сонными нетрезвыми глазами. Оля все не появлялась. Девушка, которую звали Анджела, вывела меня на середину комнаты, и мы стали танцевать, не обращая внимания на музыку. Она прижималась ко мне. За столом спорили о каком-то знаменитом гитаристе, который к нам в страну почему-то никогда не приедет, о фильме, который у нас никогда не пойдет. И еще о многом спорили, неожиданно соскальзывая с темы на тему. А я молчал, но не только потому, что мне нечего было сказать. Снова, как в тот вечер в начале февраля, когда мы собирались классом у Андрея Воронина, я чувствовал себя в компании лишним. Мне трудно будет забыть, как смотрели на меня одноклассники, и как я пытался в разговоре под них подделаться, шутить, но ни черта не получалось, и как потом на кухне и на лестнице расспрашивали, будто обязаны были, и девчонки учили танцевать, словно выполняя комсомольское поручение, я чувствовал, что все они и жалеют меня и им скучно, и чувствовал, как постепенно перестают они меня замечать, зациклившегося на смерти, – «Не зацикливайся, старичок, на смерти, – посоветовал мне одноклассник, – жизнь продолжается», – меня, состарившегося за два года лет на двадцать, они, занятые своими разборами, и я уж вовсе чужим, ненужным становлюсь, уйди я – никто бы и внимания не обратил, кроме Оли; но тут подошла Наташка Самкова, что-то сказала и потом вдруг: «Мне так жаль всех вас, которые были и теперь там…» – я помню, как потемнело у меня в глазах, не столько от смысла слов, сколько от интонации, от взгляда ее, затрясло всего изнутри, и я едва с собой совладал, а то бы не знаю, что сделал. Анджела, вихляя бедрами, снова потащила меня танцевать и прижималась еще крепче, и спрашивала, нравятся ли мне ее духи. А Оля все не появлялась. И потом, совсем недавно встретил у метро Зинаиду Викторовну, нашу классную руководительницу, у которой сын служил в шестьдесят восьмом году в Чехословакии, и она нам много рассказывала на уроках новейшей истории о том, как счастливы были чехи, когда наши танки вошли в Прагу и стали на Вацлавской площади, – а тут вдруг: «Мальчик… – и слезы на старушечьих глазах, – я знаю, все знаю, мне девочки говорили, что ты был тяжело ранен… Бедный мальчик…» Взяв меня в углу за руки, глядя в глаза, Анджела читала с придыханием свои стихи без рифм и без смысла. Потом потребовала, чтобы я сделал критический разбор. Потом потащила меня на кухню и познакомила со своими братьями, один из которых был эстонцем, а другой – жгучим кавказцем. Анджела сказала, что я ей симптоматичен, что она порами чувствует во мне то, чего катастрофически не хватает ей в других особях мужского пола. Кавказский брат сверкнул золотыми фиксами. Обругав братьев, взяв с подоконника сумку, Анджела вывела меня на лестницу и, погладив меня ладонью по груди, сказала, что хочет со мной покурить тет-а-тет. Вышел на площадку очкастый юноша, спросил, не могу ли я достать «Хедвотэр» за любые бабки. Анджела лениво покрыла его матом и прогнала. Села на ступеньку. «Хоть с тобой поторчим по-человечески. Ты с войны вернулся?» – «Как ты узнала?! Тебе сказали…» – «Никто мне ничего не говорил. Я осколки в тебе вижу». – «Правда?» – «Глупыш, – прошептала она, облизывая пухлые губы. – Я же экстрасенс. Знаешь, у меня никогда не было мужчины, начиненного железом. В обычном, пошлом понимании у меня вообще мужчин не было, потому что я страшусь пошлости. Я девочка. Пойдем наверх». – «Зачем?» – «Пойдем, дурак, пока я не передумала!» Я покорно поднялся за ней. На лестнице, ведущей на чердак, она усадила меня, а сама встала на колени, но едва лишь прикоснулась ко мне со словами «вот здесь осколок и здесь» – я вскочил. «Боишься?» – «Просто не хочу». – «А как ты хочешь, чтобы я тебя приласкала?» – «Никак». – «Чеки у тебя есть?» – «Чеки тебе нужны?» – «Нужны, – сказала она, глядя мне в глаза, и зашипела, похожая на гюрзу: – Нужны! Импотент проклятый, думаешь, я спесиаль подъездная, да? Ты способен лишь убивать женщин и детей, ненавижу, ты весь в крови, и не надейся, не отмоешься, фашист…» – «Заткнись!» Я схватил ее за горло, но отпустил, она обмякла, не сопротивлялась и не сказала больше ни слова, открыла трясущимися пальцами сумочку, вытащила папиросу, прикурила – и тут только я понял, почему такой странный, хорошо знакомый мне запах стоит в квартире. Хотя должен был понять и раньше. Бросился по лестнице вниз, в квартиру, в другую комнату и не сразу в полумраке разглядел Олю, которую с двух сторон обнимали Митя и другой парень с вовсе уже осоловевшим взглядом. Племянник гладил Олино колено, юбка ее была задрана, рубашка на груди расстегнута. Прикрыв глаза, откинувшись на спинку дивана, она курила папиросу – медленно, глубоко затягивалась и еще медленней выпускала густой дым изо рта, изломанного, с размазанной вокруг помадой, обезволенного, согласного на все. Я подошел. Взял папиросу, передал ее Мите, пробасившему: «Присоединяйся, старикаш». Я стал поднимать Олю с дивана, но появилась Анджела: «Куда ты ее тянешь, что ты с ней делать собираешься, импо-82, в ванночке купать?» – «Пошла ты!..» – рявкнул я. «Ты нашей Анджелочке не груби, старикаш», – сказал Митя и, не вставая с дивана, ударил меня ногой в живот. Я отлетел к стене, бросился на него, но сзади шарахнули по голове чем-то тяжелым, вроде кассетного магнитофона, я упал, били ногами, Анджела, визжа, все норовила попасть мне каблуком в висок или в глаз, я откатился под стол, поднял его спиной, припечатал к стене двоих – и тут уж им не светило: племянника я сразу и надолго отключил, остальные волосаны убежали.








