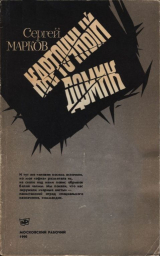
Текст книги "Карточный домик"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
11
Светало. Я шел быстро, слыша за собой торопливый, сбивчивый стук каблуков. Я не оборачивался, пока не дошли до бульвара. Там я остановился, чтобы сменить руку, – чемодан казался тяжелее, чем днем.
– Подожди, – сказала она со злостью. – Я устала.
Я посмотрел на нее.
– Застегнись.
Она неверными пальцами застегнула пуговицы.
– Извини, – сказала она фальшивым, развязным голосом.
Я пошел по бульвару, и она пошла за мной. Она спотыкалась.
Я шел широким размеренным шагом и, как на марше, старался не думать о том, что позади, что впереди, уворачиваться от недобрых мыслей, летящих навстречу прямо в лоб из предрассветной мглы. Небо над крышами высвечивалось. Зеркально блестели на верхних этажах черные окна и лужицы на асфальте с отражающимися в них бледно-фиолетовыми фонарями. Пахло городским, с бензиновой примесью, туманом, влажной землей и травой. Я свернул на проспект.
– Я больше не могу, ты слышишь? – сказала Оля четверть часа спустя. Голос у нее был уже другим. – Ты слышишь? Коля. Я не могу больше. У меня болят ноги.
Я не оборачивался.
– Коля. Ну пожалуйста… Ну у меня правда очень болят ноги, я не могу! Слышишь? Я не пойду дальше. Иди один.
Шагов через сто, возле клумбы с тюльпанами она опустилась на скамейку и сняла туфли. Я прошел вперед, остановился возле стенда с газетами.
«На фоне знаменитого моста Тауэр в Лондоне был дан старт необычайного морского плавания. В день своего двадцатилетия англичанин Бил Нийл отправился отсюда в дальний путь к берегам Балтики. В качестве средства передвижения он воспользовался… обыкновенной ванной, которую почти каждый городской житель имеет у себя дома. На «корме» ванны установлен легкий мотор».
А где я был в день своего двадцатилетия? В санчасти валялся с ангиной, которую заполучил на войне в горах. И ребята притащили мне полный рюкзак винограда, крупного, продолговатого, вроде «дамских пальчиков», и кишмиша без косточек. Никогда мне больше такого сладкого винограда не поесть. Я об одном жалел – что на дембель нельзя будет с собой пару рюкзачков винограда захватить, чтобы угостить Олю. А какие абрикосы там были! А дыни! Капитан-танкист, приехавший на второй срок, сказал: «Прихожу я у себя в Минске на рынок, приценился – вот это ни фига себе, думаю. Тут же и решил сюда вернуться. Хрена вам лысого, а не двадцать пять рублей за дыню! Один афгань еще куда ни шло. И то в базарный день. Про гранаты уж не говорю».
О чем я думаю? Нарочно, чтобы о другом не думать. Оглянулся – Оля смотрела на меня. Снова стал читать газету, но не читалось. Прошел еще шагов тридцать. Остановился.
– Коль, – позвала она.
Глупым показалось обижаться на нее, хотя под горлом до сих пор что-то клокотало. Но я чувствовал облегчение после разминки – впервые с тех пор, как вернулся. Я подошел. Она снизу жалобно смотрела на меня.
– Сядь, – тихо сказала.
Я сел.
– Поближе, – сказала она.
Я пододвинулся.
– Еще ближе, – прошептала она, подбирая на скамейку ноги и медленно склоняя голову мне на плечо. – Обними меня. Пожалуйста. Как ты страшно дерешься… Не обижайся. Я не хотела, честное слово.
– Чего не хотела? – сказал я.
– Ничего, – она посмотрела на меня. Глаза ее, усталые, нежные, были так близко, что я отвернулся, потому что голова начала неприятно кружиться. – Ты когда-нибудь сможешь меня простить?
Я молчал. На тополь грузно уселась ворона. Замяучила где-то во дворе кошка. Прогрохотал за домами грузовик, должно быть, с прицепом. Снова сомкнулась над городом тишина.
– Я просто хотела, – едва слышно проговорила Оля, ластясь, как котенок, – хотела почувствовать то же, что и ты.
– Я?
– Я сперва не знала, что они мне подсунули, а потом… Ну прости меня!
– А потом?
– Хочешь, я сяду к тебе на колени?
– Садись. А что было потом?
– Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Ты думаешь, я совсем дурочка и не пойму. Но я не дурочка. Нет. И мне больно, что ты так обо мне думаешь. Тебе очень нужно кому-нибудь рассказать. Отца у тебя… ты его ни разу не видел с тех пор, как вернулся. У мамы своя семья, свои заботы, хотя она и любит тебя. Друзья? Те, с кем ты дружил до армии… в общем, они не друзья уже. Думаешь, я не понимаю? Павел Владычин? Но, во-первых, он старше тебя, а во-вторых, вы были там, теперь здесь… Ты мучаешься, потому что чувствуешь себя одиноким. Совсем одиноким. Я ведь не совсем тебе чужая. А? Ну ответь же!
– Не совсем.
– А я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, что я знаю. Про то, как там живут. Знаю, что там курят анашу, потому что ее полно. Она там вроде как у нас приправы к столу.
– Это тебе тоже однокурсник Андрея Воронина рассказывал?
– Нет. Ведь ты курил, правда?
– Пробовал, – сказал я.
– Вот и я захотела попробовать. Чтобы… прорваться, хоть как-то приблизиться к тебе. Ты далеко от меня. Я не говорила, думала, ты постепенно вернешься, станешь самим собой… Понимаешь?
– Не понимаю.
– Не будь жестоким. Я люблю тебя.
– Да. Я видел. Там, на диване.
– Не надо, я прошу. Я тебя очень прошу.
– Ладно. Не буду.
– Расскажи.
– Что?
– Где и как ты ее впервые курил? И что ты чувствовал? – Она устроилась на скамейке поудобней, укрыла ноги юбкой.
– Поспи лучше немного.
– Я не хочу спать.
Что я мог ей рассказать? После двух суток, проведенных под снегом и дождем в засаде, мы начали «операцию возмездия». Но сами попали под пулеметный огонь и реактивные снаряды подошедшего по ущелью со стороны границы подкрепления. Вырвались с потерями. Отбить удалось всех, потому что сколько ушло на боевую операцию, столько должно и вернуться. Вечером, добравшись до лагеря, отправив трупы в Джелалабад, согрели на сухом спирте консервы, поели немного и накурились, и хохотали, вспомнив, как наш молодой – «дух» – Санников, впервые попавший под такой обстрел, пытался укрыться от «утеса» – крупнокалиберного пулемета – за жиденьким кустиком и как взводный тащил его оттуда за ногу, а «дух» брыкался. Страшен был тот хохот в ночи. Игорь Ленский пел под гитару, и после каждой фразы мы взрывались, хотя смешного ничего не было. Миша Хитяев на руках бегал. И как-то вдруг все схлынуло. Почернело на душе. А потом мы лежали с Юрой Белым рядом в спальных мешках, он рассказывал о мореходке, об океанских теплоходах со многими палубами, с бассейном, с успокоителями качки, а меня мутило, чуть не выворачивало, и я изо всех сил старался держаться, не показать Юрке. Он рассказывал о Флориане, острове, где самые красивые в мире женщины и круглый год цветы, и ананасы с бананами, и луна в полнеба. «Будь оно все проклято», – думал я, видя лунную дорожку, уходящую за горизонт, и как выплескиваются на камешки серебристые языки волн, поблескивают водоросли, и обнаженных, с распущенными волосами мулаток, купающихся при луне. Я все и всех ненавидел в ту минуту. Меня колотило изнутри. В горах хохотали, рыдали и выли шакалы. Шумела под ухом рация. Было очень холодно. Я старался дышать как можно глубже, наполняя легкие воздухом, словно надувая воздушные шары, но чтобы Юрка не услышал. Понемногу дрожь унялась. Я смотрел на звезды и думал о том, что несколько часов назад застрелил человек двенадцать из АКСа и столько же, если не больше, уложил гранатами, и потом под скалой добил одного ножом в ухо. Но нет во мне жалости. Ничего нет. Жалость, страх, сомнения – все это я погасил в себе давно, еще когда прицелился и выстрелил впервые по живому, а не по мишени на стрельбище, и увидел, что не промахнулся, что бесформенная, окровавленная груда мяса лежит на дороге в том месте, где стоял человек с противотанковой гранатой, предназначавшейся нам. Но теперь другое. Я одеревенел и мог стрелять в таком состоянии сколько угодно и по кому угодно. Анаша? Нет. Ее действие кончилось, остался лишь легкий желтовато-зеленый, как тина, туман в мозгу и под веками. Тогда что? В бою звереешь, это понятно. А теперь? Это не было «чувством охотника», о котором твердил взводный, которое мы должны были искать и воспитывать в себе каждый день и каждую ночь. Я не воспитал. Не нашел. Хоть и не корежили, не выжигали мне душу тогда, как теперь, слова эти – «чувство охотника». Но то было другое. Будто проснулся во мне кто-то первобытно-жестокий, примитивный, дремучий, подчиняющийся лишь инстинктам. Ничего не было – ни детства, ни школы. И никого. А кругом только враги. Я один. И надо спасать себя, потому что никто не спасет и не поможет. Как угодно. Стрелять. Взрывать. Резать. Бить. Зубами рвать. Когтями – и потом, как в стихах, выковыривать штык-ножом из-под ногтей застывшую кровь. Я чувствовал, как схожу с ума. Но вдруг горьковатый вкус слез появился во рту – вспомнилось, я плакал в детстве, когда сосед застрелил из двустволки возле нашего забора бездомного рыжего щенка. И я заплакал, глядя в звездное небо. Мне стало легче. Шумела хрипло рация под ухом. Выли, хохотали шакалы. Юра спал.
Что я мог ей рассказать?
– Ты молчишь… – она подняла голову. – Ты знаешь, когда вы встречаетесь с Павлом, с остальными, меня не оставляет чувство… Ты только не обижайся, ладно?
Я кивнул.
– Мне все кажется, что вот отец и его друзья воевали, была настоящая война…
– Ясно, – сказал я и встал. – Пошли.
– Куда?
Я взял вещи и пошел по проспекту. Оля надела туфли и пошла за мной.
– Ты же обещал, что не обидишься.
– Я не обиделся.
– Ну правда, Коль. Мне все кажется, что вы…
– В войну играли, – сказал я.
– Не совсем, конечно, я знаю, там даже убивают, но… Помнишь тот четвертый стакан с вином, который наполнил Павел, когда мы пришли к нему после загса? Зачем? Для кого это? Я видела в кино про войну, что так делают… Ну объясни мне, пожалуйста.
– Этот стакан для нашего командира взвода, – остановившись, сказал я. – Он меня два раза от смерти спас. С Витей Левшой нас окружили в лазуритовых горах, Витя подорвался, а я заполз в штольню, раненый, и уже с жизнью прощался, и тут… Если бы не он, то ничего бы у нас с тобой не было. И не только меня он спасал – наш комвзвода. Поэтому Пашка и поставил стакан. Они с Пашкой были друзьями. Что тебе еще объяснить?
– Командира убили?
– Да.
– Ну а почему ты мне раньше об этом не сказал? Почему ты все скрываешь от меня? Папа и его товарищи, когда собираются, так много рассказывают, а вы…
Моросил дождь. С гор дул пронизывающий ветер. Но мы стояли расстегнутые и не отворачивались. Нас провожали на дембель. «Сынки, – говорил, то и дело прокашливаясь, замполит, – не пугайте вы там никого, на гражданке, моя к вам просьба. Не надо. Все равно правду не расскажешь. Да и не поверят вам».
– Кто он был, ваш командир взвода? – спросила Оля.
– Что значит – кто?
– Ну, какой?
– Обыкновенный. Старший лейтенант. За его голову миллион долларов давали.
– Кто?
– Они. Им за каждого нашего солдата платят – деньгами, лазуритом, рубинами. За десантника из спецназа – пятнадцать – двадцать тысяч. За подбитый танк – сто пятьдесят тысяч.
– А за голову командира миллион?
– Да, – сказал я, вспомнив, как ночью, поднявшись в полный рост на выступе в скале, взводный матерился страшным голосом в ответ на приказ сдаваться, а по нему били из автоматов и пулеметов, сверкали трассеры. Он был как заколдованный.
– Почему ты улыбаешься?
– Да так. Ты замерзла, пошли.
– Нет, нет, – сказала Оля. – Подожди. Прости меня. Но ведь ты знаешь, в газетах ничего почти не пишут о том, как вы… Верней, пишут, конечно. И по телевизору показывают. Но… Я страшную вещь поняла. Сейчас. Что я никогда до конца не пойму тебя. Сколько бы мы с тобой ни прожили.
– А мама твоя понимает отца?
– Война – это было совсем другое. Вся страна воевала. Мама сама была на трудфронте. Работали по двадцать часов, голодали… Она мне рассказывала, как впервые попали под бомбежку – повалились друг на друга, а бомба свистит и неизвестно, где упадет… И как за ее подругой по полю самолет гонялся… Скажи, а они, против кого вы воевали, они… – Оля усмехнулась, – совсем на нас не похожи?
– Похожи. Однажды ночью сидели у костра с пленным, моим ровесником из Кабула. Отец учитель, мать врач. О Достоевском говорили – «Братья Карамазовы» любимая его книга.
– Правда?
– И Чехова он читал. И Ремарка. И о поп-музыке говорили. Напевал мне песни Стиви Уандера. Они вообще народ музыкальный.
– И что стало с этим пленным?
– Не знаю. Утром увезли. Он у меня все адрес в Москве просил: переписываться, мол, будем.
Машина утром за пленными не пришла. Когда времени не оставалось, их, четверых, выстроили под скалой в ряд. «Дедушка»-дембель вызвал нас, сынов, прослуживших всего несколько недель, тоже четверых, – на «закалку». Не знаю, то ли случайно вышло, то ли видел «дедушка», как я сидел и разговаривал с тем пареньком, – поставил меня против него. Вытащил ТТ, потом передумал – «штык-ножом!» – скомандовал. Мы примкнули к автоматам штык-ножи. «На первый-второй рассчитайсь!» – «Первый – второй! Первый – второй!» Я оказался первым. «Коли́!» – приказал «дедушка», раскуривая трофейную сигару. Я не видел, что произошло справа – слышал лишь короткий всхлип и хруст ребер, расщепленных сталью. «Ну! – рявкнул «дедушка» на меня. – Особое приглашение надо, столица сраная! Долго дрочить будешь? Коли́, как красные беляков в кино кололи! Ну!!» Я не смотрел в глаза парню. Но чувствовал на себе его взгляд. Я не смотрел. Я никуда не смотрел. И, когда «дедушка» обматерил и плюнул в меня, я поднял автомат и с трех метров всадил стоявшему напротив парню в живот, в грудь весь «рожок». Патроны кончились, а я все давил и давил на гашетку, пока «дедушка» за невыполнение приказа не ударил меня носком сапога в берцовую кость. И потом он заставил меня снимать с парня, с того, что осталось, – японские часы «Сейко». Мертвую, но еще теплую, отрубленную от туловища пулями руку я и теперь порой чувствую в своей руке.
12
В такси было тепло. Оля прижалась ко мне. Тихонько замурлыкала, прикрыв глаза.
– Помнишь, Оль, в заявлении: мы взаимно осведомлены о состоянии здоровья каждого из нас… Мне кажется, я обманул тебя, поставив подпись. Осколки-то ладно, ерунда. Доктора говорят, что они сами выйдут со временем. Но что-то другое. Руки-ноги на месте, а такое ощущение, будто калека и скрыл это от тебя. Где-то внутри калека.
– Глупый мой, – нежно погладила меня Оля по голове.
– Когда в феврале собирались классом, я стариком себя чувствовал. И вот теперь. Честное слово.
Подъехали к гостинице. Дверь была заперта. Я стучал минут пятнадцать. Опухший со сна, со вздыбленными усами швейцар вышел из темноты и долго вглядывался в наши лица. Открыл. Я молча отдал ему ключи.
– Что стряслось?
– Все в порядке. Передумали. Неустойку заплатить?
Он вынес паспорта. Налетал влажный северный ветер. Хлестались у нас над головой ветви деревьев, метались лихорадочно кусты. Скомканная газета волочилась по площади. Мы пошли на вокзал, чтобы снова сдать вещи в камеру хранения. Народу на вокзале было немного – все, кому нужно было, приехали или уехали на День Победы.
В пять утра открылся буфет. Мы съели холодную жирную курицу, запили ее мутной бурдой под названием «Кофе сладкий». Руки вытереть было нечем.
– Как мне все это надоело, – сказала Оля, вытаскивая из сумочки финский носовой платок из набора, подаренного на свадьбу. – Все. И у меня ужасно болят ноги. И я хочу спать.
Мы пошли между рядами, высматривая свободные места, сели с краю, прильнули друг к другу, но Оля вдруг вздернулась, будто прикосновение ко мне ей неприятно.
– Что? – спросил я.
– Я совсем забыла, что у тебя удостоверение о праве на льготы, что ты приравниваешься…
– Забыла? – сказал я.
– Почему ты никому не показываешь удостоверение?
Удостоверение я показывал. Контролерам в электричке. Это было в начале весны, когда мы с Олей возвращались из Загорска. Три года назад мы ездили с ней в Абрамцево, тоже ранней весной. И, лежа над ущельем в засаде, засыпая в горах и наперед зная, что утром придется отдирать вмерзшие в лед волосы, десятки километров преодолевая марш-броском по барханам с «лифчиком» – боекомплектом, рацией, АКСом, а то и с пулеметом на плече, с разобранной ракетной установкой, в таком пекле, когда даже подшипники на вертолетах плавятся, – я мечтал, чтобы Абрамцево повторилось. И мечта моя сбылась. Ночью шел снег, а утром из окна электрички глазам было больно смотреть, так все искрилось, сверкало, мокро-радостно блестели прогалины – островки в снежном море. Лед на пруду истончился, под ним зеленела вода, но мальчишки катались на коньках и на санках. Снег был липкий, влажный. Оля слепила большой комок, бросила и попала мне по шапке и ужасно смеялась, а я догнал ее, поднял на руки, и мы вместе рухнули в сугроб. Удивительные в тот день у нее были глаза. Хмельные от света, от воздуха, от близости друг к другу, бродили мы, о чем-то беспрерывно болтая, по усадьбе и по лесу, где на сиреневом, покрытом шершавой коркой снегу в тени елей лежали, точно игрушечные, шишки и иголки, и светились пятна солнца, салатовые, палевые, голубые, янтарные. Потом мы поехали в Загорск. В лавре, слушая песнопение, Оля призналась, что прошлой осенью, когда так долго не было от меня писем, она пошла в Елоховскую церковь и поставила за меня свечку. «Я не верю в Бога, – прошептала она, глядя на размахивающего кадилом священника. – Но к кому еще я могла обратиться? Кого попросить?» Купола в сумерках отливали малинно-лиловым. Вечерний звон сулил нам столько радости впереди, когда мы всегда, каждую минуту будем вместе, что боязно было дышать, и говорил мне одному, а больше никто не слышал: «Вот она – награда, настоящая награда за все, о чем не можешь ты никому рассказать, храни ее, не потеряй». В темноте уже, усталые, с промокшими ногами, голодные, пришли на станцию. Электричка уходила, а следующую надо было ждать целый час, и билеты взять мы не успели. «Авось», – улыбнулась Оля, и я поцеловал ее, и мы целовались, стоя в прокуренном, исцарапанном гвоздями тамбуре, до тех пор, пока не легла мне на плечо рука и не услышали мы откуда-то сверху каркающий голос: «Так, ваши билетики, молодые люди». Я начал оправдываться: мол, бежали, не успели… Контролер, высоченный, со своих двух метров глядел на нас, и я казался себе мальчишкой, укравшим в магазине самообслуживания сдобную булку и теперь размазывающим по лицу слезы вместе с соплями. «Штраф», – сказал гигант, проверяя билеты у остальных в тамбуре. Подошла толстая контролерша. Молча стала качать головой, глядя на Олю, отвернувшуюся к окну. О нынешней молодежи начала, о том, что только и думают, как облапошить государство, которое их и кормит, и поит, и одевает, да и понятно, горя не знали, на всем готовом с пеленок, потому и вырастают хапуги, дармоеды, вот в старые времена… «Ишь, вырядилась!» – с ненавистью кивнула контролерша на Олю, а контролер каркнул сверху, как ворон: «Штраф». Я бы заплатил, но у меня осталось всего два рубля. Чувствуя, что Оля вот-вот расплачется – «простите нас, пожалуйста, мы больше не будем», – я достал удостоверение и пролепетал что-то жалкое. А они повертели в руках и вернули: «Это нас не интересует». Как будто я им квитанцию из прачечной подсунул. И я снова, в который раз за каких-то два с половиной месяца гражданки почувствовал себя беспомощным, как будто под огнем расстрелял весь боекомплект и в последнем «рожке» кончились патроны. Даже хуже. Потому что там не было Оли.
– Мы сейчас же пойдем в ближайшую гостиницу, – сказала она. – Ты покажешь свое удостоверение и потребуешь, чтобы нас поселили.
– Не буду я ничего требовать, – сказал я.
Но в половине седьмого мы вошли в гостиницу под названием «Салют». Сонная женщина из-за стойки нам ответила, мельком взглянув на удостоверение, что гостиница закрыта на спецобслуживание, но если мы подойдем после двенадцати, то, возможно, что-нибудь освободится.
– Спасибо, – сказал я.
Мы вышли, не глядя друг на друга, на площадь, измученные, опухшие. Отупело стали смотреть на лозунги плакаты, вывешенные в честь Дня Победы. На легковые и грузовые машины, движущиеся по кругу.
– Хороший город, – сказала Оля. – Спасибо тебе, дорогой, за это свадебное путешествие.
– Зачем ты так?
– И что мы теперь будем делать? – с недобрым смешком спросила она, ежась от холодного ветра. – Не знаешь? И я не знаю. Только сдается мне, что мы всю жизнь вот так проживем. Если проживем.
– Что ты имеешь в виду? – дернул меня кто-то за язык горячими шершавыми пальцами.
– То и имею, – она подняла руку с оттопыренным безымянным пальцем и как-то задумчиво и отрешенно посмотрела на помутневшее кольцо. – Ты прекрасно понимаешь.
– Почему?
– Надоели мне твои идиотские вопросы!
Она пошла по краю тротуара, и я пошел за ней. Оля остановилась возле кинотеатра. Там шел двухсерийный фильм про войну.
– Ты смотрел?
– Да.
– Я тоже, но делать нам с тобой в этом городе больше нечего.
Проболтавшись на улице до девяти, промерзнув, мы купили билеты и сели в фойе, дожидаясь начала сеанса. В тепле разморило, но спать на свету, под фотографиями белозубо улыбающихся киноартистов было неудобно. Оля стала заниматься со мной английским. Мое произношение раньше забавляло ее, ей нравилось меня передразнивать, но теперь раздражало, хотя она, будущая преподавательница, и не показывала виду, терпеливо повторяя межзубные и альвеолярные звуки. У меня выходило все хуже. Я замолчал. «И кому это все надо?» – тихо, будто самой себе сказала она и больше ничего не говорила. С неприязнью мы смотрели на входящих в кинотеатр.
…Операция была задумана для того, чтобы взять – живым или мертвым – главаря банды муллу Ахмада. Но он ушел, переодевшись женщиной, под паранджой. Опять ушел. Полгода назад он сидел в городской тюрьме и лишь когда убежал, сняв троих часовых, мы узнали, что это был он, Ахмад, сын миллионера, окончивший Оксфордский и еще какой-то университет, учившийся и в Москве. До городской тюрьмы он пробыл четыре дня у нас в батальоне. Переводчик-таджик уехал, и мы объяснялись с пленным на пальцах, жалея, что он не знает английского, который мы проходили в школе. Говорили ему все, что о них думаем, что сделаем с ними в скором будущем. Он кивал, улыбался и норовил пожать нам всем руки, а то и обнять. Мы смеялись. Называли его Гришкой. Потом выяснилось, что по-английски он все-таки немного лопочет – научил хозяин, на которого он батрачил в глухом кишлаке. Еще мы поняли, что читать и писать он не умеет, что бандиты убили его родных, увели женщин и силой заставили идти в банду, но по нашим солдатам он не стрелял и готов поклясться в этом. Было ему лет двадцать шесть. Он давно не брился, и у него отросла иссиня-черная борода. Взгляд его больших глаз был чуть рассеянным, как у близоруких, умиротворенным, порой даже ласковым. Он говорил, что мечтает побывать на родине Ленина, о котором много слышал. Однажды на рассвете, когда мы вернулись с удачной боевой операции, он окликнул нас с Володей Шматовым, показал, как переливаются бриллиантовые капли росы на броне и, прикрыв глаза, тихонько запел. Очень хорошо он пел, хоть и совсем не по-нашему. Мы присели рядом на траве, заслушались, глядя на золотящиеся, а с другой стороны – густо-синие, почти черные скалы. Воздух был удивительный, прозрачный и словно насыщенный крупицами серебра, всю долгую холодную ночь очищавшими его. И так тихо, что дух захватывало. Подошли ребята – Шухрат, Серега, Витя, – тоже сели на траву, стали слушать, забыв, что не ели, не спали, что у китайских кроссовок сгорели подошвы от ночного пятидесятикилометрового марша по камням… Дней через десять после того, как мулла бежал из тюрьмы, два наших отделения попали в засаду. Володю Шматова мы нашли распятым на арче. Ему отрезали все, что можно было отрезать, и содрали кожу, а перед казнью долго пытали кипящим маслом. Жители кишлака сказали, что это дело рук Ахмада, поклявшегося всех нас, «ночных дьяволов», весь батальон специального назначения во главе с нашим «Иисусом» – комбатом, распять. Вскоре мулла спалил кишлак, жители которого нам помогали. Никого в живых он не оставил. Всем окрестным мальчишкам платил по сто, а то и по триста афганей за каждую дырку в трубопроводе, за любую пакость. Заваливал нас «дезой», подсылая перебежчиков и «доброжелателей» из кишлаков. Возвращался из Пакистана с караванами, нагруженными несметным количеством оружия и боеприпасов. Несколько десятков человек сам застрелил из снайперской винтовки. И вот он опять ушел. А спустя две недели нас с Витей Левшой окружили, и, когда у нас кончились патроны, заревел мегафон в тишине: «Шурави коммандос, сдавайся!» И я узнал его голос, когда он сказал на русском: «Десантники, сдавайтесь. Это говорю я, мулла. Ахмад»
…Прозвенел звонок. Мы вошли в зал и тотчас, лишь погас свет, уснули, привалившись друг к другу.
13
Проснулся я от взрывов и не сразу сообразил, что сижу в кинотеатре. Кричали «За Родину! Ура!». Я облизал невкусные растрескавшиеся губы. Оля спала. На экране рушились под бомбами дома и мосты, строчили из автоматов, забрасывали пулеметные гнезда гранатами, сшибались в рукопашной. В прошлый раз я смотрел эту картину тоже сквозь сон и мало что запомнил. Нам в лагерь привезли ее после самой удачной на моей памяти операции – без потерь мы захватили огромный склад с боеприпасами, продовольствием, одеждой. Приняли душ, поужинали. Фильм начался, когда стемнело. Кое-кто из ребят сразу захрапел, но большинство держались, потому что кроме кино и писем какая у солдата радость? Комментировали с юмором. «Ну дает Санек! – говорил Миша Хитяев, у которого брат служил в показательной Таманской дивизии под Москвой и писал, что за полтора года службы и с псами-рыцарями успел перед кинокамерами повоевать, и с Наполеоном, и с белогвардейцами, и за Москву в сорок первом году бился, и Будапешт взял – остался лишь Берлин на дембель. – Ну, Санек…» – «Завидуешь?» – спросил кто-то. «Не-а», – ответил Миша. Павел, сидевший рядом, толкнул меня в бок, чтобы разбудить, но я не спал. «Они «За Родину!» кричали, когда шли в бой, – сказал Павел. – А мы материмся или молчим, как рыбы. Мне кажется, самое страшное в любой войне – немота. Когда права не имеешь…» Я младше Павла и об этом не задумывался. Я просто воевал. Выполнял приказы. Ждал писем от мамы и от Оли. Ждал, когда привезут кино. Счастлив был, если удавалось набить брюхо и поспать часа четыре кряду. Газетку почитать спокойно, присев где-нибудь за кустом и повесив ремень на шею. Сперва, конечно, трудно было. В первом моем бою, верней, уже после боя, когда прошли по полю, устланному кровавыми, перемешанными с песком и пылью обрубками, кусками пехоты, попавшей под массированный артобстрел, мне стало плохо. Думал, не привыкну. А потом привык. Почти ко всему. Даже о женщинах научил себя не думать, хотя это было трудно. Смотрели фильм про войну, зная, что завтра весь день – отдых. Постираться можно будет. Просто полежать, посмотреть на облака. И тут рассекла экран очередь из крупнокалиберного пулемета. Стреляли с гор. Ребята проснулись, но никто не стал прятаться, залегать, разве что несколько молодых повскакивали, а мы, «деды», стали свистеть и топать ногами, совсем как на гражданке, когда рвется у киномеханика пленка или что-то в аппарате заедает. Но когда эсеры запукали, засвистели и зашелестели – тут уже мы врассыпную.
– Мы где? – спросила Оля.
– В кино, – улыбнулся я, глядя на ее заспанное лицо.
– А, – сказала она и снова опустила веки, положила голову мне на плечо.
Полутора часов хватило, и больше я не спал. Я думал о нас с Олей. О том, что ни эта ночь, ни это утро ничего не значат. Раздражение прошло, не оставив следа. Она любит меня. Любит. И все вранье, что про нее говорили. Много злых людей. Завистливых. Мелочных. Они не знают, что есть гораздо более важные вещи в жизни. И сто́ит она гораздо дороже, чем они думают. А злых много. Жестоких. Ну и черт с ними.
Я вспомнил Олю девочкой-пятиклассницей, какой увидел ее, когда переехал в Москву и стал учиться у них в классе.
Солнечным осенним днем она вышла после уроков и вдруг сказала мне: «Пойдем мороженое купим». Девчонки из класса и мальчишки, Андрей Воронин, с которым я недавно дрался за школой, глядели на нас, и я не знал, как поступить. К тому же у меня не было ни копейки. Сказать, сама иди? Но я ведь мечтал о том, чтобы пройти вот так с ней по улице, поговорить о чем-нибудь, как взрослые, и, может быть, потом даже взять за руку. С первого сентября, с той минуты, как увидел ее, – мечтал. Она была выше ростом и смотрела на меня, глаза ее и бант в волосах блестели на солнце. «Сама иди», – ответил я, залившись краской, и не нашел, как скрыть это. Я тогда все время краснел. Как, впрочем, и теперь.
Прошло полтора года. Мы учились во вторую смену, и как-то зимним вечером Оля подходит ко мне в раздевалке и говорит: «Ты бы не мог меня проводить? Папа уехал, а мама задержалась на работе, и она сказала, чтобы кто-нибудь из мальчиков меня проводил до подъезда. У нас там темно во дворе и хулиганы». – «Ладно», – ответил я, пожав плечами, будто для меня это обычное дело, и покраснел, но успел ловко уронить шапку.
Помню, как мы шли, сперва по проспекту, потом свернули на улицу и на перекрестке, подождав, пока проедет грузовик, Оля сказала: «Ты не хочешь мне помочь?» Я взял ее портфель с радостью, которую никогда потом не испытывал, она рвалась наружу, под крыши домов, в темно-фиолетовое зимнее московское небо. Я умолял стрелки часов остановиться, чтобы мы никогда не дошли до ее подъезда. Чтобы шли вот так по улице, под аркой, где гулко, оглушительно, радостно хрустел у нас под ногами снег, и шли по дорожкам двора, где хулиганы перебили фонари, и чтобы доносились от голубятни их хриплые пьяные голоса; мне и боязно было, подрагивало в коленках, но я счастлив был, ожидая, представляя, как подойдут к нам двое, трое блатных и… В тот вечер я впервые почувствовал себя мужчиной. Я уверен был, что отдам за Олю жизнь. Я и теперь уверен.
Мы пошли на каток в Лужники, и она учила меня катиться спиной, а у меня не получалось. Сидели в раздевалке. Разговаривали. И потом я снова зашнуровывал ее высокие белые ботинки с фигурными коньками. Она положила одну ногу на другую, я опустился перед ней на колени и вдруг прикоснулся – случайно, страшась и мечтая об этом, – пальцами к ее ноге, упругой икре, обтянутой мягкой белой шерстью рейтуз. Мы катались по кругу под музыку, и шел снег, кружили снежинки, переливающиеся на свету серебряным, рубиновым, аметистовым, она ловила их ртом, ее теплая рука в варежке была в моей руке… Засмотревшись на небо, я упал, больно ударился об лед затылком, и она гладила меня по голове, улыбаясь, и шептала: «У кошки боли́, у собаки боли́, у мишки боли́, а у Кольки заживи». И она прикоснулась губами к краешку моих губ.








