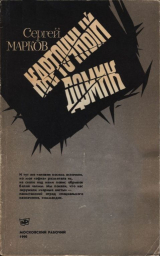
Текст книги "Карточный домик"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
«Наши победили?» – вскакивала моя бабушка, проспав перед телевизором весь фильм. Так же примерно и Оля, опять не сразу сообразила, где она – подумала, что дома.
Мы вышли. От света заболели глаза.
Прошли немного и уперлись в толпу, за которой под духовой оркестр в колонне по шесть маршировали веселые фронтовики, увешанные орденами и медалями.
– И сегодня, как сорок лет назад… – бодро говорил кто-то в мегафон.
«За Родину!» – кричали фронтовики, идя на смерть. Те, с которыми я воевал два года, кричали «Аллах акбар!» (Аллах велик). А нам оставалось лишь материться, поднимаясь в рукопашную. Нет ничего страшнее, чем смерть с матерщиной на устах. И когда воюешь, воюешь, штык-ножом колешь, с землей срастаешься в «оборонке» под пулями, таскаешь на себе по центнеру, голодаешь, спишь в снегу между камнями и вдруг саданет по темечку: ради чего? «Многие не поняли революцию, – говорил приехавший к нам в лагерь начальник «Хада» – афганских сил безопасности. – Безграмотный народ. В отдельных провинциях еще четырнадцатый век – тысяча триста шестьдесят второй год наступает. Душманы им платят, дают оружие, а с оружием можно и награбить сколько хочешь, и женщин набрать. Служат сперва в нашей армии, затем у душманов и документы получают и там, и там – на всякий случай. Танки подрывают чаще не душманы, а обычные крестьяне, мальчишки и этим зарабатывают на жизнь». – «Сколько здесь ни воюй, все без толку», – послышалось с задних рядов. Мы думали, замполит начнет про многострадальный афганский народ, про интернациональный долг, но он лишь посмотрел в ту сторону, откуда донеслись слова, и ничего не сказал.
Мы пошли обратно, свернули на проспект, увешанный флагами. Там тоже движение было перекрыто, кричали, хлопали, потом грянул прямо над нами из рупора марш «День Победы».
– Мы с тобой чужие на этом празднике, – сказала Оля грустно. – Пошли куда-нибудь.
Так мы шатались по городу от одной праздничной толпы к другой. Устали. Оля сказала, что хочет выпить вина. Я купил «бомбу» ноль восемь. Ни у Оли в сумке, ни у меня в кармане бутылка не поместилась, пришлось держать ее в руке.
– А где будем пить? – спросила Оля.
– В подъезде, – ответил я. – Помнишь, как под Новый год в десятом классе?
– Помню. Здорово было.
– И теперь здорово! Сейчас вмажем…
– А ты помнишь, в девятом классе на твой день рождения ты подрался с Олегом, когда он сказал в магазине, где фронтовики все лезли и лезли за водкой без очереди: «Надоели эти недобитки». И Олег избил тебя. Потому что был уже кандидатом в мастера по боксу. А до этого вы спорили, что сильней, его бокс или твое дзюдо. Помнишь?
– Помню.
– И потом мы на комсомольском собрании обсуждали поведение комсорга. Наташка Самкова особенно бушевала, крови требовала. А Андрей Воронин заступился за тебя. И я. А ты сидел в углу с фингалом, так ни слова и не сказал. Но сейчас я не хочу пить в подъезде.
– Давай дворик какой-нибудь найдем.
– В милицию не заметут?
– Напугал тебя вчерашний лейтенант в ресторане, – улыбнулся я.
– Никто меня не напугал, – сказала Оля. – И потом, неужели это вчера было? Да. Вчера. А мне кажется, что уже так давно. «Со светлой вершины дано вам отныне… Ребята! Будьте щедры на труд, любовь и крики рождений!» Как ты думаешь, что такое «крики рождений»?
– Не знаю.
– Создавайте прочную советскую семью и помните: чем крепче семья, тем прочнее наше общество. Тем ближе коммунизм.
Мы прошли по набережной, где дул ветер, бились о гранит волны, тащились по слезоточивому небу налитые мутью тучи. Свернули во двор, похожий на колодец, но там играли дети. Другой двор был весь завешан бельем, и там тоже играли дети, и мужики в плащах и кепках резались в домино.
– А почему мы не едем к Онегину, доброму твоему приятелю? Может быть, и нет никакого Онегина-Ленского в помине? Ты его придумал?
– Придумал? Зачем?
– Ну… я все твержу, что у тебя нет друзей, вот ты и придумал этого своего Ленского – друга, живущего в другом городе. А?
– Поехали, – сказал я.
– На такси?
– На метро.
– Почему ты так рассвирепел?
– Надоело.
– Что тебе надоело?
– Все.
– И я?
– Надоело, что ты меня все время в чем-то пытаешься уличить. В идиотизме чаще всего.
– Цезарь, ты сердишься, значит, ты не прав.
– Какого черта! – вскрикнул я, споткнувшись о чью-то ногу в вагоне.
– Прекрати, – сказала Оля. – А то ведь мне тоже может надоесть твое хамство.
– Прости.
Молча мы доехали до конечной станции, молча простояли на автобусной остановке под дождем минут двадцать. В автобусе народу было битком, пахло мокрой резиной и синтетикой. Я спрашивал, когда будет магазин «Диета», но никто мне ответить не мог и названия улицы, которое у меня было записано, никто не знал. Оля отрешенно смотрела в окно. Я увидел впереди большой стеклянный магазин с надписью «Диета» наверху.
– Оля, сходим, – сказал я и огрызнулся на окружающих, не выдержав: – А вы говорили – нет такого!
– Так это ж новая «Диета», сынок, так и сказал бы.
Пошли через пустырь с остатками бревенчатых изб, свалками, выкорчеванными липами. Оля молча шла впереди, не оборачиваясь. Возле голубятни остановились. Паренек лет четырнадцати чистил нагул, над головой у него на жердочках сидели мокрые, сонные, надувшиеся турманы, монахи, чайки.
– Чего надо? – угрюмо осведомился парень.
– Ничего не надо, – пожала плечами Оля. – А почему ты такой злой?
– Здесь вам не выставка, ясно?
– А если по шее? – осведомился в свою очередь я.
Паренек с ненавистью посмотрел на меня, на Олю, сплюнул сквозь щелочку между зубами, но промолчал. Открыл дверцу и на четвереньках влез вовнутрь голубятни.
– Ты никогда не гонял голубей? – спросила Оля.
– Гонял. С Лешкой Томилиным, ты же помнишь.
– Помню. А я никогда не держала живого голубя в руках.
– Хочешь? – я шагнул к голубятне, но Оля остановила:
– Стой, сумасшедший! Он позовет своих малолетних бандитов, и они…
Я усмехнулся, хотел открыть нагул, но Оля быстро пошла по тропинке. Я догнал ее.
– Я уже не хочу, – сказала она. – В детстве хотела, но боялась. Однажды в открытое окно залетел белый голубь и стал биться о стекло. А поймать его руками я боялась. Хотела полотенцем, но он все сильней бился. Ушла в школу. А когда вернулась, он мертвый лежал под батареей. Весь подоконник был усыпан окровавленными перышками. Я плакала. Я чувствовала себя убийцей. Втайне ото всех похоронила голубя во дворе под деревом, крестик маленький поставила. И ночью стихотворение написала, посвященное ему.
– Стихотворение? Ты писала стихи?
– Да.
– Я не знал.
– Ты много чего не знал, – сказала Оля. – И не узнаешь никогда.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что знаю. Потому что ты думаешь только о себе.
– Я?
– Ты. Все мужчины эгоисты. Вот собираетесь вы у Павла в этой вашей Слободе, кричите, спорите – но никогда не поймете, вам просто дела нет до того, что, пока вы там из своих крупнокалиберных пулеметов строчили и с парашютами прыгали, тем, кто вас ждал, было гораздо хуже – вашим родителям, вашим…
– Девушкам, – сказал я, обнимая ее за талию.
– Ужасно пошлое слово! Когда я слышу по радио передачу для воинов – «подруги, девушки», – меня тошнит.
– А как иначе скажешь?
– Не знаю. Никак. Это все вранье.
– Что – это?
– Все. «Не плачь, девчонка…» Вообще все. И то, что пишут в газетах про вас, и то, что папа и его друзья рассказывают. И мама. Верней, не вранье, конечно, нет – но и не вся правда. А разве бывает полуправда? Разве бывает, например, полубеременность? Нет, не бывает. И от этого все. Моего деда расстреляли в тридцать седьмом году. А я только прошлой зимой об этом узнала, говорили, погиб на какой-то стройке на Дальнем Востоке. И о том, что папа – как сын врага народа – в штрафном батальоне должен был кровью искупить вину, которой не было. И еще много лет скрывал это от мамы. И они потом скрывали от меня. Знаешь, как в спорте палочку передают эстафетную. Эстафета вранья.
– Ты мне не говорила.
– А зачем? Ты бы лучше стал относиться к моему отцу?
– Я к нему хорошо отношусь.
– Ты думаешь, я дурочка? Я не вижу ничего?
Я пожал плечами.
– Ну пойдем мы к Ленскому или не пойдем?
– Ты не хочешь?
– Спросил с надеждой он, – усмехнулась Оля. – Я вижу, что ты не хочешь.
– Пойдем, – сказал я и убыстрил шаг, но в этот момент нас обогнал на велосипеде голубятник; отъехав шагов на тридцать, он повернулся и обругал нас матом. – Вот гад, – развел руками я, потому что больше ничего не оставалось: гоняться за ним по пустырю, чтобы надавать подзатыльников, было бы смешно. – Что мы ему плохого сделали?
– Ничего. Но кто-то другой, наверное, сделал. Ничего просто так не бывает.
– Какая ты у меня умная, – улыбнулся я, и Оля улыбнулась.
– Опять-таки эстафета. Скажи честно, почему ты не хочешь идти к своему Игорю Ленскому? Он высокий? Он блондин или брюнет?
– Зачем тебе?
– Просто интересно. Ты помнишь, в школе в восьмом классе я Ольгу играла в «Евгении Онегине»? А тут Ленский.
– Он на того Ленского не похож.
– И я на ту Ольгу не похожа. Скорее, на Татьяну.
– У Игоря Ленского руки нет, – тихо сказал я.
– Как?
– Очень просто. Вот восемнадцатый дом. Корпус один. Шестой этаж.
«Ленские – 2 звонка». Я позвонил. Открыла дверь женщина.
– Вам кого?
– Игорь дома?
– Проходите. Игорек, к тебе!
– А, привет.
– Познакомься. Это моя жена. Оля.
– Игорь. Проходите. Какими судьбами?
– Сели в поезд и приехали. Заранее, правда, билеты взяли.
– Погулять?
– Ну да… У Оли здесь отец воевал.
– А. Понятно. Садитесь, в ногах правды нет.
– Да мы на минутку, так просто…
– Ну ладно – если так просто.
– Да нет, мы сядем, Игорь.
– Видишь кого-нибудь из наших?
– Пашку часто. Толика вижу. Саню. Виктора Гармаша. Помнишь Виктора? Из ДШБ?
– Нет. А как вообще дела? Работаешь?
– В институт буду поступать.
– В какой?
– В МГУ. На исторический. А ты?
– Я работаю.
– Где?
– В сберкассе.
– Поступать никуда не думаешь?
– Не знаю.
Помолчали.
– Ну… мы пойдем?
– Смотрите.
– Ладно, Игорек. Бывай. Рад был тебя повидать.
– Я тоже. Пока.
– Пока. А Юрка Белый поступил на капитана учиться, не знаешь? – спросил я в дверях.
– В морге работает на Урицкого. При мединституте. Вы бы к матери Саши Волкова зашли, она одна. Рада будет.
– Какого Саши Волкова?
– Не помнишь? Черпаком был, когда мы дембельнулись. Длинный, ушастый такой. В «вертушке» сгорел. Зайдите, одна она.
14
Мы долго шли по улице молча.
– Он до армии учился в консерватории, – сказал я.
– Боже мой.
– Почти по плечо ему руку. Говорил я тебе, что не надо было ходить. На тебе лица нет.
– И ничего нельзя было сделать?
– В каком смысле?
– Там, наверное, врачи чудовищные. Чуть что – они не раздумывая…
– Ему не врачи. Наши ребята.
– Ваши?
– Да. Ночью. «Духи» нас купили. Засела их группа наблюдения между двумя нашими взводами и открыла огонь. По нам. Мы ответили, думая, что второй взвод километра на три от нас отстал. А он как раз за «духами» в этот момент был.
– Значит, ты сам и стрелял по своему другу?
– Какая разница, я или не я?
– И вы так спокойно разговаривали… Боже мой.
Автобус сразу подошел. Оля села на свободное место, я встал рядом. Поехали мимо одинаковых серых панельных домов. За спиной разговаривали о передаче «Утренняя почта». Впереди мальчишки спорили о каком-то последнем диске. Я вдруг услышал голос Игорька: «Ребята, играть я вам больше не смогу». Спокойно так сказал, когда мы несли его к броне на плащ-палатке. Будто закурить у него попросили, а он ответил, что одна осталась, а ночь в карауле стоять. Как бы извиняясь. Покажи это в кино про войну – не поверили бы. Вот если б орал музыкант, потерявший руку, или плакал. У бывшего защитника «Таврии» из десантно-штурмового батальона «бакшиш», то есть, подарок к Седьмому ноября – реактивный снаряд – оторвал обе ноги выше колен. Хорошо помню: пук – шелест – вспышка – грохот с волной – тишина. Футболист не рыдал, не выл. Он только задышал сразу как-то странно-громко, часто, по-собачьи. И сознание не потерял. Он сказал: «А мне ноги» – в ответ на слова старшины, сидевшего у входа в убежище: «Мне руку оторвало». И это не был шок или действие промедола. Потом футболист попросил меня, потому что я был ближе, рассечь штык-ножом лоскуток кожи, на котором висела еще нога: «Что она болтаться будет, как эта, все равно уже не прирастет».
Автобус дернулся – я едва успел ухватиться за поручень.
– Возьми билеты, – сказала Оля.
Я пошел, взял, отдал ей, она проверила – не счастливые. Она вздохнула и отвернулась к окну, испещренному мелкими дождевыми каплями. Мы ехали мимо развороченного экскаваторами оврага. Автобус снова дернулся перед светофором, я больно ушибся коленом об угол сиденья и лишь потом, когда мы были уже на улице, а автобус ушел, с Олиной помощью восстановил в памяти, как бросился к шоферской будке, рванул дверцу, но, на мое счастье, дверца оказалась заперта, а может быть, рванул я ее в другую сторону, – и тут же ко мне подскочила Оля и выволокла меня из автобуса.
– Ты просто параноик, я поняла, буйный шизофреник!
– Извини, – твердил я, опустив глаза. – Извини.
– Я боюсь тебя, я боюсь с тобой оставаться, ты понимаешь? Я не представляю, как мы будем с тобой жить!
– Я больше не буду, Оль. Извини.
Она остановила такси, и мы вернулись в центр, поехали по набережной.
– Улица Урицкого далеко? Где мединститут?
– Нет, – ответил таксист, – у вокзала.
– Поехали туда.
– В морг? – спросил я.
– Это как нельзя более соответствует настроению. К тому же я никогда не была. А ты не хочешь повидать своего боевого товарища?
Мы зашли на вокзал, купили билеты и поехали в мединститут. Он был закрыт. «А для морга самая работа в праздники, – сказала нам пожилая вахтерша. – Прямо, налево, еще раз налево и еще, а потом направо вниз. Вы не возражайте только ему, Юрке. Нервенный он».
Едва мы спустились в полумраке по лестнице, как погрузились в плотный терпкий запах, незнакомый Оле и хорошо знакомый мне; я и прежде замечал, что запахи включают память быстрей и беспощадней чего бы то ни было, но тут был явный обман, потому что накатила вдруг веселость, зазвучали в памяти нетрезвые гортанные голоса, переливчатая музыка, и я не сразу вспомнил, как, отвезя на афганской «бурбухайке»[1] в морг груз 200 – пехоту, одного «самоварщика» – минометчика, одного нашего и двоих разведчиков, попавших под «град», – мы с Мишей Хитяевым загуляли в Джелалабаде, отмечая его день рождения, и так славно посидели в каком-то дукане на окраине, что проснулись под утро на губе, и, лишь начинали вспоминать вчерашнее, – едва не падали на цементный пол тюрьмы от хохота: было что вспомнить.
Не сразу я узнал Юру – там он ходил всегда стриженный почти «под нулевку», а теперь оброс, свешивались на уши грязные, слипшиеся, словно сиропом голову облил, волосы, кустилась редкая бороденка. А он меня сразу узнал. И показалось, что мы только вчера простились. Но мы обнялись и долго молча стояли так, обнявшись, а вокруг на столах лежали желто-зеленые голые трупы, и я забыл, что Оля здесь со мной.
– Уйдем отсюда, – сказала она. – Я не могу… я не знала, что это так. Вы пообщайтесь, а я на улице подожду.
Зажав пальцами ноздри и по сторонам не глядя, она торопливо вышла. А мы еще долго молчали.
– Давай за встречу, – предложил я.
– У меня прозрачный есть, – сказал Юра, уже изрядно выпивший. – Не брезгуешь?
Он достал из-под стола пузырек, мы сели, выпили граммов по пятьдесят спирта с каким-то нехорошим привкусом. Юру совсем развезло. Шатаясь, он стал ходить между столами и рассказывать, подхихикивая по привычке и с видимым удовольствием, точно краснодеревщик о своей мебели: этот удавился, тот, без головы, на мотоцикле под поезд, девчонка газом траванулась, старик сгорел, тетка из окна выпрыгнула, старуха от старости, мальчишка под автобус угодил… Мы еще по немногу выпили.
– Нравится работа? – поинтересовался я.
– Как на праздник каждый день хожу. Еще будешь?
– Нет, спасибо.
Он допил спирт. Поговорили о ребятах.
– У Игоря Ленского был. Он сказал, чтобы к матери Саши Волкова зашли. Помнишь такого?
– Я его чуть не убил, козла, – ответил Юра. – Однажды на подъеме выдохся и мины свои выбросил в кусты. А «духи» следом шли, нас же этими минами и накрыли в «зеленке». Ты в госпитале был.
– Чего уж теперь… Он в «вертушке» сгорел, знаешь?
– Знаю. Привезли цинковый ящик, закопали на Федосьевском, а мать с родственниками ночью пришла, выкопали, открыли – там земля. Она военкому чуть глаза не выцарапала. До сих пор уверена, что жив ее Сашка. Ты к ней не ходи. Она всех нас, которые вернулись, даже Игоря Ленского, ненавидит. А может, правда, жив? Поддам хорошенько… – Юра замолчал, лицо его вдруг постарело, зависли надо ртом морщины. – И кажется, мы там в войну играли, как в детстве, и попа́дали ребята понарошку. Помнишь, во дворе: «Падай, а то играть не буду!»?
– Каждый день поддаешь?
– Стараюсь принимать на грудь. А ты? Клевая с тобой телка – где подцепил-то, у нас уже?
– Это не телка. Жена.
– Ну ты даешь. Ну это ты здорово придумал. Это ж надо обмыть!
– Нет.
– Что, брезгуешь? Что, забыл, да, как мы…
– Кончай!
Стукнула входная дверь – реаниматоры привезли очередной труп.
– Юра, – спросил я в коридоре, – а как же бананово-апельсиновая и вся в цветах Флориана, про которую ты нам рассказывал? Уже не хочешь туда плыть? Быть капитаном?
Он долго пьяно на меня смотрел.
– Это не я – Мишка Хитяев, который теперь тоже без руки. Нет никакой Флорианы, ты понял? И ни хрена нет. Все туфта, что нам с детства в головы вдалбливали. Вся история с географией – туфта. Знаешь, что такое пушечное мясо? Мы с тобой. Затем нас и откармливало государство коржиками.
– Какими еще коржиками?
– Которые бесплатно в школьном буфете давали. Помоги жмурика закинуть.
Юра долго меня не отпускал, я еле вырвался, а он кричал, что уроет меня, если еще встретит, потому что я предал ребят…
– Так и будем с ней таскаться? – сказала Оля, дотронувшись до газеты, в которую была завернута бутылка. – Давай, наконец, выпьем. Где угодно. Мне наплевать.
Проехав несколько остановок на троллейбусе, примостились на пустыре за трехметровой обшарпанной стеной с колючей проволокой наверху. Посреди пустыря была свалка. Там было множество ворон. Оля села на перевернутый ящик, я – на кирпич.
– Прекрасно, – сказала Оля.
Откуда-то доносилось: «Битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Побе-еды…»
Я перевернул бутылку и стал колотить кулаком по донышку, чтобы выбить пробку. Она вылезла на несколько миллиметров, но дальше не шла.
– А я наконец-то ноги промочила, – радостно заявила Оля, глядя на наполнившиеся водой следы от туфель. Ноги она держала на весу. Я поискал глазами и увидел невдалеке фанерку. Принес, подстелил. Взял в руки ее ступню, как в детстве голубя, и поцеловал.
– Она же мокрая, дурачок, – сказала Оля и погладила меня по голове.
Я положил голову к ней на колени.
– Накрой меня, – сказал я.
– Чем?
– Чем-нибудь. Юбкой.
– Глупыш ты мой, – сказала Оля, высвобождая подол из-под моей щеки, и накрыла мне голову. – Маленький глупый мальчик. Хороший…
«Рассказать ей? – подумал я. – Нет, стыдно. И смешно». Однажды в ночном бою я вдруг сделал «открытие»: человек, во всяком случае мужчина, произошел не от обезьяны, а от страуса. Прицельно работал их миномет, «трассы» сверкали, в любой момент реактивный снаряд мог жахнуть, а мне вдруг – не от страха, нет, я уж не «сынком» был, но и не совсем «дедушкой» – захотелось спрятать голову Оле под юбку. Страусиное это чувство мгновенно смылось, я его прогнал пинками, но запомнилось.
– Тепло тебе там, бесстыдник? – спросила Оля. – А девочка твоя наверху замерзла. Вылезай, слышишь? И открывай скорей вино. Ты там заснул?
Голос у нее был нежный. Нежными были ее руки, ее бедра. От нее пахло нежностью. Мне захотелось заплакать. Слезливый я стал. И ничего поделать с собой не могу.
– Ну, хватит, вылезай. Так бы и прожил всю жизнь у меня под юбкой?
– Ага. Всю жизнь.
Порыв ветра поднял со свалки тучу пепла, взлетели вороны, закаркали. Я протолкнул пальцем пробку вовнутрь и подал Оле «бомбу».
– Прямо из бутылки? Ладно. Господи благослови. Тихий ужас…
Она стала пить, откинув голову, прикрыв глаза, но пробка поднялась и застряла в горлышке.
– Никогда не пила ничего более гадкого, – сморщившись, сказала Оля, но протолкнула мизинцем пробку и выпила еще.
Я тоже выпил. Портвейн бухнул по голове, словно мешком, потому что давно не ели и почти не спали. Но первая волна улеглась. Прошел озноб. На свалку, на забор с колючей проволокой, на все вокруг смотреть стало веселей.
– Алкаши мы несчастные, – улыбнулась Оля, вытаскивая из сумки пачку «Явы». – Пили портвейн из горла́, дурь курили – так проводили они месяц медовый.
Она задумалась, глядя на свалку, и вдруг разразилась полупьяным похабным смехом. Но сразу оборвала его.
– Расскажи, – попросила, – как убили командира взвода.
– Зачем тебе?
– Я хочу знать, как убивают. Расскажи.
– Сейчас, здесь?
– Сейчас, здесь. Как?
– На дороге. Из нашего АКМа.
– Почему из нашего?
– У них много нашего оружия. Мы сопровождали колонну. Везли хлеб в высокогорные кишлаки. Там весь хлеб пожгли. А уже поздняя осень была. Они бы, может быть, и не напали, если бы им не донесли, что взводный там. За ним все время охотились. Ну, и вечером, незадолго до темноты, кумулятивными снарядами они подбили, как всегда, головную машину колонны и замыкающую. Был бой. И взводного убили.
– Все? – спросила Оля. – Это все, что ты можешь рассказать?
– Его не сразу убили. Сперва в руку ранили. А потом…
– Что?
– Олька, не умею я рассказывать.
– А что ты умеешь?
– Не знаю. Он лежал один на дороге, а подползти к нему мы не могли. Очень плотный был огонь. И «ЗИЛ» рядом пылал. И осветительные снаряды повесили. Светло было как днем.
– А почему он сам не уполз с дороги?
– Не мог. Они ему и вторую руку перебили. И потом играть начали: только он шевельнется, сразу пули рядом ложатся, в нескольких сантиметрах. А взводный матерится, он, понимаешь, должен был стоя последнюю пулю принять. Но с перебитыми руками как встанешь? И кровь, я не видел, чтобы из одного человека столько…
– Ужас.
– Ну вот.
– И убили?
– Нет. Долго не убивали. Ему почти удалось однажды подняться. Но они и ноги ему перебили.
– А вы лежали и смотрели.
– А что, что мы могли, ну что?!
– Во-первых, не ори на меня. Во-вторых, я не верю, что ничего нельзя было сделать. Гранату какую-нибудь бросить туда, откуда они стреляли. Мне папа рассказывал, как в Варшаве…
– Папа. В Варшаве. Папа у тебя герой.
Я хотел еще сказать Оле, что последнее перед смертью слово командира было «мама». Я бы не поверил, что человек может так кричать. Распятый на дороге, взводный закричал, чтобы услышали крик дома, в России: «Ма-ма!!» – и крест-накрест его прошили длинными очередями, потому что появился наш «шмель», вертолет огневой поддержки, и им стало уже не до игры. Мы отомстили. Лишь на рассвете ушли от кишлака, и дым стоял за нашей спиной. А взводный, рассказывали ребята, которые понесли его в лагерь, очнулся и все смотрел, смотрел на небо и на горы, а жизнь не уходила, такая жизнь, равной по силе которой, может, и не было больше, разве что в былинные времена. В лагере мы положили взводного на лафет БМП. Дали салют – три одиночных выстрела. Поцеловали его все по очереди. Ночью Пашка молча рыдал.
Но ничего этого я не сказал Оле.
– Не буду я тебе больше рассказывать.
– Дело твое, – она вытащила сигарету, стала ее разминать.
Мы долго молчали, глядя на ворон.
– Не буду, – повторил я. – Не надо ничего этого тебе знать.
– Ах, вот как? – отхлебнув из бутылки, она поставила ее на землю. – Ты решаешь, что мне надо, а чего не надо?
– Пусть твой папа тебе про войну рассказывает.
Она прикурила и с наслаждением глубоко затянулась.
– Не хочешь?
– Нет, спасибо.
– Железобетонная все-таки у тебя воля. Ты настоящий мужчина.
Скривив в непонятной усмешке вишневые от вина губы, закинув ногу на ногу, Оля посмотрела на меня из-под опущенных ресниц. Мне стало неприятно. Я спросил:
– Ты о чем?
– Все о том же, – она затянулась, держа сигарету кончиками пальцев, а усмешка на губах сделалась брезгливой, и она не пыталась это скрыть. – У тебя воля, ты настоящий мужчина. Какой же может быть мужик без силы воли?
По улице прогрохотал грузовик.
– Помнишь, когда мы пришли к твоему другу, я карточный домик строила?
– Помню, – сказал я.
Она задумчиво посмотрела на меня.
– А вот у меня никакой нет воли, – она снова отпила из бутылки. – Я раз двадцать собиралась бросить и писала тебе, что бросила, помнишь? Но ничего у меня не получается. Ты меня научишь? Заставишь? Ты способен меня заставить? Знаешь, почему я вышла за тебя? Нет, я люблю тебя, конечно. Но еще – сказать? Я уже говорила… Мне безумно надоели все эти полумужчины, которые слоняются с рыбьими глазами у нас по институту, по улице Горького, по ялтинской набережной… Всюду. Ни в чем, и в себе прежде всего неуверенные, вечно сомневающиеся… Надоели, понимаешь? Когда ты вернулся, ты мне казался настоящим рыцарем. Не знаю, может быть, я все выдумала. Извини. Не обижайся. Я вечно выдумываю. А хорошо сидим, да? Я и представить себе не могла, что в своем свадебном путешествии буду сидеть на пустыре возле свалки и пить портвейн из горла и что мне будет так клево. Ты знаешь, прошлой зимой я ловила такси на Садовом кольце, и останавливается частник, приглашает в свою «Ладу». А у него там стерео, штучки разные иностранные…
– Зачем ты мне это рассказываешь?
– Глупый, ничего же не было. Я бы и не села к нему, но холод, снег с дождем… – Оля замолчала и, склонив голову, поджав губы, внимательно на меня посмотрела. – А почему ты, собственно, так со мной разговариваешь? – спросила не своим голосом. – Кто дал тебе право? В конце концов, что хочу, то и рассказываю. Это уж, знаешь, мое личное дело. И он пригласил меня к себе домой на чашку кофе, и…
– Не надо, Оля.
– Что не надо? Что?!
– Не кричи.
– А почему это я не должна кричать?
– Тогда кричи.
– Ах так! – она вскочила, бутылка, стоявшая у нее в ногах, повалилась, и вино полилось в грязь. – Все, – сказала она, когда в бутылке ничего не осталось. – Довольно. С меня хватит. Привет.
– Это правда, Оля? – сказал я, и она остановилась, враждебно на меня глядя.
– Что?
– То, что мне рассказывали о тебе?
– Что я… Что я вообще подряд со всеми?
– Что ты делала аборт от Андрея Воронина – лейтенанта запаса.
– Ты… ты с ума сошел? – Оля побелела, у нее задрожала нижняя губа. – И ты, естественно, всему этому веришь?
– Я не знаю.
– Не знаешь? И как же ты женился-то на мне?
– Это правда? – повторил я.
– Что пробы негде ставить?
– Насчет аборта.
– А если правда? Что тогда? Ну что? Разведешься со мной? Да разводись хоть сегодня! Жаль, загсы закрыты. Ничего, завтра приедем в Москву…
– Оля, успокойся…
– Пошел ты… – она полоснула мне по лицу ненавистным взглядом, повесила сумку на плечо и ушла, обходя лужи, а я глядел на нее, и что-то мешало мне встать и даже окликнуть ее.
Она плакала в подъезде, когда я разыскал ее. Если я верю всякой пакости, сказала, значит, все вранье насчет того, что люблю. Я попросил прощения, но она твердила: «Шлюха, шлюха, развратная, продажная тварь, со всем институтом переспала, со всей Москвой!» Я сел рядом с ней на ступеньку, обнял ее. Поцеловал, слизнул со щеки слезинку. Сказал, что не верю.
– Поклянись.
– Клянусь, – сказал я, но она плакала.
Она никогда не думала, что в свадебном путешествии будет пить портвейн рядом с вонючей свалкой. Не думала, что ее выгонят из гостиницы в первую брачную ночь, что, голодная, усталая, с мокрыми ногами, будет скитаться по этому чужому холодному городу, где она никому не нужна…
Оля говорила так, будто одна сюда приехала, будто меня вовсе нет. Вспоминала, как ездила в детстве с папой в разные города и как хорошо было, как их встречали и возили на машине, показывали и рассказывали, угощали… Она думала, что и теперь так будет. Но все по-другому.
– Никакого аборта ни от кого я не делала! Но если бы даже и делала, кто был бы в этом виноват? Я ведь не мумия, а живой человек. Женщина. Кто меня бросил на целых два года? Кто сдал экзамены в институт, а потом нарочно забрал документы, чтобы…
– Чтобы что? – спросил я.
– Ничего, – ответила Оля. – Чтобы доказать себе что-то. Думал, героем вернешься, да? Никому здесь не нужно ваше геройство! Да и что вы там…
– Замолчи, Оля, – сказал я.
– Ударь меня. Ты умеешь это делать. Ты же герой, а я б…
– Ты не б… – сказал я. – Ты просто дура.
– Дура, – сказала она тихо, покорно и долго молчала. – Но у меня больше не будет в жизни свадебных путешествий, ты понимаешь? Да, мне хотелось быть красивой, поэтому я набрала с собой столько платьев, и чтобы все вокруг было красиво, и была вкусная еда, вкусное вино, и чистая широкая постель с накрахмаленным бельем, и чтобы светило солнце и все улыбались… Не понимаешь? – она вскинула воспаленные, в слезах глаза. – Прости меня, – сказала Оля. – Но я хотела, чтобы все у нас было по-другому. Прости.
Молча я взял ее за руку и вывел из подъезда. Моросил дождь. Дребезжали, стучали от ветра отливы на окнах. Навертывались на древки флаги.
– Ты меня не можешь любить, – сказала Оля. – Или ты не любил меня до армии. Потому что это два совершенно разных человека – ты тогдашний и ты теперешний. И я другая. Это у нас с тобой просто детство было, а не любовь. А сейчас… Я сразу, когда ты вернулся, поняла, что ничего у нас с тобой быть не может.
– Почему же… зачем ты согласилась выйти за меня замуж?
– Честно? Не обижайся. Ты такой растерянный был, неуклюжий, лишний в нашей обычной жизни… такой жалкий.
– Пожалела? Спасибо.
– Нет, я тебя люблю, но… не слушай меня, я действительно дура. Не слушай!
До поезда оставалось еще пять часов. Мы пошли по улице в центр, я держал Олю под руку. В парке звучала песня «День Победы». Блестели под дождем медали и ордена фронтовиков.
– Ты стыдишься своего ордена? – спросила Оля. – Ты его не считаешь за награду, потому что вручили не торжественно, а в пыльном, заваленном бумагами кабинете военкомата?
– Я его считаю за награду, – сказал я. Отошел к стене, вытащил из кармана коробочку и привинтил Звезду на пиджак.
Мне и в самом деле вручили ее, как я рассказал Оле. Вызвали. Полчаса ждал в коридоре, вошел. Майор долго что-то писал, не обращая на меня внимания. Входили и выходили люди, а я стоял у дверей. Потом майор поднялся, пробурчал что-то, глядя в окно, сунул мне коробочку и сказал почему-то раздраженно: «Следующий». Если честно, я думал, будет иначе. Но разве в этом дело?
– Идет тебе, – улыбнулась Оля. Глаза ее все еще были мутными от слез.
– Куда ты хочешь, чтобы мы пошли сейчас? – сказал я.
– В самый лучший ресторан, – сказала Оля. – И чтобы ты там заказывал для меня музыку.








