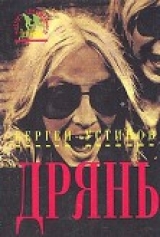
Текст книги "Дрянь (сборник)"
Автор книги: Сергей Устинов
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 49 страниц)
4
– Кто там?
– Ваш участковый. Откройте, пожалуйста.
Меня долго рассматривают в глазок, потом дверь открывается. Щуплая, как цыпленок, старушка в редких розовых буклях окидывает меня с головы до ног придирчивым взглядом блеклых, но ясных глаз. Спрашивает сурово:
– По какому поводу? – И тут же, не дав ответить на первый вопрос, задает следующий: – Что это вас там, внизу, столько понаехало?
Я отвечаю сразу на оба:
– С соседом вашим несчастье случилось.
– С соседом? – В тревоге она прижимает к груди маленькие сухие руки. – С кем?
– С Черкизовым, из сорок четвертой.
– Черкизов? – Она заметно успокаивается. – Не знаю.
– И вздыхает без особого сожаления: – Дом у нас большой… А что с ним?
Но я ухожу от ответа. Зачем волновать пожилую женщину…
– Скажите, вы вчера вечером выходили на улицу?
– На улицу? Я? Господь с вами, там же сейчас все течет и сплошной лед под ногами! Вот чем вам надо заняться, раз вы участковый, – воодушевляется она, дворниками! Дворники теперь совершенно не желают выполнять свою работу, а пожилые люди ломают руки и ноги! Я вам скажу, – тон ее делается доверительным, – если в моем возрасте сломать шейку бедра…
Медицинская тема в принципе необъятна, поэтому я вежливо киваю:
– Спасибо, обратим внимание. Так, значит, вы вчера ничего необычного не слышали и не видели? – Она пожимает худенькими плечиками, и я задаю последний вопрос: – С вами кто еще живет в квартире?
– Дочь и внучка.
– Они когда обычно возвращаются домой?
– Дочь часов в шесть. А внучка – студентка, она… как когда…
Я делаю пометку в блокноте. Теперь моя задача – быстро и с достоинством ретироваться. Но не тут-то было.
– Ах, кстати! – Старуха цепко хватает меня за руку и тащит к окну. Идите-ка сюда, блюститель порядка! Смотрите! – Отодвинув занавеску, она тычет куда-то вниз искривленным пальцем: – Видите фонарь? Он не горит уже вторую неделю! И каждый раз, когда Эллочка вечером звонит нам, что идет домой, я вынуждена сидеть у окна и караулить ее, когда она сворачивает от метро! Ну не безобразие?
Я записываю в блокнот про потухший фонарь, а во мне самом загорается надежда:
– Вчера вы тоже ее караулили?
– Вчера Элла весь день была дома, готовилась к коллоквиуму.
Соседняя квартира на звонки не отвечает, ставлю в блокноте минус. За дверью следующей летят быстрые шаги с пришлепом, далекий голос кричит: «Иду, иду-у!» – и на пороге возникает девица лет пятнадцати, а может, восемнадцати, шут их теперь разберет, с мокрыми спутанными волосами, в махровом халатике не длинней обычной мужской рубашки.
– Ой, кто это? – говорит она с легким испугом, близоруко вглядываясь в полутьму площадки.
Я представляюсь. Девица хрипловато смеется – полагаю, что над своим необоснованным испугом, и приглашает войти. Она усаживает меня в глубокое мягкое кресло, сама садится напротив, вытянув в мою сторону красивые длинные ноги, обутые в несуразные разбитые шлепанцы, больше, чем нужно, размеров на пять. Эти ноги меня раздражают, не как мужчину, разумеется, а как профессионала. Есть в криминалистике наука виктимология – о жертвах, способствующих совершению преступлений. Ну куда это годится: открывает дверь, не спрашивая, да еще в таком виде! Надо будет в следующий раз провести с ней беседу. Она тем временем извлекает из кармана халата большие круглые очки и становится похожа на сову.
– Черкизов? А, это такой противный старикашка с шестого этажа! Отвратный тип. Когда едешь с ним в одном лифте, он так смотрит, – сова передергивает плечами. – А еще норовит встать поближе и прижимается, прижимается! Однажды зазывал меня к себе, обещал угостить чем-то вкусным. Представляю себе это угощение! – Она грубо хохочет и закидывает одну свою длинную красивую ногу на другую длинную и красивую, при этом халатик ее разъезжается так, что моему обозрению предстает часть довольно чахлой, не до конца развитой груди. Ей откровенно любопытна реакция милиционера, но я не доставляю такого удовольствия, сидя с рассеянным видом и размышляя, что в те времена, когда нам преподавали виктимологию, эта наука была еще в совершенно младенческом состоянии. Спрашиваю:
– Сколько вам лет?
– Шестнадцать. А что?
– Молодой организм, – качаю я головой. – Боюсь, простудитесь.
Она снова хохочет, но уже не так уверенно.
– Когда вы последний раз видели Черкизова?
– Ну… месяц назад или больше.
– А вчера вы были дома?
– Вчера я была в Ленинграде. С классом, на экскурсии.
Я поднимаюсь, она капризно надувает губы:
– Вы уже уходите?
– Вечером зайду еще. Мне надо поговорить с вашими родителями.
– О чем это? – вскидывается она.
Я выдерживаю мстительную паузу. Потом нехотя:
– Все о том же: о Черкизове.
– Да, а что с ним случилось? – наконец-то интересуется она.
– Его убили.
– Как?! – от ее веселости не остается и следа. Я не без злорадства отвечаю:
– Очень просто. Позвонили в дверь, он забыл спросить, кто там, и открыл. Жуткая история, – добавляю я, выходя на площадку и спускаясь вниз по лестнице. Она стоит в дверях побледневшая, судорожной рукой перехватив халатик у горла.
И так далее, и тому подобное. Я хожу из квартиры в квартиру, задаю вопросы. «Вы что-нибудь видели? Вы что-нибудь слышали? В котором часу вы гуляете с собакой? Когда ваш сын приходит с работы?» И не удивляюсь тому, что никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Только количество вопросов может перейти в качество. Впрочем, может и не перейти. Я знаю, что в соседнем подъезде вот так же ходит с этажа на этаж Дыскин. А в следующем еще кто-то из участковых или сыщиков. И что, обойдя этот дом, мы начнем обходить соседние. Мы будем расспрашивать пенсионеров, играющих в шахматы во дворе, молодых мамаш с колясками, старушек на лавочках, мальчишек-сборщиков макулатуры, лифтеров, дворников, почтальонов, автомобилистов и владельцев собак. О посторонних людях, о странном, о необычном, о подозрительном… Но в городе, где не все знают в лицо соседей по лестничной площадке, взгляд давно перестал делить встречных на «своих» и «посторонних». И если некто спокойно зашел в подъезд, а потом так же спокойно из него вышел, на это, скорее всего, никто не обратил внимания.
Иное дело валиулинские сыщики. Они сейчас устанавливают родственников убитого, друзей, знакомых – все то, что называется связи, выдвигают версии, рисуют схемы. А ты тут бродишь от двери к двери в поисках неизвестно чего…
Когда я вернулся в отделение, ноги у меня гудели, голова от непрерывных разговоров казалась надутой воздухом. В предбаннике дежурной части никого не было. Один Калистратов сидел за своим пультом со скучным видом, подперев щеку кулаком.
– А, Северин, – обрадовался он, увидев меня. – Счастлив твой Бог! Спи спокойно, поймали убивца.
– Уже? – поразился я, с наслаждением опускаясь на отполированную задами многих задержанных деревянную скамью и вытягивая усталые ноги. – А кто расстарался?
– Мнишин. С поличным взял супостата. – Калистратов почему-то засмеялся.
– Где взял-то?
– А тут прямо, – Калистратов ткнул пальцем в мою сторону. – Вот где ты сидишь, там и взял. Он наш, местный, алкашок. Лечили мы его, лечили, теперь, видно, другие лечить будут. Гулял с утра в «Пяти колечках», оттуда и забрали прямиком в вытрезвитель. А к вечеру прочухался – доставили сюда протоколы оформлять, тут его Мнишин и обратал.
– Давно?
– Да с полчаса всего. Иди глянь, они с ним в десятой работают.
В комнате № 10 дым стоял столбом. Когда я вошел, Валиулин зыркнул в мою сторону, но ничего не сказал, из чего я сделал вывод, что мне можно остаться, и пристроился в уголке.
«Супостат» сидел на стуле посреди кабинета спиной ко мне.
Я слегка удивился, увидев, что на нем дорогая черная кожаная куртка, добротные твидовые брюки и хорошие ботинки: со слов дежурного местный алкашок представлялся мне чем-то вроде утреннего Парапетова.
– Поехали по второму кругу, – голосом, не предвещающим ничего хорошего, сказал Мнишин и вытянул руку по направлению к столу, на котором лежала довольно большая куча смятых купюр, а также всякие мелочи: платок, зажигалка, связка ключей. – Это твое?
Задержанный дернул плечами.
– Смотря что… – голос у него был какой-то пересохший.
– Платок твой? – добродушно спросил Валиулин.
– Мой…
– Ключи? Зажигалка?
– Мое…
– Деньги? – все так же добродушно расспрашивал Валиулин.
Супостат снова как-то дернулся и уныло произнес:
– Черт их знает.
– Вот те на! – бухнул из угла майор Голубко. – Это как понять: ветром их тебе, что ли, в карман надуло? Вот акт, – он потряс в воздухе бумажкой, восемьсот сорок три рубля двадцать две копейки! Изъято у тебя при оформлении в медвытрезвитель.
– Так твои или нет? – коршуном наклонился вперед Мнишин.
– Раз в кармане, наверное, мои, – поник задержанный. – Дайте попить Христа ради, не могу больше!
– Попить? – прищурился Мнишин. – Может, тебе еще и похмелиться сбегать принести?
Но Голубко пробасил, кивнув в мою сторону:
– Сходи ко мне, попроси у Симы бутылку боржома.
Супостат с надеждой обернулся ко мне, и я увидел, что это Витька Байдаков. Боже мой, что стало с бывшим красавчиком! Двадцать лет назад это был цветущий, мордастый, румяный парень, вечно с нагловатой ухмылочкой на полнокровных губах, местная знаменитость, гроза района. Сейчас передо мной сидел обрюзгший, рано постаревший человек с заплывшими глазами, с серой, нездоровой кожей на вислых щеках. Меня он, кажется, не узнал.
Когда я вернулся с уже откупоренным боржомом и дал бутылку Витьке прямо в руки, Мнишин сказал с сожалением:
– Работали с тобой, работали, все без толку. Один покойный Зиняк столько сил на тебя, на гада, ухлопал, а зря. Ну, теперь ты допрыгался, – закончил он зловеще.
Витька залпом всосал в себя бутылку и несколько секунд сидел с выпученными глазами, отдуваясь. Потом смачно рыгнул, распространив по всей комнате тяжелый запах перегара, и вдруг завопил истерически:
– Чего «допрыгался»? Чего «допрыгался»? Что вы мне шьете? Зачем пальцы брали? – Он замахал в воздухе испачканной черной краской пятерней. – Убил я кого, да? Зарезал, да?
В комнате наступило молчание, только слышно было, как сердито сопит и икает Витька. Наконец Голубко довольно пробурчал:
– Прорвало малыша. Надо было давно ему водички дать. Валиулин прошелся по кабинету и присел на край стола перед Байдаковым.
– Давай, милый друг, вспоминать, откуда деньги?
Витька быстро оглядел всех, кто был; в комнате. Я заметил, что глаза у него теперь заблестели, похоже, боржом ударил ему в голову.
– А может, я их выиграл? – спросил он с надеждой, как бы предлагая на общее обсуждение вариант ответа, который всех может устроить.
– Выиграл? У кого?
– Да не знаю я! – рассердился Байдаков. – В шмон, а то на бегунках.
– Значит, ты утверждаешь, что не помнишь, откуда у тебя эти деньги? сформулировал Валиулин.
– Ага, утверждаю. – Он икнул, пробормотал «пардон» и умоляюще приложил руки к груди: – Да нет, кроме шуток, не помню! Хотите, на колени встану?
– Ты какой день в запое? – деловито поинтересовался Мнишин.
Витька потерянно махнул рукой.
– Не спрашивайте! Месяц ни грамульки, человеком себя почувствовал, – в голосе его появился слезный надрыв, – оделся вот, – он подергал себя за полы кожаной куртки.
– Месяц не пил, а как оделся! – наставительно прогудел Голубко, намекая на прямые материальные выгоды воздержания, а я с удивлением подумал, что мне так одеться не хватило бы месяца, даже если б я этот месяц не только не пил, но и не ел.
– С горя запил, – понурился Байдаков. – Кота, сволочи, погубили.
– Это какого? – удивился Мнишин. – Рыжего, который у тебя жил?
– Угу! – кивнул Витька и заплакал. Слезы текли по его щекам, он принялся стирать их, весь измазался дактилоскопической краской. Зрелище было жалкое.
Мнишин двумя пальцами брезгливо взял со стола мятый байдаковский платок, кинул ему на колени.
– На, утрись…
Витькины плечи содрогались. Он принял платок, начал сморкаться, хлюпать, тереть глаза, в которые попала краска.
– Весна, понимаешь… – говорил он, всхлипывая. – Шмонается, дурак, где-то, три дня не видал его. А вчера утром выхожу из дому, мальчишки бегут: «Дядя Витя, дядя Витя, там ваш Рыжий висит…» На дереве… во дворе… за шею проволокой… падлы… – У него дрожала нижняя челюсть.
– Кто это сделал?
– А я знаю? – злобно вскинулся Байдаков. – Знал бы – убил гада!
Мнишин с Валиулиным переглянулись.
– А дальше что ты делал?
– Что… Похоронили мы Рыжего с пацанами. Тут же, во дворе. Настроение, конечно, хоть сам вешайся. Ну и пошел в магазин, куда ж еще…
– Это во сколько было?
– Да часов в двенадцать. Ребята знакомые в очереди стояли. Взял я сразу пару коньякевича, они три портвейна. Врезали, как полагается… За упокой души Рыжего.
– И что потом?
– Что потом? – переспросил Витька. – Проснулся утром, голова квадратная и это вон, – он мотнул головой в сторону денег на столе, – по всем карманам распихнуто. Встал кое-как и поехал в «Пять колечек» на поправку. А там повело меня, видать, на старых дрожжах…
– Как ты поправлялся, мы знаем, – нетерпеливо перебил его Мнишин. Расскажи-ка лучше, что ты делал вчера после того, как распили у магазина.
Байдаков наморщил лоб и погрузился в глубокое раздумье.
– Черт его знает, – наконец сообщил он. – Пили – помню, а дальше – нет.
– И часто с тобой так бывает? – поинтересовался Валиулин.
– Бывает… – эхом откликнулся Витька. – Особо, когда намешаешь всякой дряни, – его передернуло. – Иногда утром гадаешь: как домой дошел? А на автопилоте!
– Ну, вот что, автопилот, – зловеще начал Мнишин, но тут зазвонил телефон. Голубко взял трубку и сразу передал ее Валиулину. Тот послушал, покивал, сказал «спасибо» и положил на место. Потом повернулся к нам.
– Пальчики его, – сказал он и с каким-то новым выражением посмотрел на Байдакова. – Так что времени не теряйте, дуйте к прокурору за постановлением, проводите обыск.
Я увидел, как напрягся и замер Байдаков.
– Вы это про что? – спросил он с глухой угрозой. – Это про какие пальчики?
– Про твои, про твои, – с усмешкой ответил Мнишин и обратился к Валиулину: – Можно, Валерий Михалыч?
– Давай, – кивнул тот. – Ты начал, тебе и заканчивать.
– Гражданин Байдаков, – сказал Мнишин, глядя поверх Витькиной головы, – вы подозреваетесь в убийстве Черкизова Викентия Федоровича, совершенном вчера в его квартире…
При этих словах Витька странно оскалился, и я не сразу понял, что он смеется, – такой неподходящей была его реакция.
– Я? Кешу? Да что я, сумасшедший? Быть того не может!
– Может, – жестко оборвал его Мнишин. – Номера двадцатипятирублевых купюр, обнаруженных у вас при доставке в медвытрезвитель, идут подряд с номером купюры, обнаруженной в сейфе убитого. Они из одной пачки. И еще. Перед смертью Черкизов с кем-то выпивал. На одном из стаканов его отпечатки пальцев, на другом – ваши.
Байдаков больше не скалился. Он сидел, крепко сжав голову руками, словно боялся, что она вот-вот разлетится на кусочки. Его лицо было пепельно-серым в черных разводах.
– Вот она, проклятая, до чего доводит, – осуждающе прогудел майор Голубко.
Витьку увели два милиционера. Валиулин в задумчивости походил по кабинету, руки за спину, остановился у окна и, не оборачиваясь, сказал как будто сам себе:
– Похоже, он правда ни черта не помнит. Только все это – лирика. Завтра в камере он прочухается и выдаст нам, к примеру, что деньги ему Черкизов одолжил, а вино они пили вместе утром или даже прошлым вечером. К сожалению, на дверце сейфа никаких отпечатков, кроме черкизовских, не обнаружено. Вот так-то.
Он на каблуках повернулся к нам:
– Ищите орудие убийства – раз, каких-нибудь свидетелей, которые видели Байдакова между семью и девятью вечера – два.
Мнишин с сомнением шмыгнул носом:
– Валерий Михалыч, он в том же доме живет, через два подъезда. Опять уверенности не будет.
– Значит, нужны свидетели, которые видели его входящим или выходящим из подъезда Черкизова.
– Будем искать, – вздохнул Мнишин. И Валиулин кивнул:
– Как хлеб ищут.
5
С Витькой Байдаковым я первый раз столкнулся лет в двенадцать. То есть знал-то я его, конечно, и раньше, с тех пор как он вместе со своими родителями поселился в стеклянном доме. Витькин отец был какой-то шишкой в закрытом «ящике», мать певица, но, видать, и шишка была невелика, и певица не Бог весть какая, потому что папаша все время мотался по командировкам, а мамаша с гастролями от областной филармонии. Очень часто поездки эти совпадали, и Витька жил в свое удовольствие, не отягощенный родительской опекой, со старенькой домработницей, которая чуть не с младенчества кормила его, поила, души в нем не чаяла и которую он в грош не ставил, обзывал в глаза старой дурой, отчего она плакала. Теперь произошла диффузия, под толщей лет нижние слои памяти перемешались, и я уже не помню, когда узнал подробности Витькиной жизни: до моего первого столкновения с ним или гораздо позже.
По тогдашним понятиям его даже нельзя было считать полноценной шпаной. Настоящая шпана моего детства ходила в брюках клеш, подшитых снизу металлической молнией, носила в карманах гирьку на унитазной цепочке, нож-«лисичку», алюминиевую расческу с длинной, заточенной, как шило, ручкой, а то и бритву. На месте будущих кооперативных башен еще стояли подбоченясь серые бараки общежитии протезного завода, еще не ведали близкой своей судьбы похожие, точно близнецы, «немецкие» двухэтажки, целая слободка, построенная пленными немцами после войны для служащих недалекого аэродрома. Гулять в ту сторону не рекомендовалось, особенно с наступлением темноты. Мальчишки рассказывали с расширенными глазами, как Отцовский переулок ходил резаться с Красным Балтийцем, как лупили друг друга кольями, велосипедными цепями. Постоянным героем мифов был никем из нас не виданный огненно-рыжий Тигренок, который выжил даже после того, как ему враги пульнули в живот из-за угла.
Витька Байдаков не шел, разумеется, с ними ни в какое сравнение. Он кидал с балкона чернильные пузырьки на крыши машин, поджигал газеты в почтовых ящиках, обрывал трубки в телефонах-автоматах, в общем, мелко пакостил. Сейчас поди, педагоги и врачи подыскали бы для него пару-тройку научных терминов, все объясняющих с точки зрения психологии и физиологии, а тогда называли Витьку просто хулиганом.
Впрочем, зона его деятельности распространялась в основном на стеклянный дом и на несколько родственных кооперативов вокруг. К нам во двор он не очень-то шастал со своими штучками, здесь хватало собственных «королей». Но как-то воскресным днем забрел с двумя приятелями на площадку, где мы, по тогдашнему выражению, «пинали пузырь», то бишь играли в футбол.
В ту пору посреди двора стояла у нас хоккейная коробка, окруженная высокой сеткой, небольшая – метров двадцать пять на пятнадцать. Зимой на ней заливали лед, а с ранней весны до поздней осени мы гоняли тут мяч. Витька появился в мае в жаркий засушливый день – это я помню точно, потому что и сейчас вижу, как мы, потные, грязные, с криками носимся по площадке, поднимая ногами тучи пыли. Они с дружками уселись на лавочке возле бортика и глядели на нас, покуривая и поплевывая. А когда «пузырь» очередной раз перелетел через сетку и в игре наступил вынужденный тайм-аут, Витька громко предложил «боевую до десяти голов по три рубля с команды».
– Не боись, чуваки, – сказал он нам, иронически ухмыляясь – нас трое, а вы все. Без офсайда, руками не брать. Поехало?
Мы переглянулись. Вообще-то играть в футбол за деньги у нас не было заведено, но и отказаться от прямого вызова казалось стыдным. Между нами и Витькой разница была года в два-три, он и его приятели были как минимум на голову выше самого высокого из нас. Но наших было человек шесть, играть предстояло на своем поле, и мы согласились. Они сняли рубашки, закатали штаны до колен, и понеслась.
Безусловно, Витька не учел нашей многолетней сыгранности. Мы «делали» их, как младенцев, широкими пасами через всю поляну, и, когда вколотили им третий или четвертый мяч, Витька озверел. На нем были не кеды, как у нас, а обычные ботинки на шнурках, остроносые по тогдашней моде. И этими ботинками он начал нещадно лупить по нашим ногам да еще к тому же принялся к месту и не к месту играть «в корпус», то есть попросту сносить нас, прижимать к дощатому бортику, а то и внаглую толкать руками.
– Кончай коваться, Байдак, – сумрачно говорили мы ему, сплевывая тяжелую, вязкую слюну пополам с песком.
– А, не любят жилтовские настоящий футбол! – едко ухмылялся Витька и продолжал махать ногами почем зря.
Счет был в нашу пользу с большим разрывом, и прекратить «боевую» представлялось невозможным: или играй – или плати. Тогда я тоже обозлился. И когда Байдаков очередной раз попер на меня, подставил ногу так, что он полетел носом в землю.
Потом только до меня дошло, что этого он как раз и добивался. Вскочив на ноги, Витька, не говоря ни слова, врезал мне кулаком по лицу. Из разбитой губы брызнула кровь, я вжался в борт, ожидая, что он снова бросится на меня, но ему уже было достаточно. Оглядев нас со злым прищуром, Байдак процедил:
– Не умеете играть по честному – сидите дома. Не торопясь, надел рубашку, раскатал штаны и пошел за своими ухмыляющимися дружками. Я смотрел ему вслед, сжав кулаки и закусив мгновенно распухшую губу, чувствуя, как жжет глаза бессильная ненависть, а он вразвалочку уходил победителем. Он уходил победителем, потому что сила была на его, а не на нашей стороне. Потому что тот, кто проиграл, но не заплатил, все равно что выиграл. Потому что у нас была сыгранная команда, а у них была кодла, которая с чужими всегда играет без правил. Потому что выходило, что нам наставили синяков на ногах и на боках, нам набили морду, а в результате мы же и оказались виноваты. Впоследствии я узнал, что это, в общем, довольно распространенная жизненная ситуация, но первый урок преподал мне Витька Байдаков.
Однако на этом история не кончилась. Тем же вечером я встретил Рашида, своего соседа по площадке. О Рашиде ходила нехорошая слава, во дворе его боялись. Но мне нечего было бояться, я был для него «свой», он знал меня с младенчества. Ни разу я не просил его ни о каком заступничестве, но сама возможность попросить о нем, по-соседски, как просят соль или спички, всегда незримо витала надо мной. Она осеняла меня, как бы давая понять предполагаемым недоброжелателям, что от возможности до ее использования – всего один шаг, она играла важную профилактическую роль, как сказали бы теперь, была оружием сдерживания первого удара и придавала мне во дворе известную независимость.
Я и в тот вечер ни о чем не просил Рашида, он сам поинтересовался, пока мы ехали в лифте, что с губой. Я рассказал. Рашид нахмурился и спросил, в каком классе Витька учится. Я ответил.
«Ладно, – озабоченно сказал Рашид, – надо будет ему объяснить, как трогать жилтовских». Засыпая в этот день, я по-всякому злорадно представлял, как именно будет Рашид объяснять это Витьке, и в конце концов заснул, полностью удовлетворенный, с ощущением неизбежности грядущего торжества справедливости.
Рашид давно не учился в нашей школе, его выгнали чуть ли не с седьмого класса и перевели в ремесленное училище. Поэтому я очень удивился, через пару дней увидев его в коридоре на большой перемене. Он поймал меня за руку и повел за собой. Мы зашли в мужской туалет на третьем этаже, и там возле окна я увидел Байдакова, а рядом с ним двух здоровенных десятиклассников. Рашид легонько подтолкнул меня в спину и сказал:
– Ну, давай.
Я глянул на него с удивлением, не очень понимая, что именно нужно «давать». Потом посмотрел на Витьку. Он был бледен, стоял, потерянно опустив руки, десятиклассники нависали над ним с боков с кривыми улыбочками, и я вдруг понял, зачем меня сюда привели.
– Бей! – скомандовал Рашид.
У меня ослабли ноги. Все как будто справедливо: тогда сила была на Витькиной стороне, теперь на моей. Тогда он был с кодлой, теперь я. Но вся моя жажда возмездия улетучилась куда-то. С ватным ужасом я ощущал, что не могу ударить в этот миг Байдака, который – я знал наверняка! – даже руку не поднимет, чтобы защититься. И одновременно я обреченно сознавал, что не ударить его тоже невозможно. Не было выхода, ибо специально ради меня пришел сегодня в школу Рашид, специально ради меня отловили и привели в сортир Байдакова эти верзилы-десятиклассники, и поэтому никто из них, даже сам Витька, никто не сомневается, что я сейчас врежу ему как следует. В сущности, я был приговорен совершить казнь над Витькой. Я должен был оправдать доверие.
– Ну бей же! – начиная сердиться, приказал Рашид, и я вяло ткнул кулаком куда-то Витьке в плечо.
– Не так, – с досадой сказал Рашид, – в харю бей. Пусти ему юшку!
Десятиклассники крепко схватили Байдакова за руки. Он смотрел мне в лицо, бледно улыбаясь, словно тоже подбадривал меня, говоря: ничего не поделаешь, надо – так надо, давай скорей кончай эту бодягу. Зажмурившись, я ударил его в грудь. Удар получился слабым, но Витька дернулся всем телом, ойкнул и обмяк на руках у конвоиров, будто я его нокаутировал. Однако обмануть Рашида не удалось.
– Салага, – произнес он с нескрываемым презрением, грубо отпихивая меня в сторону. – Жилтовский, называется! – И крякнув, как при рубке дров, заехал Байдакову крюком снизу в поддых.
На этот раз Витькины глаза вылезли из орбит, он, задохнувшись, согнулся пополам, а Рашид сбоку ударил его теперь уже по лицу. Из носа у Витьки хлынула кровь, один глаз мгновенно стал заплывать, а другой смотрел на меня со страдальческой укоризной: почему ты не сделал это сам, зачем заставил бить Рашида?
Байдакова отпустили, он, шатаясь, побрел к умывальнику. Рашид и один из десятиклассников деловито и дружелюбно помогали ему смывать с лица кровь. Экзекуция кончилась. Я бросился бежать.
Странная штука память. Я помню жаркий день и пыльную площадку, помню, как саднила губа, разбитая Витькой, и как скрипел песок на зубах. Помню, как Рашид бил Байдака, даже грязную, в потеках краски кафельную стенку в мужском туалете на третьем этаже и то помню. А вот что было дальше, забыл. Напрочь выпало из головы, презирал ли меня потом Рашид за малодушие, как вел себя Витька при следующих встречах со мной, не помню даже своих собственных переживаний по этому поводу. И, интересное дело, Витька Байдаков снова возникает в моей памяти года через два-три уже в совершенно ином качестве. Мы больше не деремся, не ссоримся, попадаем с ним в одни компании, я даже бываю у него дома, мы меняемся какими-то кассетами, пластинками. Потом снова провал года на четыре – Витька не фигурирует в доступных воспоминаниях, и вдруг я вижу его на ежегодном вечере выпускников школы, после которого мы куда-то едем, в какой-то дом с множеством комнат, где очень мало света, очень много дешевого алжирского вина, Пресли, Чаби Чеккер, и где Байдаков поражает всех пьяным хождением по поручню балкона с двумя бутылками в руках. Затем синусоида наших отношений вырождается в прямую линию, как кардиограмма после остановки сердца, и вот неожиданная реанимация. Я, участковый инспектор Северин, вхожу в квартиру подозреваемого в убийстве Байдакова, чтобы сделать в ней обыск.
– Ну и душок здесь, – покрутил носом, принюхиваясь, Дыскин, когда Трофимыч, снова привлеченный мной к делу, справился с заевшим замком и мы оказались в полутемной байдаковской прихожей. – Оставьте дверь открытой, а то задохнемся…
В прокуренном воздухе пахло несвежим бельем, из ванной потягивало дезодорантом, со стороны кухни несло перепревшим луком, но все это перебивал мощный кошачий дух, идущий из глубины квартиры.
– Видать, он кота своего всю зиму на улицу не выпускал, – констатировал Панькин.
– Эх, жизнь! – вздохнул Дыскин. – Торчал бы котик дома, не запил бы Витька. А там, глядишь, и старичок был бы в здравии, сидел себе на диванчике, дрочил на свои журнальчики…
Возразить против развернутой перед нами философической картины было нечего, и мы молча прошли в первую комнату. Странное она производила впечатление. Просто сказать, что это холостяцкая берлога, было бы недостаточно.
Я знал, что Витькины родители давно умерли, вернее погибли в автомобильной катастрофе, оба сразу. Разумеется, помнить в точности, что за мебель стояла здесь в период наших пластиночных обменов, я пятнадцать с гаком лет спустя не мог. Но застряло в памяти общее представление, вероятно, от противного: в те времена все, кто мог купить и умел достать, повально хватали гарнитуры со стенками. Побогаче, попрестижней – финские, югославские, попроще – румынские, болгарские, но чтоб обязательно раздвижной диван, пара глубоких мягких кресел, резной журнальный столик и главное – эта самая стенка. С фигурными непрозрачными стеклами, с массой глухих дверец, непременными бронзовыми ручками, с просторной выемкой аккурат под цветной телевизор и с одной, максимум двумя-тремя полочками для книг. Всюду, куда ни придешь, были эти стенки, а в квартире Витькиных родителей не было. Было что-то квадратно-тонконогое в сочетании с гнутыми алюминиевыми трубками, с какими-то синтетическими мохнатыми ковриками – и все это на фоне громоздкого, как железобетонный блок, зеркального, полированного, полного дешевого тогда хрусталя сооружения с названием, смутно напоминающим о древнегерманском эпосе: «Хельга». Модерн ранних шестидесятых, первое счастье наших вырвавшихся из коммуналок родителей. Витька не любил задерживаться в этой комнате, он сразу тащил меня в свою – маленькую девятиметровку, где кроме узкой кровати стояли только стол, вечно заваленный всяким хламом, и тумба для белья, служившая постаментом для магнитофона «Яуза» и проигрывателя «Концертный». Путались под ногами провода, прямо на полу валялись кассеты, стопки пластинок, паяльники, кусачки, отвертки… И все время, сколько бы раз я ни заходил сюда, на полную мощь гремела музыка.
Все это было давно, и сейчас уже неважно, правда или нет. Потому что никому не интересно слушать истории про прежнего Витьку. Всех сейчас интересует Байдаков нынешний. Мы делаем обыск в квартире убийцы, и хозяин совсем не тот, каким был пятнадцать лет назад, и квартира ничего общего с прежней не имеет.
Больше всего она походила на пришедшую в запустение антикварную лавку. Какой-то склад некогда дорогих, но состарившихся теперь вещей, обновить которые у владельца никак не доходят руки. Огромное, как дряхлый вожак слоновьего стада, вольтеровское кресло с протертой до белизны, растрескавшейся кожей. Одинокий павловский стул с облезшей позолотой, с грубым протезом задней левой ноги. Рассохшееся бюро красного дерева с обширной замызганной, заляпанной пятнами, ободранной столешницей и множеством ящичков. На бюро живописно группировалась пара заплывших воском бронзовых канделябров, почему-то новенький, отчищенный, словно только из реставрации, прекрасный еврейский семисвечник, три пустые бутылки из-под портвейна «Алабашлы», два стакана и пепельница литого стекла, полная окурков.







