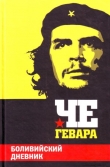Текст книги "Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета"
Автор книги: Сергей Чупринин
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Укрощение Гулливера
Современная русская поэзия и современная русская жизнь в борьбе с Маяковским
С юбилеем Маяковский явно припозднился.
Годков на пять раньше прийтись бы 100-летней дате – какие, господи, страсти тогда бы вскипели, как заспорили бы отчаянно, как сошлись бы врукопашную – и поэты, и критики, и публика. А теперь…
Что есть праздник, что нету его. Тишина. Никто не пришел – будто на предсмертную и, как отсюда видно, самоубийственную выставку «Двадцать лет работы».
Кроме специалистов, разумеется. Они-то, дай бог им здоровья, заняты делом. Читают доклады в Москве и в Париже, разворачивают – к жерлу прижав жерло – многотомные комментарии, выступают в газетах, по радио, по телевидению.
Их час.
Их страда. Их торжество – до озноба, впрочем, напоминающее собою похороны классика. Конечно, по высшему разряду, с глазетом, с пышными венками, с артиллерийским салютом, но оттого еще более похороны. Или – лучше, может быть, сказать – обряд перезахоронения, перенесения праха Владим Владимыча в саркофаг, в мавзолей, на манер ленинского, проходя мимо которого люди привычно крестятся, но никто не прерывает оживленной беседы о предметах и понятиях, бесконечно далеких от того, что волновало творца «Флейты-позвоночника» и «Мистерии-буфф».
Жизнь – отдельно. Маяковский – отдельно.
Вот студенты Литературного института. Заканчивая учебный год, в преддверии славной даты, я обратился к ним с маленькой анкетой «Маяковский в моей судьбе». Каюсь, догадывался, каким будет ответ, но и меня поразили хладнокровие, невзволнованность, с какою нынешние «красивые, двадцатидвухлетние» поэты отделались, отписались от темы, им внутренне глубоко безразличной. Они не читают Маяковского. Они не хотели бы показать свои стихи Маяковскому как некоему провиденциальному читателю. Они и случайно, бессознательно либо полемически с ним не перекликаются, причем – таково уж новое поэтическое поколение в России – этот неинтерес в равной степени распространяется и на «Хорошо!», и на стихи раннего, первого тома, который еще десятилетие назад стоял в интеллигентском сознании в одном престижном ряду с томиками Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака.
Близкие впечатления доставляет и мой опыт журнального редактора, следящего за тем, что поступает и от профессионалов, и от графоманов в отдел поэзии журнала «Знамя». Батюшки-светы, кому только не подражают нынче, с кем только не враждуют, на чьих только приемах и реминисценциях не работают! – за вычетом Маяковского. Он, если и угадывается в иных, как правило, любительских строчках, то лишь отцеженный и обезвреженный, пропущенный сквозь отстойники и фильтры Вознесенского, Олжаса Сулейменова, Высоцкого, других поэтов «шестидесятнического» круга.
Да что говорить!.. Даже и такие яркие, последовательные авангардисты, как Виктор Соснора, Геннадий Айги, Юрий Арабов или, допустим, Дмитрий Александрович Пригов, и те пишут нынче так, будто никакого Маяковского в природе не существовало.
Я думаю даже поэтому, что и этот очерк уместнее было бы назвать словами «Современная русская поэзия и современная российская действительность в отсутствиеМаяковского». И если все же говорю о «борьбе», ныне исчерпавшейся, закончившейся сокрушительным поражением агитатора, горлана, главаря, то лишь потому, что нынешнее музейное безразличие есть своего рода итог десятилетий непрекращавшейся мучительной схватки: грубого, силового вторжения Маяковского в нашу биографию, в наши мысли и чувства – и попыток осторожно, едва заметно притворить дверь перед этим Каменным Гостем, мягонько-мягонько оттеснить его, вытолкать сначала в прихожую, затем на улицу и наконец в предусмотрительно изготовленный по его мерке мавзолей-склеп.
Поэтические сборники второй половины шестидесятых – первой половины восьмидесятых годов перечитываешь в этом смысле, будто сводку реляций с фронта боевых действий или будто – простите мне еще одну литературную параллель – хронику того, как Гулливера (могучего, зато одинокого) берут в силки, тысячью тончайших нитей удерживая от слишком резких, опасных движений. На каждое громозвучное «маяковское» «Да!» слышится в ответ согласованно тихое, деликатное, но неуступчивое «Ну уж нет!», и не припомнить сейчас поэта, не участвовавшего в этом драматическом заговоре: от Ахмадулиной до Рубцова, от Всеволода Некрасова до Арсения Тарковского, от Владимира Соколова до Тимура Кибирова.
Напомнит, предположим, о себе «маяковская», государственническая мечта о том, чтоб к стиху приравняли перо и чтоб о состоянии стихов делал доклады Сталин, как тут же протестующе отзовется Юнна Мориц:
Лучше вольным соловьем,
Чем орлом у трона.
Нет, не лучше. Только так —
Соловьем, и вольным…
Огромит мир романтическое, «маяковское» представление о поэте как о титане и полководце человечьей силы, ростом выше Джомолунгмы, ровне Бога и Солнца – и тут же, ошарашенный «маяковской» безвкусной мегаломанией Александр Кушнер:
Далей не вижу,
Вижу, как все,
Дерево, крышу,
Дождь на шоссе, —
а Белла Ахмадулина с демонстративной безмятежностью переменит маску сверхчеловека на маску то ли добровольного аутсайдера, последыша в семье богов, то ли гоголевскочеховского «маленького человека», который в любой очереди всегда оказывается последним – «позади паренька удалого и старухи в пуховом платке, слившись с ними, как слово и слово на моем и на их языке». Причем обратите внимание на смену не только смыслов, лирической идеологии, но и пафоса, но и самой мелодики стиха. Патетический монолог, адресуемый векам, истории и мирозданью, мягко уступает в русской поэзии место либо исповедальному шепоту, либо беззлобному ерничанью, либо – это чаще всего – беседе хорошо понимающих друг друга, доверяющих друг другу людей, и в стихах торжествует ощущение самодостаточности этой изолирующей, уберегающей от истории и мирозданья беседы, ибо – я опять цитирую Александра Кушнера – «мне и стихи-то дороги тем, что не открыто все в них и всем».
Космическое или, как минимум, «земшарное» переводится в сообразный нормальному человеку масштаб, то есть минимизируется; патетика разъедается, последовательно компрометируется иронией и самоиронией; имморалистические ценности крикогубого Заратустры, решительно всему на свете бросающего вызов, решительно всем на свете недовольного, незаметно, но надежно подменяются ценностями мирного обывателя, хорошего семьянина или – в самом крайнем, экзотическом случае гуляки праздного, но безвредного, не опасного для окружающих.
Поэзия Маяковского – и как раз в этом суть исторического спора, – представая хоть гипериндивидуалистической, как в первом томе, хоть гиперколлективистской, как в последующих, – всегда гипери, следовательно, всегда нарушает норму, выдергивая личность из скорлупы частной жизни, лишая человека уюта, покоя, нравственной защиты и чувства личной самодостаточности.
Русская поэзия второй половины XX века, прямо наоборот, соединенными усилиями возвращает россиян к норме, к подзабытым ими «в буре-мире» радостям и заботам, частной, локальной и локализованной жизни, дает сладкое, хотя, возможно, пресноватое ощущение дома, крова, дружеского круга, и нет в этом смысле разницы между такими певцами «провинциальности как стиля жизни», какими в равной степени явились Николай Рубцов и Иосиф Бродский, Олег Чухонцев и Давид Самойлов, который (замечу в скобках) не только лирически, но и биографически выбрал жизнь «в провинции у моря»:
Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
все боли и беды от вас отдалив,
а небо и море приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.
И нет в этом смысле для русских поэтов последних десятилетий идеала более привлекательного, чем поздний пушкинский, лукавый и безмятежный – я, разумеется, имею в виду знаменитые слова про щей горшок да сам-большой.
Иными словами, альтернатива «Современная русская поэзия или Маяковский» рисуется как драма выбора между нормой, в пределе доходящей до лилипутской, добродетельной скуки, и опасностью, в пределе опять-таки доходящей до воли к убийству. Либо – к самоубийству, и характерно, что все, плотно сросшиеся с Маяковским, кончили жизнь наложеньем рук на себя; от музы поэта Лили Брик до его заклятого оппонента Юрия Карабчиевского.
Восходя к ответственным обобщениям, я рискнул бы поэтому заметить, что пафос, одухотворявший русскую поэзию предперестроечных лет, включаю сюда и поэзию диссидентскую, мученическую, прямо противоположен по вектору и знаку тому пафосу слома, катастрофы, «музыки революции», которым жили поэты предоктябрьской поры – от Блока до Маяковского. С точки зрения высокой поэзии, романтического канона это, может быть, и ужасно, поскольку свидетельствует о редуцировании масштаба, о мещанской мелкотравчатости и добропорядочности наших с вами современников, но никто, я повторяю никто из русских поэтов – к великому нашему гражданскому счастью – на рубеже 70–80-х годов не заклинал: «Буря! Пусть сильнее грянет буря!» Никто не ликовал при мысли, что после Андропова и Черненко «в терновом венце революций грядет какой-то там год!» Никто даже и не призывал: «Покинь красивые уюты!»
Не стоит, разумеется, преувеличивать влияние поэзии на социальную практику, на поведение как индивидуума, так и толпы, но если на минутку все же преувеличить, то можно было бы сказать: в мирном, в плавном, в скучном, в неромантически эволюционном течении нынешних российских реформ повинны до известной степени и русские поэты. Они последовательно отучали – и отучили – публику от романтики, от красивых подвигов и жестов, oт любви и воли к насилию.
И более того. Если, разумеется, исключить из рассмотрения стихотворцев коммуно-шовинистического склада и если не придавать серьезного значения десятку-другому прогрессистских стишков на злобу дня, то окажется, что и сами-то реформы нынешняя российская поэзия благополучно проспала. Это ослабление, как раньше говаривали, публицистического тонуса, – мол, гражданином быть обязан, – газетно-журнальная критика обыкновенно ставит в вину поэтам, и зря, мне кажется. Быть может, счастье наше как раз в том, что не заводятся больше в стране гулливеры и мечтатели, что нет больше призывов строить и месть в сплошной лихорадке будени что никто не покрикивает: «Левой! Левой!» – а не то, мол: «Ваше слово, товарищ маузер!».
Пусть все идет, как оно и идет, – природо– и народосообразно, оставляя человека в доме, под кровом, в тесном семейном и дружеском кругу, в заботе о хлебе насущном, а не о том, зачем зажигаются звезды.
И наоборот: от Маяковского отшатнулись в испуге. Маяковского, будто Четвертый энергоблок Чернобыля, поспешили упрятать под бронзы многопудье, в музейный саркофаг, Маяковского передали в ведение узким специалистам, о Маяковском запретили себе вспоминать именно потому, что интуитивно почувствовали в нем то, что бередит, конечно, воображение, но что органически враждебно эволюции, норме, спокойной жизни, а именно пафос насилия, социальной и биологической агрессии, витального активизма.
Маленькое воспоминание под занавес: юбилейную конференцию в Париже Андрей Донатович Синявский начал чтением «Левого марша». Стихи звучали страстно – и страшно, ибо ни у кого, наверное в мировой поэзии нет такого, как у Маяковского, арсенала огнестрельных, бронебойных, режущих, ранящих, колющих, душащих, убивающих и самоубивающих образов и тропов. Я слушал и мучительно думал, кто бы из наших современников мог сказать так же и такое же, кого можно было бы звать наследником Маяковского. И лишь одно имя пришло на ум: Эдуард Лимонов, его публицистика, его призыв к топору, к крови, к романтически красивым, силовым поступкам.
Смешно думать, что весь Маяковский сводим только к лимоновщине. Не сводим, конечно, но в стране, где никто – по крайней мере, никто из читающих стихи – не хочет больше ни умирать, ни убивать, отправляя на пепельницы черепа, этого лирического «парабеллум» более чем достаточно для однозначного отталкивания.
Другой вопрос, что жить без гулливеров скучно, что поэзия неизбежно хиреет на семейно-дружественном домашнем рационе, что ампутация начал агрессивности, насилия, витальной активности отнюдь не только благотворно сказывается на жизнедеятельности литературы и вообще общественного организма. Но это действительно другой вопрос, и отвечать на него время еще не пришло.
Когда оно придет, мощной проникающей радиацией вырвется из саркофага и поэзия Владимира Маяковского.
Старое, но грозное оружие: Марк Щеглов и Александр Макаров
Строгий юношаДумаю, что в Вашем лице советская литература – может быть, впервые – приобретает критика выдающегося.
Эм. Казакевич – М. Щеглову
Воспоминания о Марке Александровиче Щеглове, статьи о нем дышат простительным изумлением:
«Он напечатал первую свою заметную статью в сентябре 1953 года. В сентябре 1956 года он умер. Три года – слишком малый срок в литературной судьбе. Но… след его ярок, заметен и сегодня» (В. Лакшин).
«…Меньше чем за три года, прошедших со времени первого его солидного выступления в печати до его смерти, его имя стало известным и популярным как имя одного из талантливейших молодых советских критиков» (Н. Гудзий).
«…За эти три года он написал два десятка блестящих, глубоких, исполненных огня и мысли литературно-критических статей и рецензий, которые поставили его в ряд крупнейших критиков нашей литературы» (Б. Панкин).
Когда же он успел? Почему именно ему удалось за столь малое время
«…отработать свое перед великой русской литературой»?
(Л. Аннинский).
Жизнь была чудовищно немилосердна к Марку Щеглову. С детства она лупила по нему прямой наводкой. Двух лет от роду он заболел туберкулезом позвоночника, мыкался по больницам, санаториям, клиникам; учился большей частью заочно; боролся с самой отчаянной нуждою, подрабатывая то ретушером в фотоателье, то рисовальщиком в художественных артелях; с великими трудами, превозмогши сопротивление бюрократов, пробился на очное отделение филологического факультета МГУ – и в очередь с семинарами, литературными вечерами, первыми рецензиями вновь санатории, вновь грозные знаки наползающей гибели. Читаешь в дневниковых записях Щеглова: «В душе мгновенный, колючий ужас – ноги слабеют»; «Ноги совсем плохи. Жутко. А на свете – весна, блеск, песни. А мне жутко»; «Я окончательно приговорен к туберкулезу, паралич плесенью охватывает мое тело, подбираясь почти что к горлу», – и сердце сжимается от сострадания: знаешь, как скоро придет жаркий сентябрь 1956 года – последняя больница в пропыленном, прокаленном Новороссийске, последние, уже сквозь смертную боль выговоренные фразы, последний глоток воздуха…
Он жаловался? Бывало и так, конечно. Но чаще, как это ни дико покажется, быть может, сегодняшним здоровякам, чаще – ликовал, безоглядно влюбляясь в погожие московские или подмосковные деньки, в колонны демонстрантов на брусчатке Исторического проезда, в полузнакомых или вовсе незнакомых девушек («Уродливый и немощный, я люблю сильных и красивых девушек, улыбчатых и нецеремонных»), в радиоконцерты Бетховена и Чайковского или даже в какой-нибудь дурацкий, ныне всеми благополучно позабытый кинофильм…
«Студенческие тетради», где В. Я. Лакшиным и Н. В. Щегловой-Кашменской заботливо собраны (жаль, что не прокомментированы) дневники и письма Щеглова конца сороковых – начала пятидесятых годов, впечатляют теперешнего читателя прежде всего контрастами, искрящим стыком полярных друг другу психологических и духовно-интеллектуальных состояний. Отчаянье – и восторг. Ужас одиночества – и счастье растворенности в коллективе, пусть даже в коллективе жэковской студенческой организации. Прочное знание жизни – и недоверие к своему личному опыту, и добровольное, вплоть до самозабвенности, подчинение очередной умственной иллюзии, очередной массированной атаке жизненных обстоятельств. Слепая убежденность в истинности любого радиосообщения – и прорывающаяся вдруг полуосознанная независимость в суждениях и оценках. Врожденный художественный вкус – и влюбчивость в те или иные маловысокохудожественные фантомы («Он знал за собой “грех” излишне быстрой возбуждаемости…» – вспоминает Ю. Суровцев). Энтузиастическое понятие о своем литературном предназначении – и робость, и тягостные, обезволивающие сомнения…
Жизнь прицельно била по Марку Щеглову. Но он и сам бил по себе прицельно, частью изживая, частью истребляя в собственной душе и в собственном поведении не свое, внушенное извне или навязанное обстоятельствами времени и места, по каплям – не случайно, совсем не случайно Чехов был его «вечным спутником»! – выдавливая из себя раба чужих мнений и распространенных предрассудков. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Так – в борьбе с собою и с обстоятельствами, отнюдь не только личными, – рождался характер, без которого Марк Щеглов, наверное, вообще не состоялся бы как критик и без которого, это уж точно, он не успел бы сделать так много, ибо главной, ведущей в характере была энергия преодоления, столь необходимая для результативной работы в литературной, духовно-культурной ситуации тех лет.
Пишущие о Щеглове любят указывать на непротиворечивость, естественность его нравственного и профессионального развития, на то органическое единство, в каком «Студенческие тетради» находятся с его литературно-критически ми статьями 1953–1956 годов. Это так. Но заслуживает быть отмеченной и разница между ними, вернее сказать, дистанция огромного размера, пройденная «строгим юношей» в университетскую пору.
«Студенческие тетради» похожи более всего на книгу родовых мук пробуждающейся личности. Перед нами дневник души, еще только учащейся доверять себе, человеческий документ, вся пронзительность и притягательность которого как раз в диссонансах, в контрастах, в динамическом неравновесии, а то в рукопашной схватке враждующих крайностей.
И совсем иное дело – «Литературная критика», где «молодое» тяготение к крайностям и эмоциональным перехлестам практически не ощущается, где амплитуда внутренних колебаний личности умерена дисциплинирующей волей, и «сокрытый двигатель» критика не позволяет себе ни сбоев, ни холостых оборотов. Если уместно такое сравнение, я сказал бы, что «Студенческие тетради», испещренные помарками и вымарками, рискованными предположениями и нечаянными догадками, написаны вот именно что мятущимся, познающим себя студентом, тогда как статьи и рецензии, шедшие в печать или, во всяком случае, предназначавшиеся для печати, от первой до последней обнаруживают в себе «профессорское» начало, прочитываются как естественно, закономерно продолжающие друг друга главы единого труда о литературе и литературно-общественном сознании эпохи. Причем, и это тоже существенно, написаны главы будто бы одновременно, за один присест, так что лишь по датировкам, а не по уровню проявленной критиком зрелости мы сейчас распределяем их на более ранние и более поздние.
Период ученичества, столь, казалось бы, непременный в жизни литератора, выпущен, по крайней мере, из поля зрения публики. И возникает впечатление, что в одну буквально ночь перед тем, как засесть за работу над своей первой статьей, Щеглов неуследимо переменился.
Так ли это? Так, ибо резко и на всю оставшуюся жизнь сменилась модальность в отношениях Щеглова и с самим собою, и с литературой. Автор «Студенческих тетрадей» обращался исключительно к самому себе и потому сполна пользовался естественными для читателя, то есть для частного лица, правами, – например, правом на ошибку и вкусовое предпочтение, правом противоречить самому себе и правом непринужденно смешивать важное с пустяками.
Став критиком, то есть, по его и нашему мнению, человеком, которого общество специально уполномочивает быть своим представителем в литературе, Щеглов сознательно лишил себя всех приятных прав частного лица – кроме, быть может, права на непосредственное эмоциональное переживание художественного текста. Да и оно, если вглядеться повнимательнее, подчинено у критика долгу и, во всяком случае, строго контролируется чувством ответственности перед культурой, перед читателями, перед временем.
К времени, к читателям совестно приставать с пустяками и личными проблемами – здесь уместен разговор только по крупным, или, как выражался Щеглов, «центральным» поводам. И не на догадки, не на вкусовые симпатии или антипатии следует тут опираться, но на знания и убеждения. И не о восторжествовании собственной позиции хлопотать, а об упрочении общественного мнения, на сломе эпох (Щеглову выпало работать как раз на сломе) обновляющегося и перестраивающегося с особенной динамичностью.
За три года, отпущенных судьбою, Щеглов не успел, конечно (хотя, кажется, сориентирован внутренне был именно на это), нарисовать панорамную, подробно детализированную картину всей современной ему литературы. Зато он сумел создать ее емкий, впечатляющий образ, во-первых, отбирая среди «поводов» те, что действительно были «центральными» или имели шанс стать ими, а во-вторых, стремясь увидеть в книгах, которые попадали ему порою по воле случая (например, срочного редакционного заказа), не только приметы своеобразия, но и типические, общезначимые черты.
Он писал о лидирующих в тогдашнем репертуаре пьесах А. Корнейчука, А. Софронова, А. Штейна, А. Арбузова и, сохраняя полную объективность в оценках, подчеркивая даже чисто интонационными средствами собственную благожелательность, выделял в них ту помпезность, велеречивость, дидактичность, ту страсть к «подгонке» жизненного материала под заранее известный ответ, от которых литература (отнюдь не только драматургия!) к середине пятидесятых годов уже начала освобождаться, но еще не освободилась окончательно.
Он обстоятельно разбирал «Русский лес» Л. Леонова, действительно центральное произведение прозы тех лет, и с взыскательностью, которая могла показаться и показалась некоторым читателям чрезмерной, проводил резкую грань между поэзией знаменитого романа и свойственным ему же духом «храмовничества», ложной и натянутой многозначительности, между бесспорно актуальным стремлением автора заклеймить «грацианщину» как опасное социальное зло и авторской же попыткой трактовать это зло исключительно как пережиток дореволюционного прошлого; нет уж,
«…нам ведь нужна, – писал Щеглов, – не только констатация наличия пережитков, но и исследование их, борьба с ними, умение их обнаружить в их новейшей, подчас внешне “советской” форме».
Он говорил о Блоке, Есенине, Грине, как раз в те годы утверждавшихся в законных правах классиков советской литературы, и, словно бы предваряя позднейшие споры о наследии Андрея Белого и Мандельштама, Булгакова и Хлебникова, Бабеля и Цветаевой, делал веский и по сей день не утративший своего принципиального значения вывод:
«…мы долгое время были очень не правы, легко отдавая сложные, но пленительные явления культуры прошлого этому прошлому».
Он обратился к очеркам В. Овечкина, Г. Троепольского, В. Тендрякова, разметил достоинства и недостатки лирической повести С. Антонова «Дело было в Пенькове», не зная, естественно, но словно бы предчувствуя, что на скрещении именно этих казавшихся несовместимыми линий – заземленно-будничной, «деловой» и сентиментально-лирической – возникнет спустя десятилетие и силами других уже художников феномен «деревенской прозы».
Он нашел «поэзию обыкновенного» в непритязательно-скромных рассказах И. Лаврова и, не колеблясь, говорил об этом «открытии» мира простых людей, обыденных драм, будничных переживаний как о самом, с его точки зрения, значительном событии в современной ему литературе.
Горячность щегловского тона, масштабность его выводов не соразмерны конкретному поводу? Возможно, но они соразмерны явлению, еще только просматривавшемуся в середине пятидесятых годов за книгой читинского прозаика. И Щеглов пишет в редакцию «Молодой гвардии», где решалась судьба статьи:
«Тут есть что-то особенно дорогое – не Лавров, а общие слова, которые касаются, как мне кажется, самого важного сейчас и в литературе и в жизни. Плохо ли, хорошо ли, но это написано…»
И Щеглов разрывает ровное течение своей аналитической мысли юношески страстным монологом, который и теперь – спустя тридцать лет – не потерял ни актуальности, ни убеждающей энергии:
«Нам представляются высшей степенью холодного равнодушия те литературные «манифесты», в которых говорится о “бескрылой”, “неудачливой в жизни мелкоте”, которая “полезла” на страницы книг, а также брезгливые замечания о загсах и нарсудах, о так называемых “мелких дрязгах быта”… Кто эти великолепные счастливцы, спасенные жизнью даже от того, что они сдержанно именуют “некоторыми неустройствами быта”, бестрепетно проходящие мимо “мелких дрязг”, отраженных в деятельности столь почтенных учреждений, как загс и нарсуд, не запинаясь рассуждающие о “маленьких людях”, о “мелкоте” со “слабыми идейными поджилками”, об “обыденной сутолке” жизни! Каким образом мог сложиться в наши дни этот их барский идеализм? И со всем тем какая внутренняя вульгарность слышится в этом накоплении брюзгливых словечек “мелкий”, “неудачный”, “мелкота”…»
С чем полемизирует Марк Щеглов? С некоторыми положениями статьи В. Ажаева «Молодые силы советской литературы», ныне памятной только биографам этого писателя, или с отголосками «барского идеализма», которые ни на день не покидали все эти годы страницы литературной периодики, трансформируясь в дискуссии о бытии и быте, о правде и правдоподобии, о тупичках частной жизни и столбовых дорогах общественного прогресса?
Что защищает Марк Щеглов? Сборник рассказов И. Лаврова? Или семинских «Семерых в одном доме», «Хранителя древностей» Ю. Домбровского? Городские повести Ю. Трифонова? Рассказы В. Шукшина? Пьесы А. Вампилова? Прозу В. Маканина, А. Курчаткина, иных «сорокалетних»?
Щеглов, случалось, ошибался в конкретных оценках. Но он ни разу – и это надо подчеркнуть: ни разу! – не ошибся в оценке литературной перспективы. Литература оправдала все «центральные» ожидания и прогнозы критика. Более того. Литература в своем развитии, наряду с достижениями, поставила и материал, подтверждающий истинность и своевременность щегловских предостережений. Так, например, критик небезосновательно опасался, что в книгах, защищающих честь и достоинство так называемого «маленького человека», может возникнуть диктуемый благородными побуждениями и все равно «неприятный, ложный тон жалостной утешительности, противоречащий… правде нелегких и суровых жизненных обстоятельств…», и, увы, этот тон действительно дал о себе знать и в прозе, и в поэзии, и в драматургии шестидесятых-восьмидесятых годов.
И еще пример. Требуя от художника прежде всего искренности и правдивости, настаивая на том, что истинные обретения ожидают литературу на пути все более последовательного вторжения «в сферу действительной жизни, в особенности же в ту область обыкновенного, каждодневного, в которой формируется и протекает жизнь людей, не очень легкая даже в величавые исторические времена», Щеглов в то же время предвидел и предупреждал, что литература в процессе сближения с «прозой жизни» может утратить чувство поэзии, артистическое изящество, дух творческой изобретательности и художественного вымысла.
«Марк Щеглов, – сошлемся здесь на точное наблюдение В. Лакшина, – готов был принять будничность как предмет изображения, но не как черту творчества. Красота формы, нарядность, оригинальность, даже эксцентричность подкупали его», ибо он склонен был доверять собственному «ощущению искусства как праздника жизни».
Что ж, опасения критика сбылись и на этот раз, скажем мы, перебирая в памяти множество внешне очень даже правдивых, но лишенных художественного «нерва» и художественной грации книг о современной действительности и современном человеке. Хорошо, конечно, что «наши суровые, хорошие времена» перестают блистать в литературе и на сцене «пошлейшей позолотой». Но нужно ли радоваться чуть ли не нарочитому сужению спектра красок и художественных возможностей в творчестве ряда талантливых и безупречно честных писателей? Нужно ли рукоплескать, когда мы видим, что «новый человек пришел на сцену не для того, чтобы показать свою новизну во всей неизмеримой и неэкономной природе человеческих проявлений, не для того, чтобы, говоря торжественно, мыслью оспорить Гамлета, а чувством сравняться с Отелло, а для того, чтобы решить в деловой обстановке какой-то производственный или ведомственный вопрос»?..
Принадлежа по самой сути характера и дарования к той ветви критики, которая берет свое начало от революционной демократии XIX века, Щеглов безоговорочно стоял на позициях реализма с его требованием поверки искусства жизнью. Но – и тут важная тонкость – его мало соблазняла излюбленная лжепублицистической, то есть вульгарно-социологической, критикой манера жестко совмещать контур художественного факта с его жизненным прообразом, торжествующе восклицая время от времени: «Ага, так в жизни не бывает!.. Ага, и вот тут зазор, и вот там несовпадение!..»
Искусство не нуждается в том, чтобы выдавать себя за действительность. Оно не оконное стекло, а магический кристалл, укрупняющий, одушевляющий и, значит, тем самым преображающий реальность. Щеглов был убежден в этом и, настаивая на верности деталей как на первом признаке реалистического творчества, не забывал в то же время напоминать: да, первый, да, необходимый признак, но далеко не единственный, далеко не исчерпывающий всю сущность реализма.
Вот почему, узнав, например, что отнюдь не все ученые-лесоводы разделяют теорию сбалансированного лесовоспроизводства, доказываемую Вихровым в романе Л. Леонова «Русский лес», критик счел своим долгом только упомянуть об этом обстоятельстве, но никак не «торпедировать» им художественно-философский смысл разбираемой книги.
«Конечно, печально, – пишет Щеглов, – если писатель действительно не до конца уяснил себе научную и практическую проблему, поставленную им в центре борьбы, ведущейся на страницах романа, но ведь главное(курсив М. Щеглова. – С. Ч.), что остается в сознании читателя, когда он хочет уяснить себе позиции Грацианского и Вихрова, – это не разница между лесопользованием и лесовоспроизводством».
Критик готов к спору с писателем. Но он знает, что разговор об искусстве плодотворен лишь в том случае, если он ведется в категориях искусства. Любая попытка перенести дискуссию в плоскость внеэстетических координат отвлечет от художественной стороны дела, от его смыслового «ядра» и, следовательно, будет равна подмене сути. Критика же интересует именно суть и, точно исследуя словесно-образную фактуру романа, он в ней, а не в привходящих моментах выявляет и могучую художественную правдивость леоновского романа, и зовущие к мировоззренческой полемике отступления от нее. Возникает редчайшее в нашей практике впечатление соразмерности романа и отклика на него, принципиального равенства писателя и критика, так что позднейшая оценка Б. Панкина: «Верится: два эти произведения будут стоять для читателя рядом, как стоят, например, повесть “Ася” Тургенева и статья о ней Чернышевского или роман Гончарова и статья Добролюбова» – никак не выглядит натяжкой.