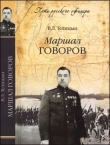Текст книги "Черепаший галоп или Титановые звезды маршала Каманина"
Автор книги: Сергей Буркатовский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Вообще, советские люди за 5 крайних лет немного поменялись. Среди «хороших программистов» и «магистров-электронщиков», удержавшихся на крутой волне перемен, выковался новый тип. Эти ребята все так же любили ходить в горы, петь под гитару и всесторонне общаться с девушками.
Однако по возвращении "с покоренных вершин" бороды немедленно и без сожаления сбривались согласно требованиям особо чистого производства, галстук перестал считаться удавкой для свободомыслящего человека, само мышление и речь становились более строгими и точными – в тон строгим и точным программам. Песни под гитару тоже слегка изменили тональность. Девушки (те, кто сам не был хорошим программистом или магистром-электронщиком) обижались, дули губки и обзывали магистров роботами и сухарями. Однако же бытие определяло сознание. Разница в зарплатах у тех, кто соответствовал высшему инженерному (а и рабочему) разряду и тех, кто не нашел в себе сил отказаться от бороды как первичного полового признака интеллигентного человека (ну или ежевечернего пивнячка как ППП человека душевного, кому что), была двукратной, а то и поболе. Ну и плюс премии по результатам сдачи проектов или объектов. Результат – дача 6 соток, "Запор-Жигули-Москвич", кооператив-двушка. Так что роботы и сухари не имели шансов остаться в холостяках надолго.
Поначалу таких было немного – однако же интерес вояк – а потом и кой-кого из цивилов – к насаждаемой Каманиным тирании привел к эффекту кристаллизации перенасыщенного раствора. То, что в стране не все ладно, к 72 году стало понятно многим. Расстрелы и ссылки были не в моде, и слава Марксу. Однако же "коррекция" тарифной сетки, как выяснилось, работала не менее эффективно. Вылетев с позиции пятого разряда на третий, а то и на второй – смотря какого косяка запорешь – человек терял уже не десять-двадцать рублей, а 60-80, почти пол-зарплаты. А наверстать эти разряды снова, как и было при Усатом, стало ой как нелегонько. Вот и подумаешь – а оно надо?
"Низы" роптали – но "верхи" хотели и могли. Да и руководителей перестали катать по карусели – из директора цирка в директоры бани. То есть на банном уровне-то ничего, баня-продмаг-дом культуры, ставка сто двадцать тире сто пятьдесят плюс районые – но вот вылетев из директоров номерного завода за постоянный брак, только на этот уровень рассчитывать и оставалось.
"Новой" рабочей и инженерной элиты было дай Бог один на тысячу, однако же они были на виду. "Впрочем, это уже совсем другая история"©
А вот что было частью той же истории – так это, несомненно, повторные визиты в СССР Никсона и Помпиду. Вообще-то согласно нормам дипломатии визит в США должен был наносить Устинов – президент Штатов приезжал в СССР всего год с небольшим назад. Но Никсон, по ряду причин, был крайне заинтересован в личном общении с новым руководителем СССР. Ну и Устинов пока еще не мог покинуть страну – вникал в дела.
Поводом назначили посещение Никсоном могилы Брежнева у Кремлевской Стены. А вот причина с космосом была связана, да еще как.
О совместном полете "Союза" и "Аполлона" в 74-75-м договорились еще при Брежневе. Лунная программа СССР американцев не беспокоила совсем, ибо "физзанах и ноуфак" ((с) омереканцкии падонки). Со станциями тоже проблем не было – Скайлэб был более чем убедительным ответам обоим "Салютам". А вот "Космос-номер-как-его-там", запущенный в октябре "Атлантом-3", "Н-23" тож, не спеша прошедшийся вдоль геостационара и передавший по ТВ-каналу изображение трех американских спутников РТР и связи – с разных ракурсов и явно с близкого расстояния, обеспокоил крайне.
Это-то ладно, геостационарная орбита – не стриптиз-бар и не кинотеатр, за погляд денег не берут. "А если бы он вез патроны"? А вдруг он их, наряду с телекамерой, и вез? Экономика Америки, подкошенная Вьетнамом и бешеной ценой на нефть, была не в лучшей форме, но и у русских, похоже, назревали крупные проблемы. Так что не закручивать нового витка гонки вооружений, теперь уже в космосе, было, в общем, в интересах обоих сторон. А вот когда залетают Шаттлы…
Общались долго, вежливо и тяжело. Устинов не был сентиментальным добряком типа Леонида Ильича, Громыко aka "Mister No" хватки не потерял, Косыгин тоже был не лишен дипломатических способностей. Ну и позиция у русских была сильной. В общем, договорились оружие в космос не выводить, рабочим группам проработать вопрос совместно с вопросом по ПРО, комплексно.
Военные приуныли – "Союз-18" успешно отстрелялся по собственной же ступени прототипом ракеты "Космос-космос" (с инертной БЧ) еще в сентябре. Да и на геостационарном вуайеристе, помимо телекамеры, было два подобных дивайса. Однако ж им живо объяснили, что отрабатывать стыковку с вышедшей из строя и совершенно не склонной к содействию собственной станцией им никто запретить не может. Ну и фотографировать особо интересные небесные тела тоже никакой не грех. А так мы народ миролюбивый. Так что давайте, ребята, пара беллум, бо сивис пАсем.
С президентом Пятой Республики разговор пошел более приятным образом.
Во Францию с ответным визитом Брежнев съездить успел, так что в случае с Помпиду протокольных проблем не было.
На Байконуре в декабре ОЧЕНЬ холодно. Хуже всего – ветер, успевающий взять неслабый разгон по бескрайней степи. Помпиду со свитой заняли половину "Звездной", которую, впрочем, во что-то хотя бы четырехзвездочное превратить так и не удалось. Однако ж дороги до площадок положили относительно приличные. Правда, таковыми они оставались лишь до весны – специфика аврального зимнего строительства-с. "Антеями" натащили кучу аэродромных снегоочистителей и несколько ЗИЛ-овских автобусиков "Юность".
Возили везде, в том числе и на "Атлантовские" стартовые комплексы. Однако запуск показали лишь один – "Союз" вытащил на орбиту биолабораторию с обезьянками. Помпиду понравилось. РН "Европа" – совместный проект Британии, Франции и ФРГ – так и не залетала, программа была только что прикрыта. Велись работы по чисто французскому проекту "Ариан" – однако успех его не был гарантирован. К тому же, во-первых первый запуск ожидался не раньше чем через пять лет – в лучшем случае и, во-вторых, грузоподъемность для пилотируемых полетов была маловата. А галльский гонор и несколько особое положение – в том числе и в НАТО – настоятельно требовали чего-то эдакого.
Договорились быстро – у СССР было то, что нужно Франции, а у Франции – то, в чем остро нуждался СССР.
ОКБ-1 копировало чертежи и техкарты "Семерки" и готовило несколько комплектов оснастки. КБТМ выслало группу разведки в окрестности базы Куру во Французской Гвиане – подбирать место под стартовый комплекс. В одном из отделов "Союза" поднимали архивы по возвращаемому аппарату Челомея – нам он был при живом "Союзе-М" не особо нужен, а лягушатникам приятно. Чего добру пропадать?
Инженеры Томсона прочно обосновались в Гусь-Хрустальном и Воронеже – строили заводы полупроводников и микросхем. Два летчика французских ВВС успешно прошли медкомиссию в Звездном – своего рода "обед для скрепления сделки". Тренировали их, правда, только по программе орбитальных станций – с лунной группой они почти не пересекались.
Лунная группа отряда космонавтов сидела как на иголках. Генеральная репетиция прошла так как надо – не без мелких неприятностей (их отсутствия всегда побаивались – значит, судьба откладывала заподляну на самый критический момент), но, в общем, нормально. Командиром первого экипажа назначили Рукавишникова, отлетавшего к «Салюту-2», пилотом орбитального «Союза» – Рождественского, пилотом «Севера-1» – бывшего вертолетчика из группы поиска с ранее почему-то не встречавшейся в космосе фамилией Иванов.
27 января 1974 года к Луне в беспилотном режиме стартовал «Север-1». Выход на орбиту спутника Луны прошел штатно. 3 февраля «Атлант-5» вынес на отлетную траекторию «Союз-19» с экипажем. 7-го состоялась стыковка. 9-го, после проверки систем «Севера», Рукавишников и Иванов совершили посадку в Море Спокойствия, в ста километрах от места посадки «Орла». В нарушение инструкций, Рукавишников остановился на нижней ступеньке лестницы и сместился в сторону, дожидаясь Иванова. На поверхность Луны они спрыгнули вместе.
На поверхности Луны космонавты пробыли 16 часов, из них вне корабля – 6, сначала 2 часа, потом 4.. Установили, как водится, флаг. Долго таскали приборы из размещенных между стойками шасси «багажников». Прокатились на «Луноходе». Получилось не так круто, как у американцев – скорость поменьше. Зато опробовали запитку скафандра Рукавишникова от дополнительного модуля жизнеобеспечения на борту «самовара».
Взлетели, отстыковались и ушли к Земле штатно. «Луноход-5», летевший «прицепом» к «Союзу», пошел вниз, искать место для следующей экспедиции. Посадка «Союза-19» на Землю ожидалась 14 февраля.
Незадолго до входа в атмосферу от спускаемого аппарата отделились приборно-агрегатный и бытовой отсеки. "Фара" СА прошла по пологой траектории над Индийским океаном, окруженная плазмой – и вновь вынырнула из атмосферы в космос. Второй нырок, опять перегрузки. На этот раз корабль уверенно шел к Земле, в сторону заснеженных степей Казахстана. Радиус рассеяния составлял добрую сотню километров – и в этом радиусе оказалось покрытое льдом и припорошенное снегом озеро Тенгиз. Двигатели мягкой посадки пробили тонкую корку – и спускаемый аппарат окунулся в ледяную воду. Намокший парашют потянул аппарат ко дну. Открыть люки экипаж не мог – в воде с температурой около нуля продержаться можно было максимум минут двадцать. Помощь не шла. Их нашли только к вечеру. Сначала на берегу сели два вертолета спасательной команды. Амфибии пробиться к кораблю не смогли. К полуночи к ним присоединился тяжелый "Ми-6". Пилот, лично знавший Иванова еще в качестве коллеги, пошел на серьезный риск – здоровенный вертолет мог грохнуться в воду рядом с СА. Но не грохнулся. К шести утра 15 февраля СА был вытащен на берег. Первым делом зеленый от качки и недостатка кислорода Рукавишников передал через люк вакуумированные контейнеры с грунтом. Космонавтов согрели – изнутри и снаружи. Вертолетчики налили Иванову дополнительно, из собственной заначки, как своему. Тот пробурчал: "Надо было садиться в Индийском океане. Тоже мокро – зато теплее".
Примечание – описана ситуация, случившаяся при приземлении СА «Союза-23» с экипажем в составе Рождественского и Зудова 16 окрября 1976 года.
Впрочем, налили всем. Еще бы! Отсутствие красного флага на луне не укладывалась в естественную для советского человека картину мира. Теперь диссонанс благодаря мудрому руководству Коммунистической Партии Советского Союза и лично товарища Устинова был устранен. В неком недоумении остались только сотрудники ГЕОХИ – неразговорчивые ребята в штатском, представившиеся сотрудниками ГОХРАНа, конфисковали как бы не четверть привезенного реголита, понемножку из каждой пробы. Типа, не дрейфьте, ребята – вам еще привезут. Ученые ушли в непонятки – это что, грядет денежная реформа? И на рубле теперь будут писать «Обеспечивается наличным запасом лунного грунта»? Однако же разъяснилось все быстро. На фактически праздничном заседании коллегии Главкосмоса Устинов лично вручил Каманину обещанные маршальские погоны. Звезды на шитье были подозрительно легкими. Неудивительно – под слоем позолоты был титан. Титан, срочно выплавленный из первой «неавтоматической» партии реголита.
В общем, грунт теперь должен был появиться в количестве. Летом планировался второй "дуплет", на 75 год – третий, на обратную сторону Луны. В Красноярске разрабатывали ретрансляторы, которые планировали вывести в точки Лагранжа. А дальше? Следовало подумать о перспективе.
Предложений была масса. Во-первых, КБ Люльки пошло по стопам Кузнецова – а мы типа чем хуже? – и представило 40-тонный РД-57 на жидком водороде с УИ за 450 секунд. Кузнецов не терял темпа – водородный НК-37 на базе «тридцать третьего» имел тягу уже под 200 тонн и почти такой же УИ. Глушко представил весьма проработанный проект «Н-23» с водородом на третьей ступени и разгоннике. Теперь «Союз» (без 6-тонного довеска, но с подвесными баками на 4.5 тонн – для торможения у Луны) можно было выводить на лунную орбиту «Перебором-В» (название попало даже в какой-то официальный документ). Стоимость экспедиции падала процентов на 15. Это было кстати – Устинов потихоньку наводил порядок в финансовой сфере и к подобным новостям относился благосклонно. Водородные блоки проектировались на все летавшие ракеты – переделанные БР Янгеля, Челомеевский «Протон», «Семерку», всю линейку «Атлантов». Глушко выделил отдельную группу для проектирования ракеты, по максимуму использовавшей как имеющиеся наработки, так и возможности рассчитанного первоначально на «Н-1» старта. Масса – 2800 тонн, 6 стандартных боковушек, центральная ступень с «НК-433», водородная третья ступень. На низкую орбиту – 125 тонн, к Луне, с водородным же РБ, – 55, к Марсу – больше 40.
Семенов заявил, что при применении в конструкции парашютов новых баллистических тканей (аналог американского кевлара) и при сокращении массогабаритных характеристик БЦВК и прочей аппаратуры (что обеспечил Пилюгин) появилась возможность упаковать в СА «Союза» четверых космонавтов. «Упаковать» – да, именно вот это самое слово. Макет нового СА в отряде космонавтов окрестили «шпротницей» – однако без оттенка неудовольствия. Летать хотелось всем. Кабину и баки взлетного модуля «Севера» также немного раздули. Теперь лунник вмещал троих.
Военные, однако, хотели бОльшего. ТТХ и общий облик нового американского космического челнока были известны, и погоны требовали «такого же, только с перламутровыми пуговицами». «Не, ребята, пулемет я вам не дам» – Устинов прикинул стоимость программы, – «Я дам вам парабеллум». Расстроенный прекращением работ по «Спирали» (воздушный старт с гиперзвукового разгонщика признали авантюрным на данном этапе развития техники), Лозино-Лозинский предложил свой вариант. Дельтавидный космоплан с лаптеобразным носом включал в себя баки на сотню тонн керосин-кислорода, заменяя собой 3 ступень «Перебора». Края несущего корпуса нависали над ускорителями первой ступени. Большая (за счет баков) площадь днища при массе всего тридцать с хвостиком тонн уменьшала плотность теплового потока при торможении и позволяла ограничиться металлической теплозащитой на большей части поверхности. Экипаж – также четверо – размещался в отдельной, катапультируемой и спасаемой хоть со старта, хоть с орбиты, капсуле. В стыковочном отсеке «на спине» размещалось полтонны груза, в негерметичном грузовом – еще две. Ускорители первой ступени предполагалось снабдить складным крылом и маршевым ТРД на манер крылатой ракеты и сажать на аэродром. В результате безвозвратно терялась только 2 ступень с двумя «НК-33» – но стоила она как бы не вдвое меньше Шаттловского бака. Военные ворчали «Хочу ба-альшую мафы-ынку, как у того мальчика» – однако ж на первое время были удовлетворены. В конце концов, 10 «фотоаппаратов» «Космос-Космос» или 4 «Космос-Земля» – вполне достаточно для экспериментов. Да и не только для экспериментов, по большому-то счету.
С Марса тоже шли неплохие новости. «Что такое не везет» русские знали давно, а вот «как с ним бороться» – это было ноу-хау последний пары лет. Окно 73-го года было неудачным. Аппаратам требовалось собственное топливо на доразгон. В результате стартовало опять четыре машины – два выходили на орбиту и служили ретрансляторами, два сбрасывали спускаемые аппараты. Все держали кулаки – экспедиция 71-го отработала на 1/8 от потенциала – отработал только 1 орбитальный блок. Кто-то поседел, когда внезапно замолчал один из ретрансляторов. Списали на метеорит – по изменению слабого сигнала определили, что станция внезапно закрутилась вокруг оси с большой скоростью. Однако второй ретранслятор вытянул– программа была достаточно гибкой и позволила передать картинки с обоих СА. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на марсе – так и осталось пока неизвестным. Предлагаемые экзобиологами приборы и в казахских-то степях обнаруживали жизнь через 2 раза на третий. В 75-м планировали пускать уже более тяжелые станции – либо водородным «Протоном», либо керосиновым «Н-23».
В Конгрессе обеспокоились. Практика показала, что от аналогичной по функционалу «Луны-9» до пилотируемой высадки у русских прошло 8 лет. Демократы увидели повод еще раз пнуть стремительно идущего к импичменту Никсона. Требовали немедленно возобновить полеты «Сатурнов» и лететь на Марс. Однако, услышав от директора НАСА оценки стоимости миссии, призадумались. Шаттл обещал радикально снизить стоимость вывода, решили дожидаться его.
Станцию «Салют-3» запустили в марте 74-го. Выводили ее уже «Атлантом», так что масса станции превысила 30 тонн. Челомей хотел «Атлант-5» и 68 тонн – однако все тяжелые носители были заняты в лунной программе. Помимо пары «полуандрогинных» – с лепестками, но без возможности активного режима – стыковочных узлов, на станции был мультиспектральный УФ-телескоп, печи для зонной плавки, оранжерея, экспериментальная установка по регенерации воды – для отработки длительных миссий, двигательная установка с возможностью дозаправки, различные тренажеры… А, да – три пеналообразные каюты для экипажа, что оказалось очень важным. В апреле к станции стартовала первая экспедиция – Романенко, Гречко и дублерша еще Терешковой – Ирина Соловьева. В июле (установленный на «Скайлэбе» рекорд был перекрыт) их сменили Соколов, Кизим и еще одна почти потерявшая надежду слетать дублерша – Валентина Пономаренко. Экипаж принял первый грузовик-автомат «Прогресс» – к ПАО «Союза» с полной заливкой крепился длинный цилиндрический грузовой модуль с системой стыковки. В баки станции перекачали две тоны топлива, из грузового отсека перетаскали две с половиной тонны груза. В третьем экипаже женщин не было – зато был врач. Шли на полугодовой полет. Однако на втором месяце полета Жолобову стало плохо. Срочно запустили дежурный корабль-спасатель. Жолобова сменили, полет продолжался. В результате решили держать в готовности к спасательному полету не один, а два корабля.
В ноябре к станции пристыковался еще один модуль. Короткий, всего 14 тонн весом. То есть при выведении «Протоном» масса его составляла почти двадцать тонн – но доставивший его к станции ПАО «Союза» отделился, обнажив кормовой стыковочный узел, и сгорел в плотных слоях атмосферы. Из научного оборудования на новом модуле был только многодиапазонный фотоаппарат от «Фольксайгенебетриб Цейсс», зато в широкой части модуля были еще две каюты и вторая версия полузамкнутой системы жизнеобеспечения. Кроме того, в наличии был развитой комплекс связи, явно избыточный по мощности для околоземной орбиты, а под ЭВТИ прятался толстый слой полиэтилена – защита от нейтронов, щедро рассылаемых Солнцем в годы повышенной активности.
Станция отработала до 77 года. Рекорд пребывания на орбите составил 195 суток.
75 год так же был богат на события. Во-первых, состоялась первая пилотируемая экспедиция (третья в советской программе) на обратную сторону Луны. Связь с Землей поддерживали через ретранслятор в точке Лагранжа. При возвращении не запустился основной двигатель взлетного модуля. Взлетели на резервном, состыковались. Затем, используя взлетную ступень в качестве шлюза, вышли в открытый космос, разрезали теплоизоляцию и засняли у виновника все, что смогли заснять. Исаев проставился коньяком.
В июне по полной программе окучили Венеру – долетевшие до нее в октябре станции отработали программу обе и полностью, передав изображения с поверхности. Тачдаун!
В июле состоялось «самое дорогое в истории рукопожатие» – полет «Союз-Аполлон». Американцы, помимо корабля, вывели «Сатурном-1Б» переходник с андрогинным стыковочным узлом советского образца, но изготовленным в США. Переходник служил также шлюзовой камерой – состав атмосферы в обоих кораблях был разным. Самым символическим моментом была частичная ротация экипажей – Слейтон сел в Казахстане в СА «Союза», Лазарев – в океане рядом с Гаваями в капсуле «Аполлона». Оба прошли через специально созданную таможню – Слейтон – в кунге ЗИЛа, Лазарев – на палубе авианосца. Под телекамерами, ясное дело.
На марсианском направлении сотрудничеством не пахло – «автомат автомату – волк». Американцы запустили два «Викинга», мы – очередную четверку «Марсов». Два стартовали на водородных «Протонах» (один взорвался вместе с РБ), два – на «Атлантах-3». Уцелевший марсоход бодренько ползал по красной равнине на шести брэндовых решетчатых колесах почти две недели, потом застрял. По сравнению с «луноходами» – неважный результат, но, в общем, нормально. Его орбитальный блок кормил Землю фотографиями еще четыре месяца. Два других аппарата отправились к Фобосу, за грунтом. Возвращаемый аппарат одного из них в начале 77-го упал в океан и был подобран вертолетом с БПК «Леонид Брежнев». Второй промазал и до сих пор крутится где-то между орбитами Земли и Марса.
Успех? Успех. Впрочем, как посмотреть. Американцы сколько аппаратов запустили? Два. Сколько долетело? Тоже два. Сколько выполнило свою программу? Опять два. А у нас что? Ну и что, что у нас марсоход. Застрял – и чем он не «Викинг»? А сколько тот викинг проработал, ась? А орбитальный модуль? У нас скончамшись, а у них до сих пор не угомонится. А кстати, сколько у них в среднем спутники на орбите живут? Пя-ать ле-ет?! Ну-ка, ну-ка… А наши сколь? Да вы что, товарищи, страну разорить хотите?!
В общем, электронную отрасль опять залихорадило, Благо в системе КОКОМ зияла дыра размером приблизительно с Францию. Ну и много-много маленьких дырочек там, где прогуливались двадцать вторые и пятьдесят третьи секретари советских посольств в капстранах.
А в ноябре опять оторвались на Луне. Сначала на окололунную орбиту «паровозом» вытащили станцию – копию модуля, пристегнутого к «Салюту-3», только еще с двигательной установкой. Потом водородным «Атлантом-3» отправили грузовик с топливом и мелочами, не влезшими в основной пуск (пришлось потратиться на дополнительную радиационную защиту – активное солнце!) Третьим пуском, тоже на «23В», к «Салюту-4» отправили сразу четверых, в том числе одного француза-геолога – дырка в КОКОМ того стоила. Перекидали грузы, перекачали топливо, освободили узел. Приняли четвертый по счету «Север». И пошли вниз, на очередной маяк. Воткнули французский флаг в центре кратера, срочно окрещенного в честь покойного Помпиду. Сидели весь лунный день. Лунная тележка от Ситроена, доставленная «в багаже» «Севера», гоняла не хуже американских, только еще и подпитывалась от солнечных батарей.
Подряд на доставку маяков луноходиками тоже достался французам. Благо «Нормандия» (тщательно доработанный французским напильником «Союз» с водородным, французским же, разгонником) позволяла класть на поверхность Луны трехсоткилограммовые аппаратики за вполне приемлемую цену. Поневоле пришлось научиться считать деньги – французы хотя и тоже любили престиж, тратиться сверх меры не привыкли.
Грузовики к "Салюту-4" приходилось отправлять регулярно, в основном – ради топлива. Хотя на Луне атмосфера и отсутствует – неоднородности гравитационного поля снижали высоту орбиты не хуже. Глушко предложил отправлять совсем уж голые танкеры – ПАО "Союза" со стыковочным узлом. Для вывода хватало "Н-21" с водородом на 2 ступени и разгоннике. Долетала тонна с небольшим топлива, которой хватало на полгода.
Бабакин предложил "спасательный мотоцикл" – увеличенная "КТ" должна была лететь на "паровозе" в качестве довеска к спасательному "Союзу" и спускать на поверхность открытую платформу, способную в случае чего поднять троих человек на орбиту, где их подбирал тот же "Союз". Идея была не новой, такой "довесок" предлагался с самого начала – но теперь актуальность такого аппарата возросла.
Поляки на Сталевой Воле будовали скрепер для строительства лунной базы. На татровском шасси. Немцы (восточные, само собой) строили установку для извлечения из реголита кислорода, титана и прочих вкусностей. Финны занимались связью. Румыны и болгары маялись всякой фигней.
Стало ясно, что комми и лягушатники устраиваются на Луне надолго. НАСА срочно пересмотрело проект Шаттла. Теперь предусматривалась возможность крепления вместо орбитера пары SSME и полезной нагрузки в 60-70 тонн – в частности, разгонного блока с лунным орбитальным кораблем или посадочным модулем. Из архивов достали чертежи LM и CSM. Русская схема с раздельным стартом свою эффективность доказала, теперь следовало адаптировать под нее проверенные аппараты. Однако требовалось время и деньги. И с тем, и с другим дело обстояло не очень.
Ну, а самый финиш наступил в 77-м, когда стартовал «Атлант-7». 125 тонн на земной орбите, угу. 55 тонн «чистыми» ушло к Луне, ага. Село 20 тонн, из них 15 – «бочка» первой базы человечества на Луне – эге!
Впрочем, «… было бы огромной ошибкой думать…» ((с) В.И.Ленин), что вся советская космонавтика дружно устремилась на Луну. В 74-м на четыре «лунных» старта «паровоза» пришлись 4 геостационарных, в 75-м – та же картина. Итого над территорией СССР (точнее над экватором на тех же долготах) зависли 5 примерно 10-тонных спутников, два – над Западной Европой, 1 – над США. Плюс несколько аппаратов поменьше. Часть из них была стопудовыми ретрансляторами двойного назначения, часть – развесила громадные «ухи» параболических антенн и внимательно слушала, что творится в мире.
Внезапно выяснилась интереснейшая вещь – советские люди обожали болтать по межгороду и смотреть футбол-хоккей. Поскольку показывать товарища Бре… Устинова сначала по четырем, а затем – аж по шести каналам было бы слишком, один канал отдали под спорт, один сделали образовательным. Туда перебрался Капица-младший, и "дорогая передача" собирала поклонников уже не только по субботам. Творческое объединение "Экран" не справлялось с забиванием сетки. Пришлось привлекать к работе всех мало-мальски способных режиссеров, несмотря на проглядывавший иногда краешком не вполне соцреалистический подход. Внезапно обнаружили незаурядный талант сценаристов Стругацкие. "Страна Багровых Туч" прошла на ура, хотя космонавты-консультанты и посмеивались над бардаком, творившимся в экспедиции Быкова.
Спрос на телевизоры и потребности в телефонных аппаратах и АТС вырос многократно, электронная же промышленность, несмотря на ввод новых мощностей, естественно, не справлялась. Решили пойти по проторенному ВАЗ-ом пути – заказать у французов (и еще у кого-нибудь) пару-тройку заводов полного цикла.
Однако ж возникла существенная проблема. "Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное". А продать буржуям что-нибудь более технологически сложное, чем нефть, было затруднительно.
С нефтью тоже не все было ладно. Несмотря на высокие цены вследствие эмбарго 73 года, экспорт СССР лимитировался пропускной мощностью даже не трубопроводов (их было мало), а железных дорог. Кроме того, проект по разработке нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири находился на полпути. Трубопроводы можно было построить – но это время, время…
В торгпредства за рубежом поступила команда – максимально увеличить экспорт всего, что только можно продать за твердую валюту. Немного брали трактора, совсем чуть-чуть – машины. Из станков в основном продавались тяжелые прессы и прокатные станы. Брали скорее массой металла.
Оружия продавалось также поменьше, чем могли бы. Богатые покупатели, как правило, были завязаны на западных производителей, а у бедных, что неудивительно, не было денег. Это при Ильиче Втором любому мумбе-юмбе достаточно было переименоваться из Императоров Верхней Мамбы и Нижней Макомбы в генсека, заявить о приверженности социалистическому пути, поцеловаться в губы – и можно было получать тонны стреляющего железа в кредит. Регулярно списываемый. Устинов был из промышленности, причем – военной и знал железякам реальную цену. Однако ж постоянные покупатели были – Ирак, Вьетнам, Ангола – те, у кого были за душой алмазы, нефть или, к примеру, бокситы (их остро не хватало). Или удобное местоположение, как у Кубы.
И тут кто-то допер, что лучше всего делать деньги даже не из воздуха, а из вакуума. Во-первых, неплохо пошла оперативная метеоинформация с «Метеоров-МТ». Во-вторых, фотоснимки земной поверхности с 10-метровым разрешением – за исключением, разумеется, территорий СССР и стран-союзников. А в-третьих – стволы ретрансляторов на геостационаре, как оказалось, тоже можно было сдавать в аренду!
Военные были в шоке – а ну как супостат узнает размер и, главное, направление резьбы на нашем хитром болту? Однако же Устинов, жесткий прагматик, продавил идею. Во-первых, секретом "для кого надо" возможности аппаратуры не являлись, во вторых – у потенциального противника аппаратура, как минимум, не хуже, а в-третьих – деньги нужны были позарез.
В общем, на тройку заводов бытовой электроники наскребалось (готовый ширпотреб решили не покупать принципиально). Причем, это в дополнение по «электронно-космической» сделке с Францией. Однако же у определенной части мирового сообщества – а точнее, у США, возникли серьезные возражения. Выходка французов и так серьезно разозлила их, а тут грозил еще один буст советской электронной промышленности. В разозленном напором русских Конгрессе требовали принятия против предателей западного мира самых серьезных санкций. Патриотически настроенные владельцы фаст-фудов в массовом порядке переименовывали «французскую картошку» – «French fries» – в «Картофель Свободы». Кто-то из французских политиков едко потребовал в качестве адекватной компенсации переименовать статую Свободы в Нью-Йорке во «Французскую статую». Французам фактически был выставлен ультиматум – отказаться от сотрудничества с СССР в высокотехнологичных отраслях, иначе – жесткие санкции. Сказать, что французский истеблишмент был обеспокоен – ничего не сказать.
Однако же случилось непредвиденное. Генеральный Секретарь Французской компартии товарищ Жорж Марше (правда, ходили слухи, что настоящая его фамилия была несколько менее благозвучной с точки зрения русского языка) вывел на улицы Парижа, Марселя, Лиона и еще сотни крупных и мелких городов почти двадцать миллионов человек единовременно. Красных флагов была едва треть. Остальное – национальные сине-бело-красные и портреты троих французских космонавтов. Оскорбленная гордость французов – страшная сила – на демонстрации вышли и те, кто, в общем-то, коммунистам не сочувствовал. Президент Жискар д`Эстен, весь кабинет, да и весь французский бизнес крайне обеспокоился – до революции, казалось, было рукой подать. Рассчитывать на армию было опасно – портреты космонавтов висели во всех казармах, а французский геолог, установивший флаг в кратере Помпиду, стал иконой парашютистов – так как сам когда-то служил в этих войсках. Так что многие военные и сами присоединились бы к демонстрации против такого плевка в душу, не будь они на казарменном положении.