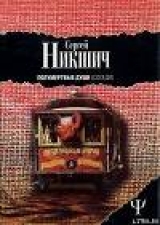
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Кто тебя мог предупредить? Кто?!! – зарычал на него Голова. – Никто не знал!
– Обокрали, обошли, – продолжал нудить Павлик, гоняя по площади.
Надо честно сказать, что Голова совсем взмок, бредень захватывал намного меньше купюр, чем ему хотелось бы, и он опасался, что Тоскливец и Павлик разбогатеют, а он будет по-прежнему жить на Галочкиных хлебах и почти забесплатно протирать штаны в присутственном месте. Но тут солнце выглянуло из-за туч и чуть не скатилось с горизонта от хохота. И в его лучах купюры-фантомы растаяли, как туман, и Голова, который как раз ловил последнюю из них бреднем, предстал перед районным начальством, которое неожиданно въехало на площадь в покрытой толстым слоем пыли «Ниве». Начальство изумленно взирало на Голову, который, как казалось, ловил бреднем воздух. Тоскливец и Павлик замерли в немой сцене. Тоскливец боялся даже подумать о том, что в карманах у него ничего не окажется, а так оно на самом деле и было, а Павлик сразу смекнул, что его надули, и приготовился выпустить из себя очередную порцию стенаний и жалоб на несправедливое к нему отношение.
Акафей вылез из машины, подошел к взмыленному, как беговая лошадь после гонки, Голове, деловито заглянул в бредень и ничего там не обнаружил. После этого он, как ветеринар кролика, осмотрел Голову, проверяя того на дееспособность. Но Голова был трезв, и не было никаких признаков того, что он уже успел отметиться в корчме.
К счастью для Головы, сельчане отсутствовали, потому что были заняты облапошиванием горожан на рынках, и потому можно было не опасаться, что по селу, как лесной пожар, распространятся дикие слухи о дожде из несуществующих денег. Черт принес на площадь только Явдоху, которая, как известно, овощами не торговала и последнее время жила, как и положено супруге, на деньги Богомаза. Увидев эту малопонятную для непросвещенного зрителя сцену, Явдоха сказала:
– Мертвые деньги на деревню посыпались. Не к добру! Районное начальство посчитало участие в этом бреде ниже своего достоинства, и «Нива», выпустив струю удушливого черного газа, рванула на поиски лучшей доли. А Голова, за неимением лучшего занятия, принялся ругаться с Явдохой.
– Чертова баба! – без обиняков приветствовал он ее, хотя она, свежая, как сладкий весенний ветер, была скорее похожа на переодетую принцессу, чем на чертовую бабу. – Вот заладила – мертвые деньги. Разве бывают мертвые деньги, чтоб язык у тебя отсох! Испугать меня хочешь, и это ты говоришь тому, кто никогда тебе ни в чем не отказывал, любую справку выдавал вне очереди и безвозмездно…
Явдохе прекрасно было известно, однако, что Голова был всегда с ней любезен, потому что никак не мог ею налюбоваться и старался, чтобы она заходила в сельсовет почаще. Дон Жуан, даже если живет в селе и одет не в камзол и кружева, а в помятый, хотя и дорогой костюм, все равно остается в душе Дон Жуаном. Но какой женщине, даже если она добрая фея, не нравится, когда на нее смотрят, как на изысканную драгоценность? И Явдоха не сердилась на суматошного Василия Петровича, потому что принимала его таким, каким он был. И она, не желая его обидеть, постаралась оправдаться.
– Мертвые деньги, – объяснила она, – это деньги, на которые больше ничего нельзя купить. Все, что на них можно купить, – уже было куплено. И они как бы исчезают. И то, что ты видел, – мираж, прощание бумаги с этим миром. Она ведь тоже навидалась на своем веку. При ней рыдали, ее прижимали к груди, за нее покупали лекарства, чтобы кого-то спасти, или оружие, чтобы, наоборот, отправить в лучший из миров. Из-за нее интриговали. Ее боготворили. Она пропитана людскими флюидами. Она почти живая. И она не может исчезнуть просто так. Банковские подвалы, где уничтожают деньги, для нее, как крематорий, и она, вольнолюбивая, норовит исчезнуть сама по себе.
– Никогда о таком не слышал, – проворчал Голова. – Новости! Ты, Явдоха, хотя и красивая, но, наверное, врешь. Я вообще сомневаюсь иногда в том, что женщина способна говорить правду. Где-то я слышал, что слово сказанное уже есть ложь… А слово, сказанное женщиной?
Голова махнул рукой, словно отчаялся услышать на этом свете хоть слово правды от прекрасного пола.
– Ну, как хотите, – ответствовала Явдоха, которой препираться с Головой было лень, и пошла своей дорогой по известному делу – отнести супругу бутерброд размером с районную многотиражку, чтобы тот не отвлекался от работы – заказов на иконы было великое множество.
Тоскливец и Павлик, однако, поняли, что над ними судьба в очередной раз произдевалась, но на самом деле им все было как с гуся вода. И они услужливо отнесли бредень в сельсоветскую кладовку и положили его на осколки от товарища Ленина.
Маринка, которая в этом фестивале не участвовала, не потому, что ей не нужны были деньги, а потому, что опоздала, бросила на них, взмыленных и покрытых грязью, презрительный взгляд.
А в лесу черт с чертовкой катались по поляне в конвульсиях от того, что при других обстоятельствах можно было бы назвать смехом. Они не любили Голову, потому что тот установил на улице Ильича Всех Святых фонари, которые мешали им развлекаться по ночам.
– Хорошо он начальству показался! Хорошо! – визжала чертовка. – Теперь они его снимут! На черта им Голова, который бреднем ловит мух перед сельсоветом!
– Долой Голову! – поддерживал ее черт, который уже давно обессилел от хохота. – Головой назначим Тоскливца и тогда заживем…
Но нечистая сила ошибалась. Никто Голову снимать не собирался, потому что он был в районе хорошо известен, предсказуем и начальство уважал. И пока черт с чертовкой тешили себя несбыточными надеждами, он спокойно полулежал на диване, попивал ароматный чаек и думал, как бы это поощрительно за что-нибудь ущипнуть Маринку, чтобы ей не было так скучно.
– Маринка, – звал он ее. – Иди сюда, я тебе что-то скажу.
Но это был глас вопиющего и выпивающего в пустыне, потому что та знала своего шефа как облупленного и не собиралась приближаться к нему ближе, чем на пушечный выстрел. И день этот, как близнец похожий на другие летние дни, так бы и канул в Лету, если бы в душе у Головы вдруг не вскипел до поры до времени затаившийся гнев.
– Даю тебе три дня, – сказал он Тоскливцу, – на то, чтобы памятник восстановить. А не восстановишь – тебя с работы уволю и дом твой снесу, так что Горенка тебе потом будет только сниться.
Тоскливец по своему обыкновению промолчал и еще больше пригнулся к столу. Человеку, хорошо разбирающемуся в Тоскливце, абрис его спины подсказал бы, что тот обижен до крайности и считает, что его обидели ни за что ни про что. Но Тоскливец был не из тех, кто пускается в дискуссии, если нет уверенности в победе. И он сначала отметил три дня на календаре толстым мягким карандашом. Получилась внушительная «птица». Однако свои личные деньги на увековечивание начальника он тратить не собирался. На мужиков рассчитывать не приходилось, потому что все лимиты уже давно были выбраны и терпение у них, как хорошо было известно писарю, не было бесконечным. Поднимать фундамент со дня озера совершенно бессмысленно. Может быть, установить памятник любимому начальнику в глубинах озера? Чтобы на него любовались водолазы? Это даже экзотично… Об этом написали бы газеты… И на фундаменте можно было сэкономить. А на то, что там осталось от фундамента, установить склеенный бюст бывшего вождя, но с чертами Головы? Кто будет выискивать сходство на глубине двадцати метров? И тогда не придется тратить деньги.
– Василий Петрович! – обратился он к начальственному лицу. – Предложение у меня есть. Прославитесь вы на весь мир.
И Тоскливец закатил глаза кверху, словно впал в трансо-вое состояние от собственных мыслей.
– Выкладывай, – порекомендовал ему Голова, который был не прочь прославиться на весь мир, к тому же без особых затрат.
– Памятник вам на дне озера установим. Фундамент там уже стоит. А лицо мы из бюста, того, что в кладовке лежит, сделаем. Склеим его, да и скульптор поможет. И туристы будут приезжать из-за океана, чтобы им полюбоваться, вот увидите.
Голова поморщился, словно ему неожиданно сделали укол. До вечности оставалось так мало, а проклятый Тоскливей, придумал памятник себе и двум своим сотоварищам, смотреть на морды которых, пусть и бронзовые, не было никаких человеческих сил.
– Нет, все-таки я тебя уволю, – сказал он. – Я ведь хотел, чтобы все было по-человечески, чтобы детишки к нему приходили с цветами. Должны же у них быть хоть какие-то идеалы! Они бы возлагали цветы и мечтали о том, что когда вырастут, то станут такими, как я. А ты себя там изобразил, вместе с Павлушей и Хорьком. Ну кто, кто, скажи, стал бы возлагать цветы вам? И за что? Цветы людям, на лицах которых нельзя прочесть ничего, кроме вчерашнего меню!
В ответ на эти, как ему показалось, несправедливые упреки, Тоскливец хотел было сказать, что и возложение цветов к памятнику Головы тоже представляется ему занятием довольно сомнительным, но в последний момент удержался, потому что не захотел в который раз выслушивать похвальбу Василия Петровича о том, как он освободил Горенку от нечистой силы. Хотя ведь всем известно, что дудка-то принадлежала Гапке. Так что по уму памятник надо было ставить ей, а не Голове. Да и фигура у нее, надо отдать должное… А через несколько столетий памятник оброс бы легендами, о характере Гапки люди забыли бы, как им свойственно забывать все, что является правдой, и в Горенке появилась бы собственная Жанна д'Арк, победительница крыс из пгт УЗГ. Хотя существует ли на самом деле пгт УЗГ? Или на самом деле они появляются из Упыревки, которая то возникает в лесу, то исчезает и о которой жители здешних мест говорят вполголоса, крестясь и оглядываясь по сторонам? Но и существование Упыревки ведь тоже еще вопрос…
Дело в том, что в те места Тоскливец никогда не заезжал и как человек критического ума ставил под сомнение существование того, что он лично никогда не видел. Он не был уверен в том, что существуют пирамиды, сфинкс, девственницы, тайны мадридского двора и многое-многое другое, что находится за пределами полюбившегося ему села и пупа земли – присутственного места. Но как человек благоразумный он не поделился с начальником своими мыслями и оказался прав.
А Голова тем временем замолчал. Памятник-памятником, но ему вдруг пришли на ум слова вещей крысы: «…одно только дерево. Помни: одно только дерево». А если какой-нибудь хулиган до него все-таки доберется, срубит и разведет из него костер? Ведь забор из колючей проволоки, которым обнесли лес, уже основательно подпорчен бабами, которые по своей жадности собирают в лесу чернику и грибы. Голова загрустил. Доберется браконьер до дерева, и тогда ему поставят уже совсем другой памятник. И не возле сельсовета. И никто не будет возлагать к нему цветы. Разве что Галочка, да и она из неизвестных соображений. Общение с Тоскливцем, как всегда, нагнало на него тоску. Голова оглянулся – по присутственному месту разлилась торричеллиева пустота, сослуживцы словно испарились, с улицы никто не сигналил, чтобы возвестить о том, что карета подана и можно возвращаться в цивилизацию из той дикости, которой ему поручено руководить, – до конца рабочего дня было еще далеко. Он решил постоять на крыльце и поэтому запер кабинет, тревожно оглядываясь по сторонам, потому что после истории с вампиром стал еще более пуглив и недоверчив, но когда он уже подходил к двери, истеричная кукушка вместо того, чтобы нежно прокуковать, грубо сказала ему: «Загляни в свое сердце!». Сказав это, подлая, внесемейная птица спряталась в замызганном домике, а Голова возьми и посмотри на свою грудь, спрятанную под бывалым синим плащом. К его удивлению, он обнаружил, что кожа на груди, видать, от злоупотребления мочалкой, прохудилась, и он увидел свое сердце. Оно почти не билось, а точнее, просто дрожало, потому что в прозрачном его мешочке дрались не на жизнь, а на смерть мохнатые пауки, каждый размером с куриное яйцо. «Гадость-то какая, – подумалось Голове. – Надо бы их антибиотиками прищучить, вишь поселились». Но пауки не обращали внимания на его мысли про антибиотики и продолжали сражаться друг с другом. «Так вот почему мне так тоскливо бывает! – подумал Голова. – Да и какая может быть радость, если в сердце живет такая фауна? А как же моя кровь? Ведь должна быть кровь?» Но тут кожа на груди перестала быть прозрачной, и он вдруг явственно почувствовал, как забилось его сердце. «Надо думать, что пауки мне привиделись», – подумал Голова. Но облако печали окутало его, и он вышел на крыльцо. Ему хотелось побыть одному. «Какая гадость! – думал Голова. – Какая гадость!» Ноги сами собой понесли его в сторону леса. Как в детстве, когда он убегал в лес, чтобы никто не видел его слез. Он пробрался через аккуратную дыру, которую непокорные сельчане прорезали в колючей проволоке, и зашел в лес. А лес молчал. Было сумеречно и необычайно тихо. И Голова решил прогуляться, чтобы немного просвежиться и забыть про тот ужас, который поселился у него в груди. Или ему все-таки привиделось? Он старался идти, не наступая на сухие ветки, чтобы не нарушать тишину. Грусть застилала его глаза черной пеленой, и он старался не оглядываться по сторонам, а внимательно смотреть себе под ноги, благо проклятый живот исчез и он мог, не нагибаясь, видеть свои ноги, которые словно сами собой привели его к большой поляне. К его удивлению, поляна была застроена покосившимися, покрытыми мхом серыми хатами, которые отнюдь не радовали глаз, как ладные дома жителей Горенки, стены которых, с легкой руки Богомаза, были расписаны лебедями и цветами, купающимися в ласковых лучах благодатного светила. А тут… Ни из одной трубы в небо не поднимался дымок. И тишина. Голова оторвал взгляд от мрачных хат и посмотрел на дальний угол поляны. Там что-то копошилось. Голова прищурил глаза, и перед его удивленным взором предстали огромные крысы вперемежку с зеленовато-серыми обличностями. У их ног скакали здоровенные жабы. И до Головы дошло. «Упыревка, – подумал он. – Так это Упыревка. Крысы и упыри собираются в поход. Неужели на Горенку? А куда же еще? Надо бежать, ударить в набат, предупредить всех пока не поздно!» И Голова побежал, а так как бегать ему было несвойственно, то он вскоре вспотел и запыхался, сердце его колотилось так, словно собиралось выпрыгнуть из груди, но Голова не сдавался. «Только я один знаю, что над Горенкой нависла смертельная опасность, – думал он. – Может быть, для этого я и появился на свет – для того, чтобы спасти родное село… И мне поставят памятник как марафонцу. Бегущий Голова. И детишки будут возлагать к нему цветы…» И он, сожалея о том, что Галочка не видит, какой он храбрый, добежал до Горенки, а точнее, до церкви, прожогом взлетел по винтовой лестнице на самый верх колокольни и судорожно вцепился в веревку, привязанную к языку колокола. И стал бить в колокол. Опустевшее по причине буднего дня село – понятное дело, потенциальные защитники Горенки почти в полном составе пребывали на столичных рынках и даже представить себе не могли, что они должны сражаться с крысами и упырями, – никак не отреагировало на звон колокола. Только батюшка Тарас, недавно проснувшийся под монотонный голос супружницы, читавшей ему вслух какую-то малопонятную книгу, принялся натягивать на себя одежду, чтобы броситься к колокольне и утихомирить распоясавшегося хулигана. Ему и в голову не могло прийти, что это на самом деле не колокол, а набат. А Голова тем временем, осознав тщетность своих усилий – общественность Горенки не спешила броситься в бой, – возвратился в сельсовет.
– Беда! – закричал Голова, увидев Тоскливца. – На нас напали!
– Налоговая? – мрачно осведомился Тоскливец, который всегда ожидал от жизни только самого худшего.
– Упыри и крысы, – ответил Голова. – Они сейчас на поляне в лесу строятся, а потом двинутся сюда…
– Почему сюда? – уже не мрачно, а сонно поинтересовался Тоскливец. – Неужели мы единственное село, на которое они могут напасть?
Голова задумался.
– Может быть, и не единственное, – сказал он. – Но ведь крыс тянет сюда как магнитом. И думаю, что тот упырь, который, за мной гонялся, оттуда же. Если только это был не ты. Ты ведь тоже упырь, а? Скажи мне правду наконец! Ведь ты понимаешь, я должен знать, кто у меня сотрудники. Говори, говори!
Но он не на того напал. Тоскливец отнюдь не собирался делиться с ним своей тайной, если она у него и была.
– Чушь несете, Василий Петрович! – ответствовал тот. – Ну какой же я упырь? Я ведь колбаской питаюсь, а не кровью. Если кто у нас в селе кровь и сосет, так это Гапка, ваша бывшая супружница, стало быть, и Клара иногда… Но ведь нельзя обвинить супружниц в вампиризме за то, что они на протяжении всей жизни нас воспитывают…
Тоскливец поморщился.
– Моя, правда, загадочно помолодела, – продолжал он вслух свои рассуждения. – Но, думаю, это не от общения с упырями, а, скорее всего, от женской логики и свежего воздуха.
Вспомнив о молоденькой супружнице, хотя и бывшей, которая обитала, однако, у него, Тоскливец сладострастно вздохнул и тревожно взглянул на кукушку, но та спряталась в домике и каким-то одной ей известным способом скрутила из него Тоскливцу фигу. Часы показывали какую-то ересь, которую можно было истолковать как девяносто девять часов или девяносто девять минут: какой-то негодяй что-то натворил со стрелками, а наручные часы Тоскливец отродясь не покупал из экономии. Он наверняка знал, что утром надо идти в присутственное место, а вечером – домой. По телевизору скажут, когда ложиться спать, а по радио – когда вставать. Наручные часы в его ритме жизни были ненужной роскошью. К тому же он боялся времени – оно то прыгало галопом, когда он наслаждался молоденькой Тапочкой, то тащилось, как телега, а то и вообще застывало на месте, когда его, что бывало очень редко, парализовывала скука. Часы могли напомнить о том, что жизнь быстротекуща и что в загробной жизни ему вряд ли удастся драть подношения с мужиков, подлизываться к бабам и наслаждаться своей единственной, но такой полезной книгой. Тоскливец, одним словом, жил в своем собственном времени и, если бы мог, – то и в своем собственном измерении. Но последнее было ему пока не дано, и ему приходилось мириться с тем отвратительным фактом, что в этом бренном мире он вынужден якшаться с отвратительными типами, которые иногда дают совершенно безумные приказания, которые он вынужден выполнять. Например, стоять у лесного шлагбаума и охранять Горенку от крыс из пгт УЗГ. Но тут его рассуждения были прерваны нудным, с одышкой, басом Головы, который талдычил тоже о крысах.
– Подвел ты меня со шлагбаумом, подвел! – нудил Голова. – Думаю, они вот-вот на нас нападут. А в селе ни души. Рынок им, понимаешь, важнее. Я уже и в набат бил, но все напрасно. А Дваждырожденный где? Он на работу ходит только деньги получать. А ведь он афганец, вот кто нам помочь может. И Богомаз тот тоже нехилого сложения. Пусть Маринка сходит и их приведет, а сельсовет превратим в штаб обороны. Вот так. А то нечисть выгонит нас из собственных домов и бомжевать нам тогда до скончания наших дней, – Голова так разволновался, что даже забыл о том, что его дом находится далеко от Горенки. А возле шлагбаума надо было Гапку поставить. Ее характер любого черта отвадит раз и навсегда, а крысу так и подавно. Иногда, когда она открывала рот, казалось, что, кроме имени, в ней нет ничего женского. А иногда – совсем наоборот… Женщины, они ведь, как хамелеоны.
Но на Тоскливца его словоизлияния нагнали скуку, и он, не стесняясь, зевнул.
Маринка убежала за Дваждырожденным и Богомазом. Голова замолчал, и в сельсовете стало тихо. На безлюдной площади грелись на солнышке двое бездомных собак. А все мысли Головы были в лесу. Неужели они вправду нападут? Но тут дверь была распахнута настежь, и в сельсовет зашел батюшка Тарас. Он, не здороваясь, стал с порога рассказывать, что какой-то хулиган ворвался в колокольню, чтобы устроить переполох, и что нужно вызвать милицию. Но та и сама в лице заспанного Грицька ввалилась в сельсовет, и Голова в который уже раз был вынужден повторить свою печальную сагу о том, что он увидел в лесу. Рассказ его, понятное дело, не вызвал у Грицька и тени энтузиазма. Только этого ему не хватало – схватиться с упырями, которые могут оказаться еще страшнее того, которого он обнаружил парящим над сельсоветским полом. Кроме того, ему хотелось найти клад в виде банки нежинских огурчиков и с маленькой стопочкой дарующего вдохновение напитка, чтобы утешить чудовищную боль в затылке. И молоденькой картошки с маслом и укропом, чтобы блаженное тепло разлилось по телу. Но вместо этой упоительной перспективы – он рассчитывал каким-то образом разжалобить Наталку, чтобы она подсуетилась и надлежащим образом подготовилась к обеду, до которого оставалось всего часа два, – ему подсовывают крыс и упырей, и он вынужден будет с ними схватиться, а ведь не известно, чем это может закончиться, и все это совсем не напоминает тихий семейный обед. Одним словом, Грицько пожалел о том, что зашел в присутственное место, и эдак бочком стал ретироваться в сторону двери, чтобы выскочить из нее на свежий воздух, и броситься к теплой, как печь, Наталке, и запереться на засов, и сказаться больным, и чтобы Наталка немедленно принялась варить картошку, а он включит телевизор и спокойно проведет утро. Но Голова сразу раскусил его маневр, и его гневный крик парализовал Грицька, и он как бы прилип к полу и уже не осмеливался отступать дальше к двери, за которой благоухало лето и где его ожидала свобода.
– Защитники отечества! – вещал Голова голосом свихнувшегося от перенапряжения диктора радио. – В эту трудную годину мы все как один станем на защиту родной Горенки! Не позволим злобным крысам и истосковавшимся по человеческой крови упырям захватить нашу землю. К оружию! Дадим отпор коварным захватчикам!
Вошедший в раж Голова совсем забыл, что оружие есть только у Грицька, да и то если его не обезоружила Наталка, и у Дваждырожденного.
Батюшка Тарас взирал на все происходящее с неподдельным ужасом. В здешних местах он был еще новичком и не верил в рассказы о ведьме – жене Скрипача, хотя гроб с ее телом так и не удалось внести в церковь. Не доверял он и другим злопыхательским россказням о том, что Явдоха прогуливается иногда в ночном небе на метле, и о том, что в здешнем лесу обитают черт с чертовкой, которая время от времени проникает в село, чтобы в человеческом облике вводить в искушение православных. Поэтому к рассказу Головы он отнесся так, как относится врач психиатр к откровениям своих пациентов. Но для успокоения страстей он предложил (в который уже раз!) окропить присутственное место святой водой и воскурить благовония, которые привезены были с далекого Афона, для того чтобы отвадить нечистую силу. Присутствующие с великой радостью согласились, и святой отец ушел за кадилом. И тут в сельсовет вошла запыхавшаяся Козья Бабушка, которая, к великому огорчению присутствующих, поведала им о том, что на околице Горенки она заметила великое множество зеленых гадов, которые сплошной массой, как гусеницы, движутся в сторону села. И что козы ее, хотя и были голодны, бросились бежать и она не смогла их остановить, и что она предполагает, что нечистая сила намеревается взять Горенку штурмом и что пора вызывать войска.
Мысль про войска показалась Голове интересной. Он тут же снял телефонную трубку и набрал Акафея, а тот, к счастью, оказался на месте и Голова тут же поведал ему свою печаль.
– Слышь, Акафей, – бодро приветствовал он начальство. – Ты это, давай, войска вызывай, а то нас штурмом брать будут, а у нас то пока один только ствол – у Грицька, но этого нам мало…
В трубке послышалось встревоженное дыхание Акафея, который пытался сообразить, что ему будет, если окажется, что в Горенке разразился массовый психоз.
– Ты сегодня уже обедал? – ответствовал Акафей, который, как и все смертные, не любил, чтобы ему прямо с утра задавали загадки. – Какие войска? Может, тебе, я извиняюсь, следует пойти еще поспать? Утром ты ловил что-то бреднем, сейчас тебе войска вызывай. Ты здоров?
Но Голова не сдавался.
– Ты это, как хочешь, я тебя предупредил, так что тебе отвечать, если они нас завоюют… и убьют. И Голова глубоко и грустно, и даже как-то судорожно, вздохнул.
Акафей, который не учуял в голосе у Головы отзвуков доброго обеда, встревожился еще больше.
– Кто на вас нападает, а? Может быть, ты все-таки налоговую имеешь в виду? Так ты не бойся, я приеду и все улажу.
– Какая налоговая? Какая? – закудахтал в трубку Голова. – Упыри на нас движутся. Из Упыревки. И крысы из пгт УЗГ. А я еще и жаб видел. Те вообще могут нас задавить, такое их множество, хотя нас и так, сам знаешь… Так что, говорю тебе – войска вызывай!
Голова хотел сказать что-то еще, но тут у него мучительно заныло сердце. Он заглянул под рубашку – проклятые пауки опять дрались в его сердце. Голова тревожно взглянул на присутствующих, но никто не обратил внимания на то, что он внимательно изучает собственную грудь.
«А может быть, я уже умер? – подумал Голова. – Может быть, какая-то сволочь уже добралась до моего дерева, и скоро пауки прогрызут меня насквозь или, еще хуже, я сам превращусь в паука и буду бегать по Горенке, а все будут от меня шарахаться и натравливать на меня собак? Надо будет, во всех случаях, сходить к кардиологу, дай Бог, он присоветует, как мне жить дальше. К тому же не исключено, что мне все это просто мерещится. Ведь не могут же у меня в сердце и в самом деле жить тарантулы!»
Тем временем неутомимое солнце забиралось на небо все выше и выше, и мерзкая, как показалось Голове, кукушка нагло объявила о том, что пора бы уже и перекусить. Тоскливец отправился домой к Кларе, Грицько – к Наталке, паспортистка важно оторвала самое себя от стула и, выпятив грудь, отправилась в свою квартирку, чтобы хоть немного прийти в себя от общения с психами, которые заполонили присутственное место. Маринка осталась жевать бутерброды в сельсовете, а Голова решил навестить корчму, чтобы подкрепиться перед битвой. Никому из них не хотелось думать о том, что нужно не идти обедать, а скажем, рыть траншеи или обходить деревню с крестным ходом, чтобы нечистая сила не посмела вступить в ее пределы. Но ведь не все умеют смотреть опасности в лицо, и, будем честны, большинство из нас предпочитает делать вид, что опасности на самом деле не существует. Авось пронесет. Тем временем Голова чинно продвигался в направлении корчмы – солнечный красивый день, добротная рубашка-вышиванка и мягкие удобные штиблеты, недавно подаренные Галочкой, повышали его настроение и манили забыть о сиюминутных горестях. «А может быть, это был туман, – думал Голова. – Ну откуда у нас в лесу столько нечисти насобиралось? Привиделось мне, привиделось. Пообедать нужно, рюмочку для дезинфекции пропустить, и все пройдет. Отпустит меня печаль. А если они и в самом деле нападут на Горенку, так я Акафея предупреждал. А если он войска не вызвал, а Грицько опять увлекся собственной супружницей и исполнил супружеский, а не служебный долг, то кто в этом виноват?»
На этом месте мысли Головы были прерваны появлением Гапки. Она уставилась на бывшего супруга, словно никогда прежде его не видела. Юная и прекрасная в нежно-голубом платье времен своей первой молодости, она тащила по улице сумку с продуктами. «Пенсию получила и из сельпо идет», – сообразил Голова.
– Здравствуй, Гапка, – сказал Голова, который не был уверен, что нужно говорить бывшей супружнице, потому что этому никто не учит и учебника по общению с бывшими возлюбленными еще никто не написал. По общению с теми, кому еще недавно мы дарили цветы и посвящали сонеты. Думается, такое пособие многим облегчило бы жизнь. Но, увы… Да и наш герой, видать, сказал что-то не то, потому что в ответ из уст прекрасной девушки раздалось шипение, а затем он услышал:
– Идиот! Волындается весь день без дела и мечтает о памятнике!
– Так и ты ведь хотела, чтобы тебя изобразили, еще и с голубем, – мирно ответил Голова. – Так что ты, Гапка, лучше бы молчала.
– Затыкать он меня будет, племенной бык?!! – гневно вскричала Гапка. – Городскую свою затыкай, если сможешь, а я, слава Богу, свободный человек и могу смело сказать зарвавшемуся на рабочем месте бюрократу, что памятник ему положен только один – кусок гранита, да побольше, чтобы он не вылазил по ночам из могилы на свет Божий и не тревожил, вурдалак, родное село. Но на это надежды мало, потому что по своей жадности и похоти он в гробу не усидит и начнет шататься по ночам, людей пугать. Но найдется на него осиновый кол, найдется, и мы пришпилим его, и он успокоится навеки вечные, и село тогда вздохнет свободно…
– Ты, Гапка, орешь, потому что не знаешь, что за селом собралась настоящая, а не выдуманная тобой нечисть, и они, вероятно, собираются напасть на Горенку и нападут в любой момент. А ты вместо того, чтобы защищать родное село, открыла свою гнилую пасть и так заходишься в крике, словно тебе за это дадут кусок колбасы, – по-дружески сказал Голова своей бывшей супружнице и тут же (в который уже раз!) пожалел о своих словах, потому что живот пищал голосом Буратино о том, что очень хочется отведать наконец горячего борщику и вареников с грибами или чего-то еще в этом роде, но только быстрее, как можно быстрее. Но еда казалась теперь Голове кулинарным миражом, потому что на Гапку снизошло вдохновение и слова ее, как пули, пробивали слоновью кожу начальственного лица и жалили, как рой диких ос. Голова узнал про себя, что с детства был слабоват по мужеской части и что жениться он по этой причине не имел никакого морального или другого права. И что поэтому у нее, Гапки, нет десятка смышленых детишек, которые тешили бы ее старость и не позволяли бы всяким проходимцам оскорблять ее на пустынных улицах.
– Так ведь это ты же, змея, талию берегла, ты детей боялась как огня и не ложилась в постель без счетов и календаря, чтобы, не дай Бог, тебе не пришлось кормить карапуза грудью, которая, кстати говоря, как раз для этого и существует, а вовсе не для того, чтобы запихивать ее в разрез платья не по размеру…
Нет, читатель, ничему не научился Голова за долгие годы супружеской жизни! Нет, право, зря сказал он это Гапке, потому что бывшая супружница, такая, впрочем, красивая и свежая, как роза, покрытая утренней росой, придвинулась к нему, как придвигается к запоздалому прохожему коренастая тень в темной подворотне, чтобы выпотрошить карманы, а при возможности и душу, и ее маленькая, но уверенная в себе ручка схватила его за воротник, да так, что дыхание у говоруна сразу прекратилось и он вытаращил глаза, как рак, которого собираются бросить в кастрюлю, и, спасая жизнь, влепил убивице леща. Юная красавица не ожидала такой подлости от своего бывшего муженька, и горячие слезы брызнули из коричневых омутов ее глаз на расшитую красными узорами сорочку Василия Петровича. Рука ее, однако, не разжималась, и последние крохи жизни начали уже было покидать его бренное тело и он, спасаясь, изловчился и вцепился в Гапкины тщательно завитые локоны с намерением или вырвать их с корнем, или вернуть себе свободу. Гапка сразу сообразила, что карта ее бита, и выпустила основательно контуженную птицу на волю, а та сразу расправила крылья, то бишь руки, и зашкандыбала опять же в сторону корчмы, чтобы уже не только пообедать, но и отпраздновать возвращение в этот мир. Но тут Василий Петрович вдруг припомнил, что Гапка-то обладает единственным надежным оружием против нечисти – дудкой, и он пошел за ней и стал просить ее дать ему дудку, чтобы он как уже проверенный защитник отечества мог вступиться за родные пенаты и дать отпор нечистой силе. Но Гапка ему не верила, во-первых, потому, что полная мытарств жизнь приучила ее не верить мужчинам, даже если они говорят чистую правду, а во-вторых, она не собиралась давать дудку Голове, опасаясь, что тот может себе ее присвоить. И Гапке, и Голове не было известно, что пока они спорят, нечисть уже вступила на околицу села и окружила дом Тоскливца, чтобы или прикончить его, или переманить на свою сторону. А Тоскливец как раз вкусно обедал – Клара постаралась на славу и он уминал гречневую кашу с маслом, от которой валил густой пар, и умильно посматривал на сковородку, на которой возвышалась гора котлет. Ему, конечно, было известно, что после обеда Клара начнет тащить его в ЗАГС, но и ей было известно, что, закончив есть, он рухнет как подкошенный на супружеское ложе и сделает вид, что до конца перерыва спит непробудным сном. По какой-то труднообъяснимой причине обе стороны это устраивало. Но этот привычный ритуал был нарушен, потому что, когда Тоскливец услышал какой-то подозрительный шум (а подозрительным он считал любой шум) и выглянул в окно, то с громким криком от него отшатнулся и бросился запирать дверь, и Клара уже было подумала, что это Грицько по своему обыкновению заглянул на огонек (на самом деле Грицько, который сменил галс и для экономии вместо Наталки отправился к Тоскливцу, уже сидел за столом, чтобы, как водится, отобедать на дармовщину – не потому, что ему нравилась Кларина стряпня или компания Тоскливца, а из принципа), но тут раздался звон выдавливаемых стекол и зеленовато-коричневый поток из крыс, упырей и жаб обрушился в комнату. Клара завизжала так, как, наверное, не кричала никогда в жизни. Что характерно, больше, чем упырей и крыс, она испугалась жаб (женщина всегда остается женщиной, даже если ей угрожает смертельная опасность, и в этом ее главное отличие от мужчины). А Тоскливец, глядя на это чертово воинство, продолжал хлебать борщ, опасаясь, что Грицько его объест и ему не останется добавки. Грицько полез в кобуру, но был вынужден с отвращением выдернуть руку – в ней лежал «тормозок» в виде покрытого плесенью бутерброда, про существование которого он уже давно забыл. А нечисть на мгновение замерла, как бы раздумывая, как ей быть дальше, и Тоскливец, оторвавшись наконец от борща, вскочил как ужаленный (что ему было несвойственно) и за отсутствием иконы сорвал со стены портрет бровастого и щекастого бывшего вождя, который он не выбросил, потому что из бережливости не выбрасывал ничего, и показал его ворвавшимся тварям, а те отшатнулись от него, опасаясь, что им показывают нечто святое, и даже стали ретироваться понемногу в окно, но Тоскливец сглупил, потому что ни одной молитвы он не знал, и стал бормотать какую-то ересь, но незваных гостей обмануть ему не удалось и они снова стали выдвигаться на середину комнаты. Грицько бросил в них бутербродом, но это не помогло. Упыри стали придвигаться к Кларе – перспектива напиться молодой крови их воодушевила, а та попыталась бежать, но не смогла, потому что ее ноги словно налились свинцом и их жадные, горящие глаза парализовали ее волю. И пришел бы Грицьку, Тоскливцу и Кларе конец, если бы Наталка, решившая вытащить Грицька от Тоскливца, чтобы тот не дармоедствовал, не направила к жилищу писаря свои хорошенькие стопы. И увидела она непотребное воинство, осмелившееся прямо днем напасть на жилище христианина, и поняла, что благоверный ее погибает не за понюшку табака, и побежала она к Гапке, и выпросила-таки у нее заветную дудочку, и задудела в нее, и нечисть, собравшаяся уже было полакомиться, начала отступать. Точнее, отступать стали крысы и почему-то жабы, а упыри, хотя и не оставили своих поползновений, но тоже присмирели. Вот уж поистине волшебный инструмент нашел Голова под своим бывшим домом!








