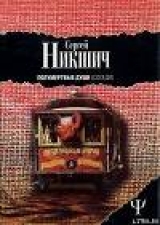
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Врачица
В юности Маня была писаной красавицей. Ее прочили в актрисы, а она поступила в медицинский и стала лечить человеческие души. Многие удивлялись – почему? Но Маня никому не признавалась в том, что пытается вылечить и саму себя. От страха. Людей она боялась так, как некоторые дамочки боятся мышей – визжат, прыгают на стол и дрыгают ногами, как будто бедная, перепуганная мышь норовит забраться в первопричинное место. Разумеется, при виде людей наша перепуганная красавица на стол не прыгала, но внутри у нее все леденело. Она подозревала всех во всем и прежде всего в том, что люди, которые ее окружают, на самом деле грызуны. Либо другие животные или птицы. В одном знакомом ей мерещился осел – ослиная челюсть, да и мысли челюсти под стать… В другом – кролик, в третьем – курица. Человек-курица был всеми уважаем, но Мане его бесконечные разговоры представлялись куриным кудахтаньем и она с ужасом смотрела на него, ожидая, что он вот-вот начнет хлопать крыльями. В некоторых людях она узнавала персонажей мультфильмов, которые вечно норовили что-нибудь сожрать или кого-нибудь обмануть. А вот настоящих людей она никак не могла вокруг себя обнаружить. Но самое неприятное, что в очень многих людях ей мерещились мыши и крысы. У приятельницы, как ей казалось, был совершенно крысиный зад. А другая знакомая – ну, настоящая мышь, только что ест не при помощи лапок, а посредством ложки и вилки. Одним словом, Мане казалось, что грызуны заполонили все и вся и норовят и к ней подобраться, чтобы превратить ее в такое же существо, что и они. И когда она послушала откровения Тоскливца, то сразу же решила броситься в Горенку, чтобы все увидеть своими глазами.
Для поездки Маня решила немного замаскироваться, хотя нужды в этом особой не было – во-первых, в Горенке ее никто не знал, во-вторых, из-за того, что она почти постоянно находилась на работе, одевалась она безвкусно, прическа, если можно назвать прической давно устаревший начес, и уродливые очки в сочетании с совершенно невозможным, купленным по случаю платьем надежно скрывали ее красоту от человечества, которое со все большими основаниями усматривало в ней скорее погрязшую в научных трактатах старую деву, чем миленькую девушку на выданье. И в самом деле всем казалось, что волосы она красит, хотя они у нее от рождения были цвета созревшей пшеницы, а в ее голубые, как озера, глаза никто из представителей сильного пола так по-настоящему и не заглянул. Ибо сначала, пока она училась в школе, мальчишек отпугивала ее завораживающая красота, а когда она поступила в институт, то быстро превратилась в нечто среднее между женщиной и потрепанным медицинским справочником. А для маскировки она надела на себя цветастый платок, на котором горе-дизайнер изобразил россыпи сочных клубничных ягод на ядовитом зеленом фоне.
И в свой первый же выходной она, чуть похрамывая из-за туфель на высоких каблуках, которые носила, почти не снимая, потому что привыкла терпеть эту пытку как часть своей многострадальной жизни, ринулась к тому злополучному трамваю, который соединял Горенку с городом. А дело было в субботу утром, и в открытые окна трамвая залетали бесстыдные соловьиные трели и запахи раскрывшихся на зоре лесных цветов, от которых у нормального, живущего в городе человека начинает кружиться голова и появляется навязчивое желание прийти в себя возле уютного экрана компьютера. На гномов она, потому что в жизни ей, как правило, везло, не нарвалась, да и вообще доехала до конечной остановки без происшествий. Постояла рассеянно возле лотков с книгами, на которых была разложена, в надежде на дачников, всякая дрянь – детективы, от которых сразу же клонит в сон, романы, способные навести тоску даже на самого закоренелого жизнелюба, стишата, появившиеся на свет не в самую добрую годину для потенциального читателя, и всякое прочее чтиво, словно кто-то невидимый, но злой решил в зародыше погубить литературный вкус жителей Горенки. И спасти их, горемычных, от этой участи могло только то, что даже отъявленный злопыхатель не многих из них мог бы обвинить в библиофилии. Тем и спасались.
Так вот, постояв немного возле киоска, Маня по незнакомой для нее дорожке, между вековыми соснами зашагала в сторону села. Она шла и сама себя ругала за то, что понапрасну тратит время, поверив россказням психопата. Идти в туфлях на каблуках ей было трудно, потому что каблуки то и дело натыкались на корни деревьев, которые, подобно змеям, извивались на тропинке, норовя подставить ножку зазевавшемуся путнику. И она сняла туфли и понесла их в руках, и так стало ей вдруг привольно и удобно, что она, босоногая, поклялась, что вышвырнет это орудие пытки на первую же помойку и заживет весело и беспечно, когда купит себе кроссовки и будет, как и все, ходить в них на работу. «Нигде ведь не записано, что врач-психиатр не имеет права ходить на роботу в кроссовках», – думала Маня. Неожиданно она подумала, что как плохо, что Уткин (Тоскливей, был известен ей под своей настоящей фамилией, которая в селе почти никому известна не была) остался в больнице и не может ее сопроводить, чтобы все объяснить и показать. «Придется до всего доходить своим умом», – подумала она.
Но вот и село. Солнце давно уже выглянуло из-за пышных, как хорошо взбитые перины, облаков и с любопытством рассматривало хорошо ему известную Горенку, стараясь понять, не начудили ли этой ночью ее жители или все обошлось. И тут-то оно и заприметило странный зеленый в клубниках платок, который медленно, но решительно надвигался на погрязшее в глубоком, почти коматозном сне село. Дело в том, что ночью соседи возились в своих норах и совершенно не давали спать измученным от такой напасти сельчанам. Хозяйки то и дело проверяли, надежно ли застегнут известный пояс, мужики чертыхались во сне и поругивали тех, кто испортил их безмятежную жизнь, то есть чертову санэпидемстанцию, Голову и прочих бюрократов, которые не в состоянии избавить их от этой нечисти. Соседи затихали только под утро, потому как всю ночь норовили что-то слямзить из погреба или холодильника, а то и подобраться к хозяйке, и потому всю ночь измученным бессонницей горенчанам приходилось во сне проявлять бдительность и осторожность. То есть то, что им меньше всего было свойственно. Чего это ради они должны проявлять бдительность в собственном доме? Слыханное ли это дело? И вслушиваться всю ночь в шорохи у холодильника и в подполе. Некоторые, правда, стали пускать собак в дом, чтобы натравить тех на нечисть, но собаки, как оказалось, на соседей не реагировали и все норовили тоже что-нибудь сожрать, чтобы опередить тех, от кого они должны были охранять дом. Кончилось тем, что псов вернули во двор, а на холодильники стали накидывать цепь. Выглядело это все довольно мрачно, потому что вследствие подлого нашествия доступ к еде и любви существенно затруднился. Прекращалось все это мельтешение только под утро, и тогда сельчане забывались тяжелым, угрюмым сном, от которого вместо отдохновения – тоска, и потому просыпались злые и невыспавшиеся и сразу же принимались хаять Грицька и, понятное дело, Голову за то, что они ничего не предпринимают. Некоторые видели единственное спасение в Гапке – мол, она нашла дудку и только она может спасти село от пришельцев. Были даже такие, кто предлагали поставить возле сельсовета памятник Гапке, а потом всем селом упросить ее взяться за дудку, которая только в ее умелых руках сыграет то, что нужно, и завороженные грызуны как один отправятся в бездонные, неизведанные глубины грозного озера и никогда больше сельчане, измученные наглостью соседей, их не увидят. Но в последнее верилось с трудом, потому что скорее походило на красивую сказку и на дососедские времена, которые воспринимались теперь как легенда. Дваждырожденный, например, в местном Гайд-парке, то бишь на ступеньках сельпо, прилюдно произнес речь, в которой доказывал, что соседи жили в Горенке всегда, просто их раньше не замечали, а теперь тайное стало явным, ведь шило в мешке не утаишь и не нужно стесняться перед дачниками – нужно их честно предупредить, правда, не каждый готов тратиться на пояс целомудрия для супружницы во время отпуска, да и купаться в озере в нем не так-то просто – ко дну тянет и, кроме того, купальник на нем смотрится несколько странно, но ведь нужно смотреть правде в глаза и нельзя обманывать дачников и особенно дачниц, потому что после отпуска, проведенного в Горенке, могут народиться гибриды и тогда конец всему человеческому роду. Справедливости ради следует заметить, что Дваждырожденному никто не поверил. Во-первых, гибридов никто не видел, во-вторых, как общеизвестно, не приемлют пророка в своем селении, в-третьих, и это, пожалуй, было основной причиной неудачи первой и последней публичной проповеди Дваждырожденного – главным для селян было лупить с дачников деньги. А потом хоть потоп. Все равно из-за соседей жизни нет.
Вот в каком состоянии была Горенка, когда врачевательница людских душ, Маня, босиком подбиралась к этому святому для нее Иерусалиму, она надеялась, что все прояснится, ее страх перед грызунами пройдет и она внешне преобразится, снова станет хорошенькой, как кукла, и, может быть, даже уступит настойчивой мамочке и снимется в кино. Лестно тешить себя несбыточными надеждами, господа! Надежды, они, как манная каша с клубничным вареньем, которой вас накормили в детстве на всю оставшуюся жизнь, – сладкие и бело-розовые. Они ласкают вас, согревают, а потом потихоньку смываются, пока им не надавали по шее, и оставляют вас тет-а-тет с тем, что раньше назвали бы соцреализмом. И вы, без всяких уже надежд, сами вытаскиваете себя из дерьма, в которое вас упорно подталкивают так называемые обстоятельства. Маня не без причины полагала, и правильно делала, что обстоятельства – это дьявольские личины в современной упаковке, свиные хари, которые хохочут вам в спину из-за угла, норовя над вами произдеваться и столкнуть вас в пропасть повседневности, в которой, толкаясь у корыта, вы забудете и про свою душу, и про стихи, которые вам настойчиво вдалбливали в школе желавшие вам добра учителя, и про свою первую любовь, которая скорее напоминала корь с высокой температурой, чем то, что у людей ассоциируется с этим словом. Маня боролась с обстоятельствами, как могла. Она разоблачала их в длинных беседах с пациентами, благо обе стороны никуда не спешили – больные не спешили возвратиться в палату, а Маню никто не ждал дома, кроме мамочки, которую интересовало только одно – когда она наконец выйдет замуж. Как будто брак является панацеей от всех бед. У Мани, например, от одной только мысли о том, что ей, быть может, придется выйти замуж, по всему телу распространялись аллергические, розовые, как лишай, пятна. Понятное дело, даже те немногие претенденты на ее руку, которые периодически появлялись, как правило, довольно скоро растворялись в окружающей Маню среде и больше никогда не показывались. Был, правда, один, настырный, рекомендованный мамочкой, который уверял, что влюблен без памяти, но Маня через знакомых в милиции выяснила, что у него судимость за многоженство и аферизм и что, вероятно, его интересует ее просторная квартира в центре Киева, а не тщательно скрываемые прелести.
Но не будем отвлекаться от предмета нашего повествования, потому что Маня уже подошла к Горенке и заковыляла – с непривычки ей трудно было ходить босиком – по ее песчаным, как Сахара, улицам. Дома, как положено, было тщательно заперты, потому что большинство сельчан ни свет, ни заря утащились на рынки, а те, кто остались дома, заперлись на все запоры и старательно спали, наверстывая упущенное. Никаких крыс на улице не было и в помине, и Маня даже пожалела, что погубила выходной и поверила параноику, отягощенному множеством странных, неизвестных науке синдромов. Из одного, довольно внушительного дома, вдруг повалил дым и запахло домашним хлебом. Бесцельно ходить по улицам Мане было ни к чему, и она постучалась в тот дом, надеясь на то, что приветливые крестьяне радостно примут городскую гостью, накормят, усадят в красном углу под иконами и доверчиво расскажут про все то, что творится в селе, и самое главное про крыс-оборотней, которые заполонили село и не дают прохода молодицам и при этом пожирают все, что мало-мальски напоминает съестное. Никто, однако, не бросился радостно открывать дверь, чтобы поскорее впустить гостью, и Маня даже было засомневалась в том, не перевелись ли в этой местности традиции гостеприимства, как вдруг услышала настороженный женский голос.
Мане не было известно, что она напрашивается в гости к красавице Гапке, которая как раз заседала за столом вместе со Светулей и готовилась насладиться кофе неизвестного, может быть, даже внеземного происхождения, потому что этикетка на нем изображала даму в шлеме космонавта, которая так радостно улыбалась, словно только что, по выражению Гапки, снесла яйцо, и свежеиспеченным хлебом с домашним маслом, которое Гапке, втайне от Параськи, преподнес Хорек, который вовсе не был меценатом, а просто все еще на что-то надеялся. И в этот момент назойливый стук в дверь прозвучал как отвратительный диссонанс уютному запаху кофе и хлеба и напомнил, что там, за дверью, обитают двуногие, мало предсказуемые существа – мужчины, которые могут в любое время нарушить мир и тишину и начать что-то клянчить или требовать, одним словом, вносить беспокойство в размеренную жизнь будущих монахинь, которые после дурно проведенной ночи – сосед непрерывно возился под полом и мешал спать – рассупонились, то есть сняли с себя злополучные пояса, которые под утро превращались в орудия пытки, и уселись за стол с твердым намерением тихо и мирно позавтракать. Некоторое время Гапка на стук не реагировала, ожидая, что вот-вот раздастся рык Головы, который опять что-то забыл в доме, который грабил в течение тридцати лет, или разглагольствования Хорька, который пришел помочь по хозяйству, чтобы забесплатно полюбоваться ее красотой и наговорить ей кучу тошнотворных комплиментов, которые он лучше бы изливал на Параську. Но за дверью молчали, и молчание это стало тяготить Гапку, и она со свойственными ей строгостью и благоразумием закричала в сторону двери:
– Кого это там принесло?
К ее удивлению, из-за двери раздался нежный девичий голосок, никак не напоминающий бас Головы или блудливые хорьковские рулады.
– Это я, Маня.
И Гапка была вынуждена открыть, и босоногая врачица с туфлями в руке прошествовала через комнату и уселась за стол. Делать было нечего, и гостье налили в чашку кипятка, пододвинули баночку с улыбающейся дамочкой, чтобы она положила себе кофе, и отрезали краюху домашнего, ароматного хлеба. Когда ритуал гостеприимства был соблюден, Светуля, а со сна она мало напоминала модель, потому что была одета в затасканный свитер, а нерасчесанное богатство белейших волос было запрятано под уродливый, экспроприированный у Гапки платок, осведомилась у загадочной пришелицы:
– И для чего же вы к нам пожаловали?
Разумеется, Мане трудно было ответить что-либо вразумительное. В конце концов, ее могут принять за сумасшедшую и запроторить в ту же лечебницу, в которой она работала. Только уже как пациентку. И поэтому она осторожно так осведомилась:
– Слухи до нас дошли, что в селе вашем развелись какие-то необычные грызуны, которые якобы даже чем-то напоминают людей.
Сказав это, Маня замолчала, потому что боялась сказать что-то лишнее, что могло бы испугать ее собеседниц. Но не на тех она напала. Испугать этих двух после всего, что с ними произошло, было нелегко.
Гапка на всякий случай поинтересовалась:
– И кто вам эту новость рассказал?
Но Маня не могла сослаться на пациента, потому что свято соблюдала клятву Гиппократа.
– Люди болтают, – ответила она. – Вот я и приехала, чтобы проверить.
Гапка несколько минут сосредоточенно пила кофе, соображая, выгодно ей или нет рассказывать про соседей. Ничего так и не решив, она кинула пытливый взгляд на Светулю. Но и та сидела, словно воды набрала в рот. Оно, впрочем, и понятно – чужаков в Горенке не любят, потому как от них, кроме дачников, один вред.
– А может быть, ты у меня комнату на лето снимешь? – как бы невзначай поинтересовалась Гапка. – Поживешь, обвыкнешь, а если повезет, найдешь себе грызуна…
Светуля прикрыла рот носовым платком, чтобы не расхохотаться. Человек ушлый сразу бы заподозрил Гапку в коварстве, но Маня, хотя и лечила души других, отличалась чудовищной наивностью и сразу же ухватилась за предложение Гапки, как утопающий хватается за соломинку.
– Конечно, сниму, если недорого, – сказала она, – отчего же не снять? Место здесь замечательное, спокойное, дышится легко, и после работы я буду здесь отдыхать, а не выслушивать нотации мамочки о том, что мне давно пора замуж.
На этом и порешили. Маня обосновалась в спальне, а Гапка и Светуля решили, что будут спать на тахте в гостиной. И Маня получила запасной ключ и отправилась прогуляться по селу перед тем, как возвратиться в город, чтобы взять деньги и вещи.
А день и вправду был чудесный, и Маня гуляла по Горенке и ругала себя за то, что вместо того, чтобы обнаружить грызунов и избавиться от мучившего ее с детства страха, она сняла ненужную ей дачу, если можно назвать дачей спальню в одном доме с двумя малознакомыми, хотя и симпатичными девушками. Она подошла к сельсовету, но тот был надежно заперт по причине выходного дня, потому как центр общественной жизни и мысли перемещается в такие часы в сельпо, чтобы к вечеру переместиться в заведение Хорька и в корчму. Но в эту субботу на майдане возле присутственного места собралась небольшая, но возбужденная толпа, которая требовала призвать к ответственности Грицька и Голову, которые забросили родное село, а сами волындаются неизвестно где, хотя какие могут быть выходные, если жить в селе нет никакой возможности. И как аргумент приводили недавний слух о том, что Дваждырожденный был вынужден схватиться врукопашную с двумя крепышами-соседями, которые попытались забраться под утро в супружеское ложе, чтобы воспользоваться тем, что он крепко, после чтения философской литературы смоченной бутылкой известного напитка для скорейшего усвоения идей, спит, а Мотря не носит известный пояс, поскольку Назар утверждает, что такой размер он может изготовить только за особую плату, которую Мотре как рачительной хозяйке отдавать жаль. Вот и случился скандал, и Дваждырожденный набил соседям то, что у них было вместо морды, и пообещал немедленно взорвать в подполе взрывпакет, если они немедленно не уберутся, но те уже прониклись духом Горенки – упрямство оно передается, вероятно, капельным путем, как вирус, – и они отказались, и Дваждырожденный стал искать взрывпакет, а Мотря заголосила на всю улицу, что не позволит взрывать родной дом из-за пары обнаглевших грызунов, а тут в разбор полетов вмешались дачники, которые возвращались из корчмы, и тайное стало явным. И к утру стало понятно, что если не избавиться от соседей, то дачники съедут и дополнительный, совсем не лишний заработок будет потерян. Кинулись к Грицьку, но дверь открыла Наталка, утверждавшая, что своего муженька она уже два дня в глаза не видывала и что он, наверное, в командировке. Ей прямо сказали, что это вранье, но она даже глазом не моргнула и отказалась пускать в дом любопытствующих, которые хотели убедиться в том, что след бравого милиционера и в самом деле простыл. Поведение Наталки показалось им вызывающим и даже оскорбительным, и тогда ей было сообщено, что если Грицька и в самом деле нет дома, то они тогда обратятся по телефону в районный участок и поинтересуются, в какой командировке находится ее благоверный, и пусть районное начальство тогда ответит, для чего оно отправляет единственного стража порядка в командировку, когда в селе распоясалась нечистая сила и норовит лишить женщин чести, а мужиков – заработка. И тогда Наталка сразу припомнила, что где-то в доме видела что-то похожее на Грицька и, может быть, она его найдет. И она закрыла за собой дверь, и через некоторое время из нее появился Грицько, одетый в цивильное и с такой же улыбкой под длинными усами, и озабоченно стал расспрашивать о том, что случилось, потому что нужно составить протокол. Но Грицьку объяснили, что ему сейчас расквасят харю, и это и будет протоколом, если он немедленно не примет меры для уничтожения грызунов. На вопрос, какие меры они хотят, чтобы он принял, ничего вразумительного он не услышал, кроме обычных стенаний на ту тему, что жить так дальше невозможно и что нужно вызывать Голову из города и собирать сход, чтобы всем гуртом бороться с нечистью. И то, что увидела Маня возле присутственного места, было как раз продолжением этих дебатов. Ждали Голову, который не задержался и подкатил на лоснящемся, как откормленная свинья, «мерседесе». Злосчастная машина сразу же подлила масла в огонь, потому что некоторые из сельчан при виде чужого счастья испытали нечто вроде удушья и принялись клеветать про то, что пока некоторые ездят на иномарках, народ терпит издевательства от крыс, войска не вводят, санэпидемстанция бессильна, Грицько спит даже тогда, когда не спит, и поэтому ему начхать на все то, что происходит, супружницы теперь все под замком и скоро село на радость крысам вымрет, и, понятное дело, Голове от этого одна радость, потому что ему не нужно будет выдавать справки – выдавать их уже будет некому, разве что самому себе о том, что он козел.
От такой черной неблагодарности Голова побагровел и кожа на его лице стала цвета вишневой наливки, которой так любила угощать его виновница этого переполоха Мотря до того, как ее преступно, по мнению Головы, обольстил Дваждырожденный. И он стал доказывать, что любит всех сельчан, как своих родных детей, и что если Дваждырожденный сэкономил на поясе целомудрия и оттого его половина оказалась в опасности, то кто ему виноват? Они, то есть пояса, сейчас все равно как гигиеническое средство, пояснял Голова. Одел его и спишь спокойно, и за супружницу спокоен, и за самого себя. Но его слова, в которых, как он полагал, сквозила государственная мудрость, приправленная жизненным опытом, не вызвали и тени радости у неблагодарной аудитории. С задних рядов доносились особо оскорбительные для чести Головы инсинуации – его обвиняли в том, что он хапанул у грызунов и поэтому бездействует, как труп, а то, что он красный как рак, так это не от стыда, а от избытка крови, которую пьет у народа вместе с упырями, которые бесчинствуют по ночам, и что он, наверное, тоже упырь. «Упырь и есть, – гудел народ, – нормальный Голова уже что-нибудь бы придумал».
– Вы придумайте! – то ли визжал, то ли хрипел Голова. – И я все сделаю, но только сами скажите – что делать будем? Гапкина дудка помогать перестала, крестный ход вокруг деревни совершали, санэпидемстанция вместо борьбы с крысами облапила Гапку и уехала, войска Акафей не ввел, потому как нет оснований – противник невидим, отсиживается по погребам, да и кто вызывает войска для борьбы с крысами? А то, что они превращаются в людей, еще надо доказать. Фотографий ведь нет. Болтовня. А то, что в постели у Дваждырожденного оказались какие-то парни, так глупо утверждать, что рога людям ставят только крысы (Голова хотел уколоть того за Мотрю). Надавал им по шее, и дело с концом. Все просто. Нет никаких проблем, и можно отдыхать и наслаждаться теплым летним днем.
В ответ ему было сказано, что его сейчас линчуют, если он не прекратит демагогию.
И Голова замолчал.
А Мане казалось, что она попала в театр. Причем не в простой, а театр абсурда. И Уткин, значит, говорил ей правду. Ведь не мог же массовый психоз охватить всех этих людей с обветренными от крестьянского труда лицами и мозолистыми руками? На нее, к счастью, никто не обращал внимания, и она, затерявшись в толпе, лихорадочно анализировала то, что перед ней происходило. Но прийти к какому-нибудь выводу не могла и мечтала о следующей встрече с Уткиным, чтобы он ей все объяснил.
А тем временем на площади появились известные уже Мане Светуля и Гапка, которые предложили за умеренную цену дать коллективу возможность попользоваться заветной дудочкой – авось она опять заработает и выведет проклятую нечисть из села. За дудку Гапка запросила всего сотню гривен в час, и сельчане решили, что дудка – единственное проверенное средство и сказали Гапке, что обязательно заплатят, но только потом, когда крысы окажутся в озере. Но наша красавица пожала хорошенькими остренькими плечиками и сказала, что и дудку они получат потом, когда крысы сожрут все, что у них лежит в погребах, и примутся за скаредных хозяев. Пришлось присутствующим вытащить потрепанные кошельки и скинуться Гапке, как говорили, на ее жадность, хотя любой из них поступил бы точно так же, окажись дудка у него. И Гапка получила заветные бумажки и принесла дудку, и Грицько прокашлялся, и присосался к дудке, и стал в нее гудеть, и вдруг улица ожила, потому что гигантские крысы стали вылазить из-за каждого забора и печально выстраиваться в колону, проклиная тот час и ту минуту, когда Голова из-за своего донжуанства провалился в подвал и обнаружил там ненавистный им музыкальный инструмент. А Грицько повел их к озеру, но споткнулся и упал, проклиная напиток, который накануне раскрепостил его уставшее воображение. А крысы, мохнатые и страшные, разбежались, к ужасу сельчан, кто куда, и когда Грицько встал, потирая ушибленное колено и отчаянно чертыхаясь, то окружали его уже не соседи, а озлобленные односельчане. Хотели надавать ему по шее, но он быстренько сориентировался и заявил, что он при исполнении. И всем вдруг как-то все надоело, и сообщество отправилось в корчму промочить горло, пока там не закончилась драгоценная влага.
И Маня, потрясенная всем увиденным, потому что ее худшие опасения подтвердились – ее окружали крысы, которые ей отнюдь не мерещились, – уехала в город за деньгами, которые были ей нужны, чтобы рассчитаться с Гапкой. В трамвае ей было очень скучно – пейзаж ее не развлекал. И она думала о том, о чем большинство людей думает всегда – как жить дальше. А так как ответа на этот вопрос нет, то и получается, что умственная энергия в больших количествах расходуется совершенно понапрасну. И рассеивается в окружающей среде. Безвозвратно. Ей захотелось было поехать не домой, а в больницу к Уткину, но она прогнала эту мысль и решила, что во всем разберется сама.
И к вечеру она возвратилась в Горенку, на которую из космоса опускался сладостный летний вечер. Сладостный для тех, кто запасся поясом, терпением, и крепкими нервами да еще пропустил стаканчик для уверенности в себе, лег спать на хорошо взбитую перину и приготовил на всякий случай что-то тяжелое и недорогое, что можно запустить сгоряча в распоясавшегося соседа. Но Маня еще не полностью вошла в курс дела и сразу же решила улечься спать. Спросила, где можно помыться, и хозяйки предложили, что согреют воды и нальют в балию и мочалку дадут, да и спинку потрут, если нужно. Дело такое.
И они действительно позаботились о Мане, как о собственной сестре, удивляясь, какой она оказалась красивой. Вместе с ними сквозь щели в полу удивлялся и сосед, который рассматривал Маню, как гурман рассматривает в ресторане меню. «И пояса у нее нету», – думал сосед, сладострастно пуская слюни и виляя хвостом. Он рассчитывал, что как только разомлевшая в балие Маня уляжется в Гапкину постель и выключат свет, он немедленно заберется к ней и попробует ее разжалобить длинными разговорами о том, как ему одиноко, и что их встреча, как он полагает, была предначертана на небесах, и так заговорить ее, чтобы она крепко уснула, и тогда… Но бдительная Гапка уловила какие-то тревожные флюиды и на всякий случай посоветовала Мане крепко не спать.
– Оно, конечно, – вещала Гапка, – под свежий ветер да после баньки спать хочется, но в селе нашем, ты же видела днем, что происходит. Так что держи ухо востро, и как только сунется к тебе, туфлей его глуши или еще чем-нибудь. Они ведь наглые, соседи. И все время мельтешат. Я даже подозреваю, что поселка городского типа Удавлюсь-За-Грош на самом деле не существует. Его придумали выжившие из ума бабки, чтобы пугать внуков. А эти поналезли просто из канализации, в которой мутировали из-за химикатов, которыми их травят, или из-за Чернобыля. Нормальный мужчина не превращается то и дело в крысу, когда его лупят туфлей по голове. Да и заметь, что своих баб они к нам не приводят. А это что означает? Ведь размножаются они каким-то образом. Почкованием, может быть. Но ничего, утром я сама возьмусь за дудку и попробую их всех, гамузом, утопить.
Сосед при этих словах встревоженно вздрогнул и решил, что ночью обязательно сгрызет ненавистную дудку, потому что злобная Гапка, хотя она и красавица, может заманить его с сотоварищами в холодную воду, которую он ненавидел больше всего на свете, и тогда столь милый ему запах погребов, в которых запасливые хозяева сберегают колбаску и буженинку, ему только приснится. На том свете. Но тут Гапка и Светуля наконец улеглись на тахту, утешая себя тем, что Манины деньги помогут им продержаться на плаву и пристойно питаться в течение всего лета, а уж осенью будь что будет. И сосед отправился на поиски дудки. При этом он, стараясь не шуметь, разбил несколько тарелок и вынужден был наслушаться Гапкиных инсинуаций, которая сразу же обвинила его в том, что у него руки растут не из того места, что надо, а из задницы, вонючей, как и он сам, и поэтому он не в состоянии мирно спать в подполе и мечтать, как порядочные крысы, о кусочке сыра. А он, непутевый, шляется, как неприкаянный, и бьет тарелки, которые она покупала на свою пенсию (Маня, которая выслушивала этот монолог из соседней комнаты, удивилась – пенсия у такой молоденькой девушки?), лучше бы он их сожрал и сдох, и тогда в доме можно было бы спокойно спать, а не слушать, как тупая, общем-то, крыса, таскается туда-сюда. Гапка не знала, что сосед ей попался поэтически настроенный и легко ранимый и что от ее слов он внутренне сжался и чуть было не решил покинуть навсегда этот негостеприимный дом, где его оскорбляют и где на холодильнике висит издевательский замок. Но в последний момент он передумал и решил остаться у Гапки навсегда, чтобы ее перевоспитывать. Он даже посмел сказать что-то в темноте в свою защиту, но Гапка и слушать ничего не захотела и сообщила ему, что его она видела в гробу, потому что из-за его хамства она вынуждена, как рыцарь, спать в железных трусах, от которых у нее может начаться радикулит. И где это видано, чтобы под полом обитала такая мерзость, и что она призовет привидение кота Васьки, чтобы он с ним боролся, и отважный Васька ее защитит. Ей не было известно, однако, что у Васьки, пока он обретался в подлунном мире в качестве привидения, вкусы стали совершенно аристократическими и крысы, и мыши вызывали у него теперь только омерзение. И он, Васька, примостившись потихоньку у нее в ногах, только улыбался себе в усы, удивляясь ее наивности. Крыса-сосед ему лично опасен не был, а если у других есть проблемы, так пусть они решают их сами.








