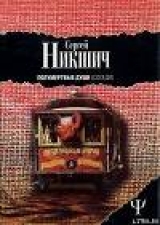
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Сергей Никшич
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Но тут один упырь, не исключено тот самый, который донимал Василия Петровича, подступил к Тоскливцу и, пока тот соображал, как ему быть, куснул его за запястье. Тоскливец, который не ожидал такой подлости от своего, как подумал Грицько, духовного собрата, взвыл и ударил того первым, что попалось ему под руку, – своей единственной книгой, из которой вырвалось облако пыли. К удивлению обеих сторон, упырь замертво свалился к ногам Тоскливца. «Не любит читать», – догадался Грицько. Тем временем помещение пустело – Наталка присосалась к дудке и, испуская чудовищные звуки, вела чертово воинство к ненавистному для него озеру. Упыри уносили на плечах, низринутого Тоскливцем товарища, и их зеленые конечности, торчащие из полусгнивших тряпок, вызывали скорее жалось, как раздавленная лягушка, чем страх.
К большему огорчению сельчан, возле озера на Наталку напал кашель, и пока она откашливалась, нечисть разбежалась по кустам, а жабы прыгнули в озеро и были таковы. Жабы, как говорили в селе, они и есть жабы.
Непонятным оставалось только одно – почему упырь свалился замертво, когда укусил Тоскливца. Грицько решил, что не от книги, и даже попросил Тоскливца сдать кровь на анализ, чтобы проверить ее на отраву, но тот категорически отказался, а так как машины у него не было и поймать его за рулем в нетрезвом состоянии у Грицька шансов не было, то он должен был придумать другой способ, чтобы добраться до крови Тоскливца. И тогда Грицько направился к сельскому фельдшеру Бороде и стал требовать, чтобы тот показал ему историю болезни Тоскливца и самое главное – анализы крови.
Борода как человек интеллигентный не любил всего того, что напоминает бред. Грицько, читающий историю болезни Тоскливца, представлялся ему именно таким бредом.
– А тебе зачем? – спрашивал Борода. – Не дам, и все. Правил таких нету, чтобы милиционеры занимались медициной. А если тебе для работы нужно, так ты мне письмо напиши.
– Какое письмо? Какое? – кипятился Грицько. – Говорю тебе, мне положено его группу крови знать. На всякий случай.
Но на Бороду его аргументы не действовали. Он считал Грицька человеком совершенно бесполезным и не намеревался каким-либо образом продлевать ту агонию, которую тот, как казалось Бороде, по недоразумению считал своей жизнью.
– У человека такая группа крови, которую ему даровал Господь Бог, и она, как и сама жизнь, и таинство, и святая святых. И не должен каждый опричник совать туда свою физиономию, которую лучше окунуть в лохань с водой, чтобы она приняла Божеский вид и не напоминала о вчерашнем обеде и неправедных возлияниях.
Надо сказать, что Борода последнее время и без Грицька был не в духе, а общение с Богомазом настраивало его на проповеднический лад, но слова его были тому, что горох об стенку, потому что Грицько, упрямый как мул (а где вы видели жителя Горенки, который не даст по упрямству фору этому животному?) совершенно не был настроен идти на попятную и, кроме того, он обиделся на «опричника», хотя до конца и не был уверен в том, что это такое.
– Ты мне досье Тоскливца дай, то есть как это, бишь, историю болезни. Можешь хоть историю здоровья дать, только быстрей и не артачься, а то сниму медпункт с сигнализации и тогда ты будешь сам его охранять. По ночам. А у нас, сам знаешь, что в селе происходит. Сейчас вот нечистая сила навалилась на усадьбу Тоскливца, и один упырь даже повторно сдох, когда того куснул. Вот я и хочу узнать, что же это такое течет в жилах у нашего писаря. А ты мне про таинство распелся! Какое тут таинство? Два человека сошлись и сделали третьего. Или ты считаешь, что Тоскливец появился на свет каким-то неизвестным науке способом? Например, вырос на яблоневом дереве как фрукт? Одним словом, прекрати меня раздражать и честно скажи – делал ли когда-нибудь Тоскливец у тебя анализ крови?
– Не положено тебе это знать, – ответствовал Борода, который был возмущен чудовищной ложью Грицька про упыря. – Клятва Гиппократа печатью скрепляет мои уста. Так что катись и не мешай мне работать.
– Я нахожусь при исполнении, и ты не должен говорить мне «катись», – наставительно сказал ему Грицько. – Кроме того, работы у тебя – кот наплакал. Читаешь какую-то дрянь в рабочее время и воображаешь. А я – работаю, да еще каторжно, потому что общение с тобой – это каторга. Я весь взмок даже от твоей наглости, но ничего, я тебе это еще припомню.
Дело в том, что медпункт находился на отшибе, и последние события – нападение нечистой силы и мужественный поступок Наталки – остались вне поля зрения Бороды.
Грицько, чертыхаясь, ушел. Справедливости ради надо отметить, что немного нашлось бы славных наших соотечественников, которые не чертыхались бы на его месте. А Грицько чувствовал, что потерпел полное фиаско. Придя домой, он разделся и лег на прохладную льняную простыню и тут заприметил Наталку, которая обходила дом с иконой в руках и бормотала при этом какую-то молитву.
– Ты, Наталка, у меня молодец, – похвалил ее Грицько. – Если бы ты их еще и утопила, я бы представил тебя к ордену. Но ничего, в другой раз. А сейчас ты к Бороде иди. Спроси у него, какая группа крови у Тоскливца. Да и вообще, что у него течет в жилах? Ведь один упырь рухнул замертво, когда укусил его за запястье. А мне Борода не захотел говорить. Так что иди.
– А то мне больше нечем заниматься, как выяснять что-то про Тоскливца. Ты – милиционер, так ты и выясняй. А я и так еле жива. Даже у Гапки чай пить не осталась, когда ей дудку занесла, потому что неможется мне. Я тоже лечь хочу и забыть обо всем. А ты возьми свой пистолет и ходи вокруг села, охраняй нас от всякой нечисти, а то улегся пузом кверху, а меня к Бороде посылает!
В тоне у Наталки Грицько уловил интонации хорошо известной ему Гапки.
«Если Наталка пойдет по Гапкиному пути, то мне тогда несдобровать, – подумал Грицько. – Начнет есть меня поедом, как Гапка Василия Петровича, и мне тогда тоже придется жениться на городской, а ведь городские, они обхождения требуют и денег. Пропала моя головушка, накликала Гапка беду на меня своими разговорами. Надо запретить Наталке ее навещать, а лучше пусть она Гапку ко мне приревнует, и тогда тема Гапки будет закрыта раз и навсегда». Подумав так, Грицько якобы в полудреме сказал:
– А Гапочка опять как-то похорошела. Как свежая булка из пекарни, хоть ты ее ешь! Я намедни у нее чай пил, так уж было время рассмотреть. Ты бы ее, это, расспросила, как ей это удается. Да и племянница ее, Светуля, даром что в монастырь собралась, а как кобылица. Так и хочется огреть ее плетью, чтобы она, длинноволосая, побежала по лугу, подминая своими белыми ножками цветы и радуя солнышко своей молодостью и свежестью…
Сказав это, Грицько тут же заснул, на свое счастье, на самом деле. На свое счастье, потому что не слышал тот бурный поток сознания, который выплеснулся из алых губок его подруги жизни. Он многое узнал бы и про себя, и про то, что Наталка пожертвовала собой, когда узы Гименея намертво привязали ее к Грицьку. Но Грицько спал крепким и блаженным сном, и его мирное посапывание и еще более мирное похрюкивание постепенно умиротворили Наталку, которая в общем-то была женщиной не злой, хотя и поднахваталась всяких глупостей от Гапки. И она принарядилась и действительно отправилась к Бороде, не потому, что намеревалась выяснить что-либо про ненавистного ей Тоскливца (ненавидела она его не по личным причинам, а из солидарности с Гапкой, которую тот морил голодом да еще и придумал ей такую прическу, которой добрых людей пугать), а потому, что хотела что-то у того выяснить по женской части. А на улице тем временем стоял шум да гам – вечное светило намеревалось закатиться за горизонт, чтобы отдохнуть от тех глупостей, которые ему приходилось наблюдать в течение дня, и погоревать о том, чем ему не дано, по известным причинам, насладиться ночью, – и обитатели Горенки возвращались с городских рынков домой. Наступал тот блаженный летний полумрак, когда природа затихает и замирает, предвкушая прохладу, ночные птицы лихорадочно зазубривают на память свои серенады, пиликают цикады, укладываются спать стрекозы и дети и незримые ангелы бесшумно носятся над жаждущим отдохновения человечеством и легкий ветерок от их крыльев охлаждает перегревшиеся за день головы. Одним словом, наступала украинская ночь!
И Наталка подоспела к Бороде аккурат в тот момент, когда тот запирал дверь медпункта. И тот был вынужден его снова открыть, беззлобно заметив, что на ночь глядя к нему идут на прием, а днем он сидит один как сыч и не видит ни одной живой души. В ответ на эти почти нежные упреки (а Наталка была настолько собой хороша, что при одном ее виде представители мужеского пола не могли не испытывать нежности) наша воительница сообщила ему, что сражалась с нечистью, а точнее, вела ее к озеру при помощи всем известной Гапкиной дудки, но что возле озера закашлялась и нечисть разбежалась по кустам, а жабы прыгнули в воду. Жабы, они и есть жабы, пояснила Наталка. А вот кашель у нее так и не прошел, и кроме того…
Но мы не будем смущать нашего благонравного читателя подробностями беседы сельского эскулапа с Наталкой, а лучше, пока они беседуют о женском, расскажем читателю о Наталке. А ведь есть о чем рассказать! Вы ели когда-нибудь вареники с творогом? А с вишнями, с вишнями ели? Вот то-то и оно. Наталка была одновременно и вареником с творогом, и вареником с вишнями. Бело-розовая, с легким загаром, который делал ее хорошенькую мордочку похожей на заморский персик, с упрямой копной каштановых, под цвет карим глазкам, волос. Росточку она была небольшого, но при этом была такая ладная, словно ее запроектировали и вырезали из слоновой кости, акцентировав все то, что украшает прекрасный пол, – крошечные ножки, пышный бюст, ну а остальное читатель пусть домыслит себе сам, потому что мы не имеем права, да и времени, смущать его пылкое воображение. Скажем только, что в глазах ее, как и у Гапки, сверкали иногда золотые огоньки, что делало ее совершенно неотразимой. Грицько, правда, иногда задумывался, не от лукавого ли эти огоньки и не есть ли они отблесками адского пламени, но эти мысли от себя гнал, потому что, когда был трезв, любил Наталку до беспамятства, а когда выпивал– еще сильнее, а она, невзирая на все его выкрутасы, отвечала ему взаимностью.
И когда тема ее беседы с Бородой была почти исчерпана, она вдруг вспомнила про просьбу Грицька, который сегодня чуть не отдал Богу душу из-за свирепой нечистой силы, и попыталась перевести тему на Тоскливца. Впрочем, вышло у нее это довольно неуклюже, ибо нелегко было направить разговор от такой завораживающей темы, как женские проблемы Наталки, на такую угрюмую личность, как Тоскливец, к тому же не имеющую прямого отношения к разговору. И Борода догадался, что это Грицько ее подослал. И хотя ему было нелегко говорить правду в глаза очаровательной собеседнице, он все же набрался духу и выдавил из себя:
– Не могу я поведать тебе то, что ты хочешь, Наталья. Такая уж у меня работа. Представляешь, если придет, скажем, Гапка и начнет меня расспрашивать о том, зачем ты сюда приходила…
– Гапке и так все известно – она моя сродственница и лучшая подруга.
Стеклянный взгляд Бороды выразил глубокое сомнение как в женской дружбе вообще, так и в дружбе между Наталкой и Гапкой в частности.
– Гапке, может быть, и известно, а другим не должно быть известно. Анализ крови по нынешним временам дело интимное. Скажи мне, какая у тебя кровь, и я тебе скажу, кто ты. Так Грицьку и передай. Пусть не выдумывает и не воображает себя Шерлок Холмсом. Нет тут никаких тайн, а есть просто клятва, которую приносят все медицинские работники, даже если они работают в таком заповеднике, как этот.
Наталка немного надула хорошенькие губки – ей не понравилось, что ее родное село назвали «заповедником», но Борода стал запирать медпункт и она быстро ушла, не дожидаясь фельдшера – если бы их увидели идущими вдвоем, то это могло бы дать повод для сплетен. А Грицько был ревнив, и Наталка, не желая превращать его в мавра, старалась не давать поводов для ревности.
Наталка направилась домой, а вечер тем временем задумал да и превратился в душистую летнюю ночь. И звезды-брильянты высыпали на бархатном черном небе, и если бы не дневное происшествие, то на душе у Наталки было бы легко м радостно. Но какая радость может быть у человека, который ведет за собой к озеру чертово воинство, чтобы его утопить, и знает, что вокруг села этой нечисти великое множество? По дороге домой ей пришла в голову светлая мысль – самой взять у Тоскливца анализ крови под каким-нибудь благовидным предлогом и отвести его в городскую лабораторию. Но тут она вспомнила про упыря, который отбросил концы только потому, что укусил Тоскливца, и решила, что не следует ей встревать в мужские дела. Б конце концов, это касается ненавистного ей и Гапке Тоскливца, да и тайна у того тоже, видать, тоскливая и нечего ей, Наталке, совать туда свой нос.
А Тоскливец сидел у выдавленного нечистью окна и ругался, хотя и тихо, но последними словами, – ему нанесли ущерб, а спросить не с кого, потому что, насколько ему известно, еще никто не подавал в суд на вурдалаков. Клара сидела на стуле рядом с ним и тоже ругалась, но скорее от безделья, чем от огорчения, потому что на стекло ей было начхать – Тоскливец пожмется пожмется да и вызовет кузнеца, чтобы тот вставил стекло. И деньги у Тоскливца, как всегда, найдутся. Так они сидели вдвоем и ругались – сначала ругали нечистую силу, потом друг друга, по привычке, потом чуть не сцепились, но вовремя сообразили, что это невыгодно им обоим, и залегли в супружескую постель, чтобы предаться известным утехам, и так увлеклись, что даже не замечали и не слышали, как в норе возится прижившийся в доме сосед.
И ночь в очередной раз опустилась на бренную землю, ошарашенная луна высветила своими желтыми прожекторами неугомонную Горенку, пытаясь рассмотреть, что происходит, и сообразить, правду ли ей рассказали смешливые всезнайки облака, но Горенка мирно спала и невозможно было понять, в самом ли деле в ней произошел очередной переполох. А пока обитатели Горенки дрыхли, незримое время накручивало свои бесшумные часы, летний свежий ветер норовил проникнуть в их затхлые жилища, но не тут-то было – горенчане на ночь запирались на все замки, закрывали ставни и, если бы могли, законопатили бы и все щелки. Таковы уж здешние нравы, и ничего тут не поделаешь! И только фонари на центральной улице старались разогнать ночные мраки, но тщетно. Темнота вступила с ними в сражение и норовила окружить желтые шары непроницаемой черной пеленой, чтобы дать возможность нечистой силе порезвиться всласть, пока вечно юное светило находится далеко от злополучного села. Собаки тоже не лаяли, словно почувствовали в природе некое отдохновение и одновременно опасность и предпочли забиться в свои будки и уткнуть морду в теплый хвост, чтобы забыться, как и все человечество, сладостным сном.
Не спал только храбрый Грицько. Вооруженный, он ходил от фонаря к фонарю, и дума его была только об одном– разгадать тайну Тоскливца и получить за это орден. Почему он решил, что за этот подвиг ему должны дать орден, трудно сказать. Но плох тот страж порядка, который не мечтает о светлой године, когда его вызовут на ковер не для того, чтобы тыкать мордой в недостатки, а для того, чтобы рассказать всем присутствующим о том, что вот он, Грицько, не опростоволосился и узнал нечто такое, от чего государственные мужи пришли в совершеннейший восторг и решили наградить его именным оружием и орденом. Эх мечты! Хорошо, однако, мечтается тихой летней ночью, когда уродливость жизни скрыта от людских глаз и когда все кажется возможным.
И Грицько решил забраться в дом к Тоскливцу и подслушать, о чем тот говорит со своей супружницей. Кто знает, может быть, это поможет следствию. Тем более что, как ему было известно, Тоскливец из жадности собак не держал, и это давало ему, Грицьку, зеленый свет. И Грицько как решил – так и сделал. Осторожно ступая по песчаной улице, дошел он усадьбы Тоскливца. Черная свинья, пробежавшая мимо, не испортила ему окончательно настроения только потому, что он не заметил, какие у нее зеленые глаза. А так как на небо он не смотрел, потому что внимательно смотрел себе под ноги, то не обратил он внимания и на то, что над селом кружит ведьма на метле. Впрочем, на самом деле это была не ведьма, а фея – Явдоха по своему обыкновению проветривалась в ночном небе, пока ее благоверный выводил носом затейливые рулады и грезил о том, что суждено ему прославиться, как Эль Греко, и что люди со всей ойкумены будут съезжаться в Горенку, чтобы полюбоваться его иконами. Ну разве бывает художник, которому не снятся подобные сны? А тем временем Грицько подошел к дому Тоскливца и забрался внутрь через разбитое окно. Забрался и притаился. В доме было тихо, и только упрямо скрипели ржавые пружины и кто-то возился под полом, расширяя нору. «Хоть бы они поговорили о чем-то, – подумал Грицько. – Ну что это за удовольствие вот так молча… А поговорить? Насчет крови Тоскливца». И он принялся им внушать: «Кровь, кровь, кровь!». Но так как телепатией он занялся впервые в жизни, то от усилий чуть не заснул, но вовремя спохватился и стал тереть глаза кулаками. А темнота на улице еще больше сгустилась, и пейзаж за окном напоминал скорее банку черных чернил, чем спящую улицу. Даже лучи луны не способны были достигнуть спящего села. И Грицько спинным хребтом стал догадываться, что, видать, нечистая сила опять надвигается на село, и захотелось ему домой, к Наталке. Но тут Тоскливец наконец что-то неразборчиво сказал, и послышалось недовольное ворчание Клары: «Нет, этого я не могу тебе позволить. Сам знаешь почему. И, кроме того, это против моих принципов, ведь мы с тобой даже не женаты». Тоскливец принялся с ней спорить, но Клара не соглашалась, и надежда Грицька на то, что они примутся громко и внятно обсуждать кровь писаря, почти улетучилась. Видно, эта проблема их не волновала. И вылез Грицько из окна, и понуро отправился домой, решив, что тайна эта – тоскливая, как и ее обладатель, и он, Грицько, обязательно до нее доберется, но только не сейчас, когда веки наливаются свинцом и так хочется спать.
И беспокойный для Грицька день закончился, как и для всех жителей суматошного села. Трудно сказать, победило ли добро зло, или наоборот, или это просто вечный процесс, как противостояние мужского и женского начал, в результате которого на земле появляются все новые и новые жители. Да и в Горенке тоже, но так уж у людей заведено…
А Голова нежился возле Галочки в своей городской квартире и ведать не ведал про мытарства Грицька. Его мало интересовала жидкость, которая циркулировала по жилам Тоскливца, – хоть керосин, лишь бы на работу ходил. Начальственное лицо, оно и есть начальственное даже во сне, куда только привидение кота Васьки пробирается одним известным ему способом, чтобы донимать Василия Петровича. Но ведь кота когда-то завел он сам, и это оправдывает, как думал Васька, его желание общаться со спящим начальником. Одним словом, все успокоилось и все успокоились и никто не догадывался, что с ними произойдет на следующий день. Но это, наверное, и к лучшему, потому что тогда спокойный сон им всем только приснился бы. Но об этом мы расскажем в свое время.
Одно только дерево
Неужели в тайну Тоскливца невозможно проникнуть, – думал Грицько. – И откуда он только взялся на мою голову!» Но вопрос был чисто риторическим, потому что никто не собирался давать на него ответ. Кроме того, у Грицька было множество других забот. Соседи опять повадились таскаться в Горенку, и дело дошло до того, что они понаделы-вали свои норы почти в каждом доме. И приставали к хозяйкам, когда мужики стояли на базаре или работали в поле. Женщины, правда, утверждали, что поползновения соседей получают достойный отпор, но мужчины верили им с большим трудом, и стол Грицька был завален листами бумаги – жители Горенки мужеского полу строчили ему бесконечные жалобы, требовали, чтобы он принял меры, избавил, положил конец, навел порядок и т. д. И угрожали пожаловаться его начальству, если он немедленно не восстановит в селе порядок. Никто, правда, не предлагал, как это сделать. Жалобщики считали, видно, что у Грицька достаточно ресурсов, чтобы вышвырнуть нечисть за околицу села. А тут в довершение всех бед соседи перестали реагировать на дудку. Грицько отправился как-то к Гапке, разжалобил ее, наобещал с три короба и потом, когда заветная дудочка оказалась в его руках, радостно загудел в нее и зашагал по центральной улице, чтобы все видели, как он освобождает родное село. Но к его удивлению, кроме стайки любопытствующих мальчишек, которые обезумели от скуки и жары и намеревались хоть как-то развлечься, к нему никто не присоединился. Грицько ходил по селу, пока у него не разболелась голова, но толку от дудки не было никакого. И он возвратил дудку Гапке и сообщил ей, что волшебная сила сего инструмента утрачена, не исключено, безвозвратно и что, возможно, и Гапкина красота тоже исчезнет, но он как ее достойный ценитель готов прямо сейчас воздать ей должное, и поэтому не следует дожидаться беды, и он даже взял Гапку за руку, но та отстранилась от Грицька, который под воздействием Гапкиных чар забыл на какое-то мгновение о том, что женат на обожаемой им Наталке (но женское вещество ведь для того и существует, чтобы вытеснять мужское и заставлять кружиться молодецкие головы), и попросила, чтобы он не попрекал ее красотой, потому что это Господу Богу было угодно, чтобы она появилась на свет писаной красавицей, и если кто не способен совладать с собой, так пусть уйдет и не тратит времени понапрасну, потому что она, Гапка, девушка строгих правил и, кроме того, она любит свою сродственницу Наталку, как родную сестру и даже как мать, и поэтому и представить не может, что именно вызывает у Грицька преступное желание… При этом она томно вздохнула и выпустила в сторону Грицька невидимую вулканическую лаву, которая ошпарила его как кипятком, и он, не зная, что сказать и что сделать, заставил себя ретироваться в сторону двери, призывая себя вспоминать глазки Наталки, ее хорошенькое личико и беленькие ножки, которые он так любил ставить себе на грудь и обцеловывать со всех сторон, как конфету. Итак, призывая самого себя к благоразумию, он на деревянных ногах заковылял к двери, бормоча молитвы, чтобы прогнать нечистую силу, которая чуть не ввела его в искушение, но Гапка вдруг сменила гнев на милость (Грицько был гренадерского роста, с пышным, черным как смоль чубом и усами, которым позавидовал бы любой казак) и тихо так сказала:
– Ой, что-то не можется мне, милый Грицоньку, положи меня в постель, укрой меня одеялом, холодно мне…
Гапка, разумеется, хитрила – она была горяча, как печь, в которой только что испекли хлеб, но ей пришел в голову каприз, а собственные капризы для нее, как и для любой представительницы прекрасного пола, были так же дороги, как и сама жизнь.
И она стала так медленно, как при замедленных съемках, оседать на пол, и Грицько, проклиная сам себя, свое естество и свою слабость, подхватил ее за тонкий, как тростник, стан, и отнес ее в спальню, и положил ее на постель, и снял с нее затейливые туфельки, украшенные нашитыми разноцветными бабочками – хотя украшать Гапкины ножки на самом деле никакой необходимости не было, они сами могли украсить что угодно, – и стал уже было (вот мужская наивность!) укрывать ее одеялом, но тут ее тоненькие ручки обвились вокруг его загорелой и крепкой, как ствол дерева, шеи, и Гапка прильнула к нему, и казалось, что вот-вот их уста соединятся… Но тут под полом завозился сосед, который, как оказалось, в тот день стал устраивать под Гапкиным домом свою нору, а в дверь забарабанила Наталка, которая пришла проведать свою подругу, потому что со вчерашнего вечера они поговорили всего только раз десять, да и то по телефону. И Гапка, не долго думая, запихала Грицька все в тот же одежный шкаф, который в свое время служил убежищем чертовке и Тоскливцу. Грицько, который ни в чем еще виноват не был, сопротивлялся самым отчаянным образом, но ведь девичьи нежные ручки в иных обстоятельствах намного сильнее, чем мозолистые мужские, и славный милиционер был помещен в шкаф, как куль с тряпьем, и дверца шкафа для гарантии была закрыта на ключ. Грицько был настолько испуган, что Гапкины чары утратили над ним свою власть. Он даже сам себе поражался, как это он мог поддаться соблазну и такое себе вообразить, ведь у него есть Наталка, которая самая красивая и добрая и терпит все его выкоблучивания. И настолько он огорчился всему тому, что с ним произошло, что тут же дал зарок, что если выберется из этого удушливого ящика живым, то до конца своих дней не будет осматривать дачниц, как барышник коней, выставленных на продажу, и не будет провожать их взглядом, словно фотографируя их волосы и походку.
А Наталка стала, как назло, расхваливать своего Грицька, а Гапка ей, разумеется, поддакивала, и от этого разговора и нафталинной вони у Грицька отчаянно разболелась голова и ему стало казаться, что еще немного и он задохнется, и тогда его мечта стать отцом дюжины хорошеньких девчонок и мальчишек никогда не исполнится, и зароют его в сырую землю, и товарищи по оружию в виде салюта выпустят в небо вразнобой несколько залпов, а потом отправятся к нему домой, чтобы приударить за молоденькой вдовой… От таких перспектив Грицько даже пустил слезу и действительно стал задыхаться, потому что в замочной скважине торчал ключ и даже толика свежего воздуха не проникала в шкаф, забитый одеяниями будущих монахинь. Грицько тогда исхитрился и спичкой стал выдавливать ключ из замочной скважины и таки выдавил, и тот со звоном и лязгом упал на пол, а Грицько приник губами к замочной скважине и стал целовать ее взасос, чтобы напиться свежего воздуха. /Бдительная Наталия сразу учуяла что-то неладное и даже подошла к шкафу, пронзая его насквозь молниями своих взглядов. Но шкаф молчал, ибо Грицько, испугавшись наделанного им шума, затаился, как мышь, и мысленно проклинал коварную Гапку.
Не думаем, что Грицьку удалось бы уберечься в шкафу от своей бдительной супружницы, которая запросто могла дать фору Шерлок Холмсу, но на его счастье на авансцене появился сосед. Двухметровый, кряжистый, как плохо обтесанный пень, он вылез из подпола и нагло уселся возле хозяйки дома, ухмыляясь и норовя обхватить ее стан. Наталке он тоже улыбался, потому что не был уверен, на каком из фронтов перед ним откроется желанная брешь.
Наталка отошла от шкафа и схватилась за веник, чтобы выгнать мерзкую крысу, притворяющуюся добрым молодцем, из дому, но тот и сам не стал дожидаться, пока ему надают по шее, и юркнул под постель, а из-под нее в подпол и был таков.
Гапка от огорчения чуть и в самом деле не захворала.
– И у меня завелась нечисть! – горестно воскликнула она. – И какая здоровая. Это как же мне теперь спать? И Светуле? Ведь он же может прийти, когда мы будем спать, и что тогда? Нет, жизни, нету, надо скорее бы в монастырь уйти. Туда нечистая сила не посмеет сунуть свой нос, и там мы заживем со Светулей тихо и мирно…
– А ты себе пояс целомудрия справь, – посоветовала ей умудренная опытом Наталка. – Сходи к кузнецу, он тебе его из нержавейки сварганит. И спать ты тогда можешь спокойно. Да и Светуля пусть себя обновкой порадует. А сосед, когда скумекает, что карта его бита, оставит вас и переберется в другой дом. Туда, где лицемерки не спешат приобрести себе надежное противососедское средство. А запасной ключик от него ты можешь мне отдать или Грицьку (Грицько, сидевший в шкафу, вздрогнул) на случай, если свой потеряешь, и тогда ты сможешь спать совершенно спокойно. Только пусть Назар хорошо мерку снимет, да подкладку сделает из чего-нибудь мягкого и теплого, а то ты себе зимой зад отморозишь и будет тебе не польза, а один ущерб.
Сосед, жадно внимавший из-под пола словам злобной, как ему думалось, советчицы, загрустил, потому что пояс целомудрия из нержавейки совершенно не входил в его планы и, более того, мог их совершенно поломать.
Позже, когда Наталка таки обнаружила в шкафу своего незадачливого муженька и привела его в чувство, она, поражаясь собственной мудрости, покинула взгрустнувшую Гапку и пошла по селу, то и дело останавливаясь, чтобы рассказать о том, что может спасти ее односельчанок от позора, – о поясе целомудрия. Эта идея, как и любое новшество, пусть и тысячелетней давности, не вызвало у сельских мадонн и тени энтузиазма. Во-первых, рассуждали они, так можно и своих мужиков отпугнуть. Те привыкнут, что крепость на замке, и тогда рождаемость резко снизится и село просто вымрет. Хаты будут стоять пустые, покосятся и рухнут. И никто не будет водить по весне хороводы на лугу, празднуя возвращение жаркого светила и благовонного лета. И звезды будут светить над запущенным кладбищем, а скот разбежится и его сожрут волки. Нет, этого нельзя допустить! А Наталка придумала глупость! Но, во-вторых, как же быть с соседями? Те ведь падки до женской красоты, а горенчанки так ведь те одна в одну, словно природа обделила прекрасный пол где-то в другом месте, но зато не поскупилась здесь, в Горенке, наделив жительниц этого уголка всем тем, что завораживает мужчин… Дилемма казалась жительницам села неразрешимой. И сердца их заколебались. Спать по ночам действительно хотелось, а соседи наглели и не спешили убегать в свои норы, даже если на них замахивались башмаком или сковородкой. И количество посуды в домах у горенчан стало уменьшаться, словно она могла заменить то, что заменить никак нельзя, – пулю.
И тут-то у Назара, дела у которого были давно уже неважнецкие, ибо лошадей горенчане держали с каждым годом все меньше и нужда в подковах постепенно сходила на нет, открылось второе дыхание.
А дело было так. Во вторник, на второй неделе июля, он проснулся не поближе к полудню, как ему было свойственно после доброй попойки, а рано утром от какого-то шума, который, как он сначала думал, ему приснился, но когда он выглянул из-за серой от пыли занавески, то, к своему изумлению, увидел множество горенковских прелестниц, которые стучали к нему в дверь и спорили о том, чья сейчас очередь. Очередь к кому? Оказалось, что к нему.
Первая к нему пришла Оксана, внучка Хомы, пекаря. Она и сама казалась сдобной булкой и, к изумлению Назара, тут же задрала пышные юбки и потребовала, чтобы он ее обмерил и изготовил ей тот самый пояс, который соседям не одолеть, чтобы она могла спать спокойно и не прислушиваться, как они скребутся в норе или расхаживают по хате, пока ее благоверный, Васыль, издает заливистые рулады всем своим телом, а не только, как приличествует мужчинам, носом и глоткой.








