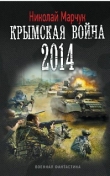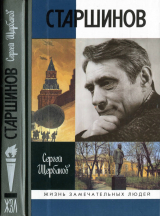
Текст книги "Старшинов"
Автор книги: Сергей Щербаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Да и само сознание того, что он причастен к самой великой победе в истории человечества, всегда поддерживало Старшинова в трудные минуты жизни, а таких в ней было предостаточно.
Жизнь моя! Она бывала всякой.
Пела синевой любимых глаз
И молчала зло перед атакой…
Может, потому и удалась!
(«Жизнь была и сладкой и соленой…», 1976)
Однажды, наверное, именно в трудную полосу жизни, к нему домой зашел Глеб Паншин (один из ближайших друзей Старшинова, написавший впоследствии о нем книгу «Штрихи к портрету друга») и обнаружил, что семилетняя дочь поэта Рута играет отцовскими медалями.
– Зачем ты позволяешь Рутке медали портить? Она из твоей «За отвагу» сапожной щеткой что-то выковать хочет…
– Да пусть… Кому они теперь нужны…
– Но ведь медали-то боевые, заслуженные!
– Ну и что?..
Медали, правда, Старшинов все-таки убрал в стол. А случай этот доказывает лишь то, что был он по натуре сугубо гражданским человеком. Это судьба, общая для всего военного поколения, сделала его «гвардии рядовым». Но он никогда не жаловался ни на судьбу, ни на раны, утверждая, что ему крупно повезло: из его одногодков с войны вернулись лишь три процента от ушедших на нее…
* * *
Военная тема в творчестве Старшинова. Было бы прегрешением против истины утверждать, что поэтом его сделала война. Все-таки поэтами рождаются. Тем не менее сам он в одном из интервью отметил: «Годы войны в моей судьбе – как фундамент у дома, основа его».
Свое двухтомное собрание избранных произведений, вышедшее в 1989 году и тщательно им самим подготовленное, он открыл «фронтовым циклом» стихотворений (термин условен, сам поэт их в цикл не выделял). Поскольку принцип построения собрания – строгая хронологичность в расположении стихотворений, можно утверждать, что начиная именно с этого цикла он считал свое творчество достаточно зрелым, чтобы быть представленным читателю. Ни те ночи, что он провел на крыше родного дома, гася немецкие «зажигалки», ни несколько месяцев учебных лагерей не оставили заслуживающих внимания поэтических строк, во всяком случае по мнению их автора. Он напишет о том времени, но позже.
Всего в «Избранное» включено десять стихотворений, датированных 1943 годом, то есть написанных в течение тех пяти месяцев, которые он провел в действующей армии. Это не много, но не будем забывать, что не перо являлось тогда основным «орудием труда» сержанта Старшинова, а гашетка пулемета.
Отличительная черта его фронтовых стихотворений – их зримая предметность. Время обобщений пока не пришло, да и не до них было. Что находилось перед глазами поэта? Конкретный бруствер, за который надо шагнуть под пули, вот эта «проклятая падь», которую нельзя отдать врагу, тульская гармошка, скрасившая уставшим бойцам недолгие минуты отдыха. Разумеется, это не просто батальные зарисовки или своеобразные репортажи с фронта – практически в каждом из этих стихотворений есть какая-то опорная строка или строки уже обобщающего плана. Но появляются они в связи с конкретными событиями и впечатлениями фронтовой жизни, столь недалекой от смерти. И оттого впечатления эти особенно сильны.
Такой «военный импрессионизм» не был особенностью только Старшинова, он отличал раннее творчество большинства поэтов военного поколения, по объективным, конечно, причинам.
Заканчивается «фронтовой цикл» стихотворением «Сушь», что не случайно. Это первое поэтическое воплощение последнего фронтового впечатления сержанта Старшинова – тяжелейшего ранения. Конечно, если строго следовать временному принципу деления его военной лирики на циклы, это стихотворение следовало бы отнести к «госпитальному циклу» (термин также условен), поскольку написано оно могло быть уже только в госпитале. Но при чтении создается настолько полное впечатление об одновременности самого события и рассказа о нем, и, главное, оно настолько психологически точно ложится последним звеном фронтового пути поэта, что отделить его от фронтовых стихотворений невозможно.
Марля с ватой к ноге прилипла,
Кровь на ней проступает ржой.
– Помогите! – зову я хрипло.
Голос мой звучит как чужой.
Сушь – в залитом солнцем овраге.
Сухота в раскаленном рту.
Пить хочу! И ни капли во фляге.
Жить хочу! И невмоготу.
Ни ребят и ни санитара.
Но ползу я, пока живу…
Вот добрался до краснотала
И уткнулся лицом в траву.
Все забыто – боль и забота,
Злая жажда и чертов зной…
Но уже неизвестный кто-то
Наклоняется надо мной.
Чем-то режет мои обмотки
И присохшую марлю рвет.
Флягу – в губы:
– Глотни, брат, водки,
И до свадьбы все заживет!
(1943)
Следует отметить в этом стихотворении и некоторые «поэтические вольности»: время события здесь перенесено на знойный летний день, хотя, как мы помним, полз он к своим с перебитыми ногами сырой августовской ночью. И здесь напрашивается прямая литературная аналогия с рассказом Всеволода Гаршина «Четыре дня», принесшим в свое время ему известность, в котором описывается схожая ситуация. Участник Русско-турецкой войны на Балканах 1877–1878 годов, Гаршин был тяжело ранен в ногу и тоже описал чувства человека, страдающего не только от раны, но и от изнуряющего зноя. Старшинов высоко ценил творчество этого писателя, особенно его военную прозу, и в первую очередь – рассказ «Четыре дня», хотя и трудно сказать, был ли он знаком с ним до того, как написал свое стихотворение.
После ранения в творчестве Старшинова наступил новый период. Война как окружающая действительность для него закончилась, каждодневный ратный труд сменился вынужденной бездеятельностью; наступило время раздумий. Это заметно сказалось как на тематике, так и на характере его творчества. Кроме стихов, навеянных фронтовыми воспоминаниями, пишутся и такие, как «Поспать бы еще немного…», в котором поэт вспоминает свои ночные дежурства на московских крышах зимой 1941/42 года, или «Ничто здесь не скроется…» и «Снегурочка», посвященные уже госпитальной, полумирной-полувоенной жизни. То есть мир, суженный прежде буквально до прорези пулеметного прицела, теперь расширился (несмотря даже на прикованность к больничной койке), и соответственно расширился круг тем, которые волнуют поэта.
Причем поэтические реалии последнего стихотворения были таковы, что до конца своих дней Старшинов получал письма от бывших военных медсестер, посчитавших лично себя героинями стихотворения «Снегурочка» (1944). Они даже вспоминали особые географические и лирические подробности их госпитальной истории, но, увы, как раз та, которой были посвящены стихи, – Нина Матросова – не отозвалась. Да и как не узнать себя любой из молоденьких медсестер тех лет в таком портрете:
Как волшебница в сказке какой,
На подушках расправила складки
И поистине щедрой рукой
Раздала порошки и облатки.
И хоть ветер все резче и злей
Бьет по синим продрогнувшим стеклам,
Только кажется: Стало теплей
Нам
Под взглядом Снегурочки теплым.
Таким образом, уже в госпитале военная тема перестала быть для поэта единственной, и постепенно в его творчестве начинает преобладать лирика философского и любовного плана, что в общем-то естественно. Не случайно переломным в этом отношении явился именно победный 1945 год, хотя лично для сержанта Старшинова война как «окружающая действительность» закончилась в августе 1943-го.
В стихотворениях же, датированных 1944 годом, главным лирическим героем еще остается русский солдат. Тогда же, в сорок четвертом, написано, пожалуй, самое знаменитое стихотворение Николая Старшинова:
Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.
Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал – чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.
(«Ракет зеленые огни…»)
«В летописи войны – это, может быть, одни из самых правдивых строк. В них такое будничное, прозаическое отношение к смерти, равное подвигу! В них любовь к родному точно и просто передана через суровый, молчаливый, ежедневный, ежечасный ратный труд солдат. Громкие слова здесь были бы равносильны фальши», – пишет Геннадий Красников.
Не случайно это стихотворение всегда поют под гитару, собравшись в дружеском кругу, ученики Старшинова.
Сокурсник Старшинова Анатолий Мошковский в очерке «Два поэта» поделился любопытными воспоминаниями о ситуации, сложившейся вокруг этих строк в стенах Литературного института:
«Многие стихи лепились в то время по привычному трафарету: бойцы бежали с винтовками наперевес и во весь голос кричали: «За Родину! За Сталина!» А в старшинов-ской атаке никто не крикнул даже «За Россию!..»
Естественно, подобное вольнодумство и «антипатриотизм» насторожили некоторых ханжей на кафедре творчества, но принесли Коле институтскую известность и уважение… Правда, это стихотворение в авторской редакции не напечатали… Впрочем, Ф. И. Панферов скоро опубликовал его в «Октябре», смягчив концовку:
Никто не вымолвил «Россия»,
А шли и бились за нее.
Слабей, но все-таки стихи увидели свет. В подлинном виде концовка стихотворения была напечатана через несколько лет».
Итак, в феврале 1944 года Николай Старшинов возвращается домой и вскоре благодаря счастливому стечению обстоятельств становится студентом Литературного института, что определяет его дальнейшую судьбу профессионального литератора. Но Великая Отечественная война не окончена, не отпускает она от себя и демобилизованного сержанта Старшинова – он продолжает писать о ней в настоящем времени, а порой даже в будущем, как, например, в стихотворении «Эх ты, мама, моя мама…» (1945), ставшем впоследствии довольно известной песней. Поэт будет ощущать себя солдатом еще долго и после первого Дня Победы:
И вот в свои семнадцать лет
Я стал в солдатский строй…
У всех шинелей серый цвет,
У всех – один покрой.
У всех товарищей-солдат
И в роте, и в полку —
Противогаз, да автомат,
Да фляга на боку.
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.
Льют бесконечные дожди,
И вся земля – в грязи,
А ты, солдат, вставай, иди,
На животе ползи.
Иди в жару, иди в пургу.
Ну что – не по плечу?..
Здесь нету слова «не могу»,
А пуще – «не хочу».
Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, —
Солдатам холодно поврозь,
А сообща – тепло.
И я иду, и я пою,
И пулемет несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу.
«И вот в свои семнадцать лет…»
Это написано в 1946 году. И только в середине пятидесятых в таких стихотворениях, как «О юности», «Я был когда-то ротным запевалой…», «Санитарные поезда», он начнет вспоминать о войне в прошедшем времени.
Но вернемся к 1945 году и написанному тогда стихотворению «Мы праздновали первый День Победы…», которое критик Вадим Дементьев охарактеризовал как «ликующее». Примечательно, что в этом стихотворении впервые пересекаются параллельные до этого линии – военная и любовная. Это, на мой взгляд, глубоко символично. Как и стихотворение «Сушь», оно явилось как бы переходным от одного творческого этапа к другому – после первого Дня Победы военная тема постепенно стала отходить на второй план (хотя осталась с поэтом навсегда). И, возможно, не случайно написано оно совершенно несвойственным для Николая Старшинова белым стихом, как бы подчеркивая его особое место в творчестве поэта:
(А ты простаивала в карауле
В октябрьский дождь, в февральский снегопад.
Ты шла под пули, раненых спасая,
Простых солдат, таких же, как и я.)
Ты слушала рассеянно сержанта,
Обменивалась взглядами со мной.
И мне казалось, мне казалось, что…
Командующий за столом сержант даже некоторым образом противопоставляется простым солдатам, к которым лирический герой причисляет и себя. А поскольку речь идет о девушке, имеющей вполне конкретный прототип – Юлии Друниной, то и лирический герой в данном стихотворении для читателя, знакомого с биографией поэта, максимально приближен к конкретному человеку – Николаю Старшинову, который, как мы знаем, сам был сержантом, к тому же старшим. Налицо настойчивое желание поэта говорить от имени именно рядового солдата, и я полагаю потому, что именно в рядовом солдате он видел главного творца победы. Недаром свою единственную поэму о войне, во многом автобиографическую, он назвал «Гвардии рядовой» (1944–1946), а не «Гвардии сержант».
Правда художественного произведения вовсе не обязана соответствовать правде факта, даже если это произведение автобиографично. И в поэме автор не только «разжаловал» себя до рядового, но и раздвинул границы личного участия в боевых операциях – от битвы за Москву до штурма Берлина. Сделал он это, разумеется, не от желания выказать себя более бывалым солдатом, чем был на самом деле, а так того потребовала сюжетная линия произведения. После рефреном повторенной строки «Я родился в городе Москве» самым логичным продолжением развития сюжета было такое:
Ты бежишь, припомнив все сначала,
Мокрый бинт сползает с головы…
Это очень гордо прозвучало:
«Я – защитник города Москвы!»
Как уже говорилось, писать о войне в прошедшем времени Старшинов начал лишь через несколько лет после победы. Но осознав ее как прошлое, все чаще осмысливал ее как минувшую юность. В одном из стихотворений семидесятых годов, адресованных «полегшим» солдатам, он называет их своими одногодками, хотя его одногодки составляли лишь часть от общего числа погибших на войне. Таково уж свойство человеческой памяти. Всматриваясь в их навсегда оставшиеся молодыми лица, теперь, через тридцать лет после победы, он уже не различал их по годам призыва, как делалось это (и не могло не делаться) в послевоенные годы. Теперь все они его одногодки, часть фронтовой юности. А юность, несмотря ни на какие испытания и лишения, все равно пробуждает в зрелом человеке светлые о ней воспоминания.
В одном из стихотворений, написанных к тридцатилетнему юбилею Победы, он признавался даже в некоторой ностальгической грусти своего поколения по тем героическим дням:
О, эти вздыбленные дни,
Их не смирить вовек…
И все же
Для нас, жестокие, они
Чем отдаленней, тем дороже.
(«Да, эти дни прошли давно…», 1975)
Ностальгия эта какому-нибудь записному пацифисту, может быть, покажется нарочитой, но на самом деле происходила она от закономерной гордости за поколение победителей. Не случайно, по воспоминаниям Глеба Паншина, «на встречах с читателями, на литературных вечерах Николай Старшинов обычно начинал чтение своих произведений с военной темы: «Я был когда-то ротным запевалой…», «Ракет зеленые огни…», «Зловещим заревом объятый…». А в последние годы – «Песня о пехоте», «Два фото»…».
В 1970—1990-х годах Старшинов обращался к военной теме чаще всего в дни празднования очередных победных дат, что ни в малейшей степени не говорит о какой-либо конъюнктурности этих произведений. Просто памятные даты будили память. Кроме того, старшее военное поколение поэтов в эти годы начало уходить, и он оставался знаковой фигурой военного поколения в целом, одним из тех заслуженных ветеранов (наряду с маршалами и героями Советского Союза), которых накануне праздника Победы осаждают корреспонденты центральных газет и вокруг которых проходят главные юбилейные торжества. Так, в редакцию поэзии издательства «Молодая гвардия», где Николай Константинович работал уже на моей памяти, поздравить его с этим праздником приходило едва ли не больше народа, чем даже с днем рождения. Естественно, что такая эмоциональная нагрузка находила свое отражение в творчестве. Самое известное из его «юбилейных» стихотворений «Два фото» (1988):
Сколько лет прошло с тех пор!..
Но и нынче для беседы
Вдруг заглянет репортер
Перед праздником Победы:
– Показали бы вы мне
Фронтовые ваши фото.
Как жила там на войне
Наша матушка-пехота?
– Как? А вот, родимый, так:
Мы от стужи посинели,
Ну а враг, страшась атак,
Подсыпает нам шрапнели.
И опять бомбит с утра.
И опять ревут моторы…
Нас «снимали» снайпера,
А не фоторепортеры.
Но, пока душа жива,
Веселей гляди, пехота…
Впрочем, есть, осталось два,
Два моих военных фото.
Все припомню, как взгляну
Я на них из дали дальней:
Вот – я еду на войну.
Вот – на койке госпитальной.
Этим стихотворением Старшинов закрывает первый том своих избранных произведений, специально указывая на то, что военная тема является для него важнейшей из всех.
Но не только собственными стихами вписал он свое имя в историю русской батальной поэзии. Когда к сорокалетию Победы в издательстве «Современник» готовили двенадцатитомное собрание произведений о Великой Отечественной войне «Венок славы» – проект по своим масштабам и значимости уникальный, – именно Николаю Старшинову было доверено составление поэтической части издания. Доверено потому, что он являлся одним из лучших в стране знатоков русской поэзии 1940—1980-х годов и, пожалуй, лучшим из них, если обратиться к той ее части, которая связана с военной тематикой. Как вспоминал он сам, работа над составлением «Венка славы» на два года заняла все его время.
Но этим он не ограничился. В те же годы из присылаемых в альманах «Поэзия» стихотворений Николай Константинович составил и пробил в печать, «пользуясь» юбилейной датой, книгу «Поэзия моя, ты – из окопа». Вот что рассказывал о ней сам составитель:
«Восемнадцать авторов, все участники войны: пулеметчики, артиллеристы, медсестра… Это не профессионалы, редко у кого из них есть книги. Но они живут поэзией, она греет им душу. Думаю даже, что как поэты, поэтические имена – они вряд ли состоялись, но у каждого из них есть по десятку-другому стихов, которые не уступят и стихам профессиональным. Считаю, что их слово должно дойти до людей сегодняшнего дня, остаться в будущем. Думаю, что такая судьба будет у стихов недавно умершего ветерана войны Игоря Иванова:
Безусые, почти что дети,
Мы знали в тот суровый год,
Что кроме нас никто на свете
За этот город не умрет…
Эти строчки мог написать только переживший войну человек!»
Добавим от себя: не просто переживший войну, но человек несомненно талантливый. Одно это четверостишие, открытое для читателей Старшиновым, что называется, «томов премногих тяжелей».
Так что в поэтическую летопись Великой Отечественной войны он вписал не только свои выдающиеся строки, но и строки своих фронтовых товарищей, многих из которых никогда не видел в лицо.
Им, товарищам-солдатам, в неисчислимом множестве полегшим на полях сражений, посвятил Старшинов стихотворение, равных которому по пронзительности немного найдется во всей фронтовой лирике:
Зловещим заревом объятый,
Грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи – солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Идут, подтянуты и строги,
Идут, скупые на слова.
А по обочинам дороги
Шумит листва,
Шуршит трава.
И от ромашек-тонконожек
Мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
Для нас они, быть может,
Цветут сейчас
В последний раз.
И вдруг (неведомо откуда
Попав сюда, зачем и как)
В грязи дорожной —
Просто чудо! —
Пятак.
Из желтоватого металла.
Он, как сазанья чешуя,
Горит,
И только обметало
Зеленой окисью края.
А вот – рубли в траве примятой!
А вот еще… И вот, и вот…
Мои товарищи – солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
(«Зловещим заревом объятый…», 1945)
РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Когда он вернулся с войны домой в феврале 1944 года, отца уже не было в живых. В многоголосой когда-то квартире в Грохольском переулке обитали теперь две вдовы: мать и старшая сестра Николая с двумя детьми – его племянниками. Так что долгожданная встреча с родным домом была и радостной и горькой одновременно.
Муж сестры Серафимы, Константин Терентьев, штурман дальней бомбардировочной авиации, погиб, совершая свой 180-й боевой вылет. А ведь он не был даже профессиональным военным: до войны окончил штурманские курсы в клубе Осоавиахима. (Была тогда такая массовая добровольная общественная организация – Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству, – впоследствии преобразованная в ДОСААФ.)
Сама Серафима, отдыхавшая с детьми летом 1941 года в Тверской (тогда Калининской) области у родственников мужа, оказалась на какое-то время в оккупации. (В предвоенное лето там вместе с ними гостил и Николай.) Потом, когда немцев отогнали, Серафима вернулась под отчий кров, где легче было поднимать детей на ноги.
Пришедший из госпиталя Николай уделял племяннику и племяннице много времени, как бы поменявшись ролями с воспитывавшей когда-то его сестрой. Она была занята на работе, бабушка – по хозяйству, а детьми стал заниматься прыгающий на костылях дядя: читал им книги, показывал фокусы, рассказывал про войну. Жили все одной дружной семьей, но трудно: холодно и голодно. Судя по тому, что «дядя Коля вспоминал, как до войны он не любил манную кашу и как было бы хорошо поесть ее теперь», последний раз все они ели досыта именно до войны.
Тяготы существования двадцатилетний «дядя Коля» скрашивал юмором. Племянники и став взрослыми не забыли шутку, вполне отражающую реалии тех лет.
«В это время все продукты выдавались по карточкам, – рассказывает Константин Константинович Терентьев. – И вот однажды, когда баба Дуня пришла из магазина с продуктами, дядя Коля, я и сестра стали помогать бабушке раскладывать продукты по местам хранения. Когда же сливочное масло положили в масленку и осталась одна промасленная бумага, дядя Коля большим пальцем руки собрал остатки масла, сложил пальцы соответствующим образом и говорит: «Вот вам кукиш с маслом».
А однажды у них сгорели сразу все валенки, положенные на ночь в печь для просушки. Мало того, что сами едва не угорели насмерть (хорошо, Николай вовремя проснулся и выгнал всех на улицу), так еще остались в тридцатиградусные морозы без теплой обуви. По словам племянницы поэта, «это была беда, которую, чтобы понять, надо пережить».
Вынужденное безделье тяготило Николая, что отразилось в тогда же написанном стихотворении:
Домой! В Москву!
В Москву! Живой!
А кем теперь ты стал? Обузой.
А абажур над головой
Повис оранжевой медузой.
Не можешь спать – вставай в ночи.
Сжимая свой костыль рукою,
Ходи по комнате, стучи,
Сестру и мать лишай покоя.
И жизнь свою зови пустой…
Но ведь постой,
Постой,
Постой!
Беда не так уж велика.
Зачем себя считать в отставке?
Да мы еще наверняка
И в жизнь внесем свои поправки.
Хромой?
Ну что же, что хромой!
Не все же видеть в худшем свете.
Мы не затем пришли домой,
Чтоб гастролировать в балете!
(«Домой! В Москву!..», 1944)
Бывший фронтовик (как и многие из них) оказался на жизненном распутье. Гражданской профессии у него не было, заниматься физическим трудом не позволяло здоровье.
Перспектива стать обузой для родных выглядела более чем вероятной. Значит, следовало приобретать какую-либо специальность, пожизненная хромота для которой не помеха. Судя по всему, Николай намеревался пойти, по семейной традиции, учиться на бухгалтера, во всяком случае, усиленно начал вспоминать хорошо дававшуюся ему в школе математику. Мысль стать профессиональным литератором, несмотря на овладевшую им уже в полной мере страсть к поэзии (он ходил сразу в три литобъединения: при газете «Комсомольская правда», при издательстве «Молодая гвардия» и при журнале «Октябрь»), как-то не приходила ему в голову. Но здесь сохранившая его от смерти на войне судьба все решила за него.
Еще в школьные годы он часто бывал в доме своего одноклассника Кости Еголина, отец которого, профессор-некра-совед, с симпатией относился к пишущему стихи товарищу сына. Когда, на костылях, в старой шинели и застиранной гимнастерке, Николай зашел навестить школьного друга, Александр Михайлович, увидев его, растрогался (его старший сын погиб еще на финской войне) и, узнав о затруднительном положении бывшего солдата, решил принять участие в устройстве его судьбы. «Вы, Коля, помнится, писали стихи, – сказал он, – почему бы вам не пойти в Литературный, участникам войны – немалые льготы при поступлении…»
Взяв тетрадь со стихами и аттестат зрелости, Николай явился в Литературный институт, где секретарша ректора объяснила ему, что на дворе месяц март, студенты готовятся к весенней сессии и никакие льготы не могут помочь к ним присоединиться. Всякому, кто знаком хоть немного с системой высшего образования, это в общем-то очевидно. Но ждать полгода до следующего набора означало для Николая стать на это время «обузой» – абитуриентам стипендия не полагается.
На его счастье, Александр Михайлович Еголин, помимо того что был профессором-некрасоведом, возглавлял отдел литературы и искусства в ЦК партии. По тем временам, думается, это было покруче, чем портфель министра культуры. Поэтому очевидность невозможности зачисления в институт в конце учебного года для него была вовсе не очевидной. Один его дружеский звонок ректору решил дело: на следующий день Николая зачислили на первый курс. Правда, сдать экзамены сразу за два семестра он не смог, и его «оставили на второй год» – с первого сентября он снова стал учиться на первом курсе уже с новым потоком студентов. Проводить по два года на каждом курсе быстро вошло у него в привычку.
По собственным словам Старшинова, он «был нерадивым студентом и поэтому проучился в институте с 1944 года по 1955 год, почти двенадцать лет», что даже для этого славного заведения долгое время являлось рекордом (который побил-таки потом Евгений Евтушенко, получивший диплом Литинститута лишь через несколько десятилетий после поступления в родную альма-матер: видимо, лавры старшего товарища не давали ему покоя). В дипломе, правда, написали для порядка, что поступил Старшинов в институт в 1951 году. Несколько раз его отчисляли то за неуспеваемость, то за прогулы. Уходил он и по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Потом подавал заявление, и его снова восстанавливали. Зато за это время он, как говорил, «успел побыть однокурсником многих ныне широко известных прозаиков и поэтов», а со многими из них и подружиться.
Но не стоит думать, что такая вольготная учеба сложилась у Старшинова благодаря высокому покровительству. За время его пребывания в стенах института в нем сменилось восемь ректоров – бытовало даже крылатое (в масштабах вуза) выражение: «Директора приходят и уходят, а Старшинов остается!..» Ни один покровитель не стал бы звонить каждому из них ради «нерадивого студента».
Просто Литинститут – не совсем обычное учебное заведение: студентов в нем мало, факультетов нет вовсе – вместо них творческие семинары. В советские времена он принадлежал Союзу писателей, а не Министерству высшего образования, как большинство вузов, потому и порядки там были особые, с поправкой на творческий «контингент». Так что случай Старшинова был и выдающийся и характерный одновременно.
Весьма необычным путем, например, попала в студенты и Юлия Друнина. Когда ее, только что комиссованную из армии, не взяли в Литинститут в середине учебного года (дело было в декабре 1944-го), она самовольно начала посещать занятия и семинары, став студенткой, так сказать, «явочным порядком». Училась она тоже долго, с перерывом в три года после рождения дочери.
Еще более странным образом оказался тогда в Литературном институте Наум Коржавин, которого туда не принимали как «идеологически невыдержанного». Однажды его вызвали на Лубянку, где пожурили за публичное исполнение антисталинских стихов, а заодно и посоветовали учиться. Вышел он из «готического здания ЧК» (строка из его стихотворения), откуда не чаял выйти вовсе, студентом Литературного института. Правда, проучился в нем только два года, после чего был выслан из Москвы в Караганду, где и прожил до всеобщей реабилитации 1954 года. Впрочем, когда вернулся из ссылки с дипломом Карагандинского горного техникума в кармане, «Колятина» (так «Эмка» по-свойски обращался к Старшинову) все еще был студентом.
Учился Старшинов хотя и «нерадиво», но с удовольствием. Ведь преподавали в Литературном институте, вели творческие семинары и учились во все времена люди неординарные. Недаром в своей книге «веселых и грустных» воспоминаний «Что было, то было…» Старшинов уделяет им немало места. Приводит он в числе других и такой эпизод, произошедший в институте в период ректорства Федора Васильевича Гладкова, автора знаменитого когда-то романа «Цемент»:
«…Пожалуй, самым запоминающимся оказался случай, произошедший в День Победы 1945 года.
Отмечая такое великое событие – кончилась война! – Литературный фонд расщедрился и решил дать нам возможность широко отметить наконец-то одержанную полную победу. Нам выдали большое количество талонов на водку, которая в ту пору по коммерческим ценам стоила очень дорого, а по талонам – копейки. А вот талонов на еду не дали.
В результате этого мы перестарались и по-праздничному захмелели. И один из наших студентов после этого зашел со студенткой в кабинет директора да и остался там с ней ночевать.
Когда на следующее утро туда пришла уборщица наводить порядок, она обнаружила на директорском диване эту парочку, прикрывшуюся старой солдатской шинелью. Она созвала народ, свидетелей. Получился скандальный случай…
И вот на следующий день на доске приказов и объявлений мы прочитали: «Студентку первого курса Ф. перевести с очного отделения на заочное, а студента второго курса М. отчислить из института за осквернение директорского дивана»!
Приказ этот несколько дней красовался на доске, вызывая у всех собравшихся возле нее замечательно солнечные улыбки…»
Согласитесь, что студенты не всякого учебного заведения, даже спьяну, пойдут любить друг друга в кабинет ректора. И уж тем более мало в каких заведениях формулировки приказов столь красноречиво точны и художественно убедительны.
Но, конечно, не только подобные этому забавные случаи запечатлелись в памяти «вечного студента» Старшинова. Лекции будущим светилам литературы, как правило, читали настоящие светила науки, о Пушкине им рассказывал Сергей Михайлович Бонди, о Шекспире – Михаил Михайлович Морозов, о древних литературах – Сергей Иванович Радциг, логике учил Валентин Фердинандович Асмус, языкознанию – Александр Александрович Реформатский… Это были образованнейшие и интереснейшие люди, бесконечно преданные литературе, само общение с которыми способствовало «воспитанию чувств» у студентов. Все они давно занесены в энциклопедии как выдающиеся представители каждый в своей отрасли знания.
Так, в связи с С. И. Радцигом Старшинов вспоминает такой анекдотичный, но очень трогательный случай:
«Когда один из студентов, поэт М., «горел» на его экзамене, Сергей Иванович бросил ему спасительную соломинку – задал вопрос, на его взгляд, совершенно простейший:
– Скажите, пожалуйста, многоуважаемый, что было изображено. на щите Ахиллеса?
И когда экзаменуемый студент поэт М. не смог на него ответить, Сергей Иванович разрыдался. Горькие слезы текли по его благородному, изборожденному морщинами лицу, а он вытирал их белоснежным платком, приговаривая: