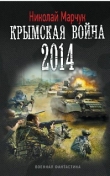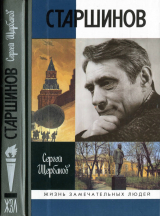
Текст книги "Старшинов"
Автор книги: Сергей Щербаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– Посмотри, прочитай это… Это мне прислал один поэт из (Тамбова, Калинина, Орла и т. д.)…
И начинает рассказывать, что это за поэт…
Или, допустим, звонит он при тебе кому-нибудь по телефону, Константину Ваншенкину, Евгению Винокурову или Евгению Евтушенко, разговаривает с ним, а потом начинает рассказывать тебе что-то об этом поэте, какую-нибудь историю, связанную с ним, и читать наизусть его стихи.
В редакции «Поэзии» был ритуал – пить чай в конце рабочего дня, примерно с четырех до шести часов. С конфетами, карамелью, шоколадом, пончиками, пирожками, ватрушками, миндальными пирожными, бутербродами с сыром и (или) с колбасой, которые Старшинов покупал в столовой издательства специально для этого. А кое-что и сами авторы приносили в редакцию. Он журил их за это, а они все равно приносили. Я, как правило, привозила с собой из Рязани набор индийского чая, зная, что Старшинов не пьет вина и водки (раньше пил, а потом бросил пить, кажется, в 1970 году), и как бы поощряя это.
Старшинов и Красников не отпускали меня домой, пока я не попью с ними чаю. Не то чтобы они насильно держали-удерживали меня за руки и за ноги, но они как-то так строили программу дня, что я не могла уйти из редакции, не попивши с ними чаю.
Мы с Таней Бахваловой или с кем-то из «женских авторов», как сказал бы сейчас Виктор Ерофеев, вытаскивали из углового шкафа, служившего буфетом, разносортные, некомплектные чашки, блюдца, ложечки и сервировали широкий журнальный столик. А около столика ставили кресла и стулья, кружком, по количеству присутствующих.
Старшинов садился в кресло у стены и окна, как вождь племени, он и был вождем младого племени поэтов. Мы – все присутствующие в редакции – садились на другие места, кому какие достанутся. И начинали свое «чаепитие» не «в Мытищах». И при этом вели разные литературные тары-бары-растабары, в свободной форме. Во главе со Старшиновым, который был душой нашего безалкогольного «застолья».
Часто это заканчивалось тем, что Старшинов пел частушки из своей коллекции, наиболее скромные из них:
Эх, кум Пронька,
Гармонь тронь-ка,
А я, кума Фенька,
Попляшу маленько.
И другие частушки он пел, покруче и попикантнее, которые я присылала ему из Рязани по почте и таким образом помогала собирать ему его коллекцию. Например, такие, старинные, солотчинские:
Ох, тительная,
Удивительная,
Удивила ты мене
На постели у себе.
Или:
Мене мать ругая,
И отец ругая.
За что же ругая? —
Растет пуза другая.
Он не просто пел, но и комментировал их, и анализировал как стихи, объяснял присутствующим, чем хороша та или иная частушка, рассматривал ее при всех, при плафоновом освещении, как какой-нибудь камешек-самоцвет, малахит или сердолик, и показывал ее нам разными гранями. Повернет ее одной гранью – и частушка сияет одним цветом и светом, а повернет другой – и она сияет совсем другим цветом и светом.
Потом мы шли к метро, на станцию «Новослободская», как «цыгане шумною толпою», и спускались по лесенке-чудесенке вниз, в зал с волшебно-яркими коринскими витражами, и там расставались…
13–15 мая 2004 г.,Москва
Владимир КРУПИН
Незаменимые есть
Крупин Владимир Николаевич, прозаик. Родился в 1941 году в с. Кильмезь Кировской обл. Окончил Московский областной педагогический институт. Работал редактором на Центральном телевидении, в различных литературно-художественных издательствах, главным редактором журнала «Москва» (1989–1992). С 1994 года преподает в Московской духовной академии, с 1998 года главный редактор православного журнала «Благодатный огонь». Автор более двадцати книг. Широкую известность получили его повести «Живая вода», «Сороковой день», «Прощай, Россия, встретимся в раю», «Великорецкая купель», «Как только, так сразу», «Крестный ход», роман «Спасение погибших». Живет в Москве.
…………………..
Никоим образом я не посягаю на звание друга Николая Старшинова, но то, что долгие годы мы были хорошими знакомыми, ездили вместе, выступали, это было. И я благодарен судьбе, подарившей мне товарищество с таким человеком. Вот привычно говорят, что незаменимых людей нет. А кем можно заменить Николая Константиновича? И думать, и перебирать в уме фамилии бесполезно – он был один такой, будут ли еще такие, Бог весть.
Вспоминаю, как первый раз его увидел. Это было мероприятие в Центральном доме литераторов – отмечалось 20-летие Победы, то есть сорок лет назад. Нам, старшекурсникам литфака, дали пригласительные. Видеть знаменитостей, тех, кого мы «изучали», было душеподъемно. Константин Симонов выступал, Сергей Смирнов, Сергей Наровчатов, Эдуард Асадов, сидела – и все обращали на нее внимание – красавица Юлия Друнина.
Но вот объявили Николая Старшинова. Худенький, говорящий негромко, почти без жестов, без декламации, он запомнился мне особенно. Вспоминал одно сражение, когда он со своим пулеметом держал врага до прихода подкрепления: «И вот, может быть, то, что я не позволил фашистам топтать русскую землю, не пустил их к столице, это и есть главное событие моей жизни». Запомнились и его стихи, особенно о запевале: «Я был когда-то ротным запевалой, / Да и теперь, случается, пою». И вот это, теперь хрестоматийное, когда солдаты идут походом, свершая подвиг спасения Отечества, а под ногами рассыпаны деньги. И никто не наклоняется их поднять: «Здесь ничего не покупают / И ничего не продают».
Конечно, с тех пор я всегда радовался стихам Старшинова и однажды был поражен, прочтя в биографической справке, что он москвич. Вот те на, а я-то был уверен, что он из самой что ни на есть глубинной России. Вот это и есть свершение выражения: кровь от крови и плоть от плоти, в Николае Константиновиче сказались поколения русских людей, строивших державу, крепивших ее мощь, сельские деды и прадеды, деревенская родня, его трогательная любовь к матери.
В поездках Николай был необычайно, я бы сказал, нужен. Его терпимость к дорожным неудобствам, его юмор, сердечность, неприхотливость делали его душой любой бригады. Я даже замечал, что наши капризные «классики», с завышенной самооценкой, избегали ездить со Старшиновым: очень уж они заметны были со своими претензиями на фоне великой порядочности большого поэта.
Помню, в Нижегородской области, в райцентре Шаран-га (кстати, бывшем вятском) нас снимало демократическое телевидение Нижнего Новгорода. В нашей бригаде пьющих не было. Это важно сказать вот для чего: нас принимали очень душевно, нанесли домашней стряпни, солений-варений, весь стол был уставлен напитками. Телевидение нас мучило, особенно Николая Константиновича. Его просили и стихи читать, и на гармошке играть. Хозяева уже не выдержали, просили за стол, ибо уже вносили чашу со свеже-сваренными пельменями. Усадили и телевизионщиков, вот именно они-то в основном и боролись с нашествием разноградусного питья.
На следующее утро смотрим информацию о нашем пребывании. И что же видим? Николай наяривает на гармони, мы за столом, крупным планом бутылки, закуски, опять наши довольные смеющиеся лица. И комментарий: «Хорошо московским поэтам и прозаикам на Нижегородской земле». Мы – Владимир Костров, я, грешный, и особенно Семен Шуртаков – справедливо возмутились. Один Николай смеялся:
– Бросьте, ребята. Пусть их. Это их так Немцов воспитал. Но теперь у нас безвыходное положение: народ уверен, что мы пьем, нельзя обманывать народ, тащите пару ящиков!
Конечно, он, убежденный трезвенник, шутил.
Когда справляли его юбилей, то одно перечисление пришедших в зал его знаменитых учеников заняло много времени. Сколько же душевных и физических сил отдал им наставник! Как он радовался успехам своих подопечных, одного Николая Дмитриева взять! А как он поддерживал и продвигал Прасолова, Жукова, Чикова, Коротаева, Романова, Благова, Решетова, Домовитова, Сухарева… несть числа!
Мы часто говорили, и он любил рассказывать о детстве, о матери, о бабушке:
– Сейчас вернули название Протопоповского переулка, именно здесь я родился, именно здесь, волею судьбы, живу. Был у нас двухэтажный барак на шесть семей. У нас семья большая, пять братьев у меня было, две сестры. Родители малограмотные, а вся подшивка «Нивы», приложение к ней, то есть вся русская классика была в доме. Стихи читали, собравшись. С детства я помнил и знал наизусть Державина, Пушкина, Лермонтова, Алексея Константиновича Толстого, Кольцова, Никитина, Сурикова, а зарубежников! Беранже: «Как яблочко румян, шатаюсь я беспечно. Не то чтоб очень пьян, но весел бесконечно». Гейне: «Но если моих не похвалишь стихов, то развод неминуем!». Читал стихи деревенским мальчишкам. Я каждое лето жил около Сергиева Посада у бабушки, в деревне Рахманово. Там и к рыбалке привык на всю жизнь. «Зато я такого язя сегодня поймал на рассвете!» Меня иногда мальчишки дразнили: «Дачник, дачник!» Вообще изо всех обид в жизни эта была самая обидная. Я чуть не плакал, кричал: «Я не дачник, я тут живу, тут моя бабушка живет!» Очень Блока любил: «Я пригвожден к трактирной стойке…» Мы тогда очень следили за международным положением. Я был мальчишка, четырнадцать лет, немцы вошли в Париж. Сдали им Париж. Я, взяв размер у Блока, написал:
Пускай в опасности Египет,
Я предсказаний не стерплю.
Но мной стакан не первый выпит,
И я в хмелю! И я в хмелю!
Я здесь – не дальше и не ближе.
Пивная – дом, скамья – кровать.
И о поруганном Париже
Не буду больше горевать.
А? Четырнадцать лет. А свой дом, свой переулок я называл потом московским полудеревенским. Меня Вера Инбер весьма критиковала, что я в Москве воспеваю не новостройки, а что-то отыскиваю полудеревенское.
Ходил Николай с палочкой. Мало кто знал, что у него перебиты кости ног, рана всю жизнь сочилась кровью, и он испытывал муки стеснения, когда не было совсем условий ее перебинтовать.
Великий ум, великая душа! Нет, раба Божьего Николая Старшинова никто не заменит. Помяни его, Господи, во царствии Твоем.
Александр ЩУПЛОВ
«Так жили поэты…»
Щуплов Александр Николаевич (1949–2006), поэт, прозаик, критик. Родился в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского педагогического института. Служил в рядах Советской армии. В семидесятые годы работал в альманахе «Поэзия» издательства «Молодая гвардия». Автор книг стихов «Первая лыжня», «Серебряная изнанка», «Переходный возраст», «Повторение непройденного», «Исполнение желаний» и др. Жил в Москве.
…………………..
Говорят, женитьба – замена одной ошибки в жизни на другую. У Старшинова такой ротации ошибок не было. Женщины обожали Старшинова. Неудивительно, что в радиус действия обаяния Николая Константиновича попала и прошедшая фронт и обладавшая прочным, волевым характером Юлия Друнина. За каждой женщиной, достигшей успеха, стоит мужчина, который ее поддерживает, а за ним, в свою очередь, стоят женщины, которые поддерживали его. Женщины всегда поддерживали Старшинова. Его ауре никто из них не мог сопротивляться. Одна-две частушки, какая-то байка про рыбалку – и вот уже на Старшинова глядят широко распахнутые влюбленные глаза.
С Юлией Друниной они разошлись честно и чисто: «Сразу после развода, – рассказывал Николай Константинович, – пошли в ресторан ЦДЛ и отметили развод…» Затем, когда Юлия Владимировна вышла замуж за Алексея Каплера, Старшинов написал чудесное четверостишие. Неоднократно любил его цитировать.
– Сделайте его стихотворением! – советовал я.
– Не продолжается…
И все-таки, кажется, стихотворение было дописано. А для меня оно так и осталось прекрасным четверостишием. Вот оно:
Жизнь моя теперь совсем ясна.
Вышел я на ясную дорогу.
Дочка вышла замуж. И жена
тоже вышла замуж, слава Богу!
Зависть – не самая добрая черта в человеке (если не брать творческую ее ипостась). Конечно же, Старшинов завидовал Юлии Владимировне… точнее, глагол «завидовать» не выражал той сложности отношения его к своей так и не ушедшей любви. Все было сложнее и проще. Во всяком случае, когда Юлия Друнина получила Госпремию, Старшинов мимолетом заметил: «Юля дала с премии Ленке (дочери Старшинова и Друниной. – С. Щ.) деньги на машину». Помолчал. Потом добавил: «Я тоже дал!» Подтекст нес в себе какое-то простодушное детское хвастовство, замешанное на нежном чувстве отцовства: мол, мы и без премий можем помочь!
Вообще отношения Старшинова со слабым полом строились на исключительно благородной основе. В общем-то из представительниц слабого пола ему судьба предоставляла женщин с сильным характером. Вспомним трагическое завершение судьбы Юлии Друниной! Сам же Николай Константинович любил рассказывать о том, как его жена Эмма – белокурая и сногсшибательно красивая литовка – однажды осадила Смелякова: сидели на бережку на рыбалке. У Смелякова, как назло, не клюет. Зато Эмма, которая-то и червяка боялась сама насадить на крючок, вытаскивает одну за другой рыбку! Смеляков сидел, пыхтел-пыхтел про себя, потом не выдержал: «Я, известный поэт, и не могу поймать рыбу! А тут какая-то девчонка тащит из-под носа…» «Если бы Эмма промолчала, – суммировал Николай Константинович итог общения Эммы с классиком, – Смеляков бы относился к ней как к рядовой девчонке, подтверждающей его характеристику». Но не такие были женщины, которых выбирал в жизни Старшинов и которые выбирали в жизни Старшинова. «Чего ты сказал? – заерепенилась Эмма. – Чего ты сказал? Вот сейчас поддам ногой – упадешь в воду, руки не подам!» И Ярослав Васильевич Смеляков замолчал. Нашла коса на камень!
А когда одна сотрудница стала относиться к Николаю Константиновичу с особенной нежностью, Старшинов простодушно посоветовался со мной:
– Может, мне какой-нибудь плохой поступок совершить? Например, булочку в магазине украсть?
– Не стоит, Николай Константинович! Женщины любят жалеть – закормят булочками!
* * *
Блаженность сегодняшнего дня – здравомыслие завтрашнего! В стенах издательства Старшинова звали «Боженькой». Да он и в самом деле был таким боженькой – помогал неимоверно всем и вся. Особенно любил таких же удивительных и светлых людей, коими полна Русь исстари. Конечно, они оказывались поэтами – будь то Новелла Матвеева, или Анатолий Чиков, или Татьяна Сыришева, или Николай Глазков… Глазков был задушевной любовью Старшинова. Его стихи пробивались для альманаха «Поэзия» сквозь все заслоны главной редакции и «несуществующей» цензуры – все-таки издательство было комсомольское! Какой радостью светился Старшинов, когда мы возвращались после очередной битвы в главной редакции «Молодой гвардии» за стихи (не без кукиша в кармане!) Николая Глазкова. Да и только ли Глазкова?! Но Николай Иванович Глазков был нашим кумиром. Помнится его очередной визит в альманах: уши оттопырены, как у царицы Нефертити. Борода всклокочена. Глаза – угли протопопа Аввакума. По пятам идет слава и эхо глазковских четверостиший, бронзовевших на глазах. Мы наизусть знали его непечатавшиеся стихи. Да и как было не знать, если Старшинов на дню по десять раз читал их и нам, и посетителям – вперемежку с частушками, разумеется!
Мне говорят, что «Окна ТАСС»
моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
но это не поэзия!
Или:
Люблю грозу в конце июня,
когда идет физкульт-парад
и мрачно мокнет на трибуне
правительственный аппарат.
Пошли мы с Николаем Ивановичем и Старшиновым в издательскую столовую. Николай Константинович глядел на Глазкова влюбленными глазами. За обедом Глазков рассказал нам о своих успехах в плавании. Если бы ему довелось соревноваться с Мао Цзэдуном в заплывах, убеждал нас Глазков, он бы обогнал великого кормчего. Рассказ сопровождался приемом щей. Сперва Глазков вынул из тарелки вилкой всю капустку с морковкой, а потом выпил пустую жидкость. За компотом он рассказал о съемках «Андрея Рублева», где играл летающего мужика: умудрился упасть в какую-то лужу и сломать ногу…
* * *
Кстати, публикации стихов, подобных глазковским, в глухую пору застоя было делом нешуточным и обоюдоострым, как бритва – та самая, чья плавающая головка, согласно сегодняшней телерекламе, «в точности повторяет контуры вашего лица». Споры в редакции альманаха «Поэзия» кипели нешуточные. Во-первых, спорили оба редактора друг с другом – мы со Старшиновым никак не могли присудить пальму первенства в русской поэзии. Я на дух не переносил Некрасова и противопоставлял ему Ахматову, Старшинов (кстати, знакомый с Ахматовой в бытность свою заведующим отделом поэзии журнала «Юность») отдавал предпочтение Цветаевой. В спорах рождалась истина. Такой истиной стала публикация сразу двенадцати (!) неизвестных стихотворений Цветаевой, включая одно, раскритикованное самим Горьким (со строкой: «Я любовь узнаю по боли всего тела вдоль…»).
* * *
Говорят, счастье – это когда имеешь собственное мнение по обоюдному согласию. В этом смысле Старшинов был счастливым человеком. Его собственное мнение выражалось всегда мягко, а порой и просто заменялось молчанием. Но это молчание было отнюдь не знаком согласия! Когда дело доходило до драки, он был принципиален и не отступал ни на йоту. Так появились в альманахе «Поэзия» стихи метафорика и просто отличного поэта Ивана Жданова, включая знаменитую «Птичку»:
Когда умирает птица,
в ней плачет усталая пуля,
которая тоже хотела
всего-то летать, как птица…
В общем-то на одном из московских совещаний молодых писателей сцепились Ваня Жданов и руководитель «молодогвардейского» семинара Вадим Кузнецов. Ванька полез на рожон – громя всех, кто ему не нравился. А не нравились ему редакторы и издатели, которые его редактировали, но не издавали.
– А все-таки мы тебя напечатаем! – вдруг сказал Кузнецов, наш милый и непредсказуемый – всегда с вывертом на каблуках, в холеной бороде – Вадим Петрович.
– Не верю! – хорохорился Ванька.
– А все равно напечатаем!
Под это дело мы со Старшиновым сразу и предложили в альманах «Поэзия» подборку Жданова. В триста с лишним строк! Пол-авторского листа! И это в то время, когда продвинутая «Юность» (впрочем, такого эпитета тогда еще не было) напечатала у Вани всего-то два стиха. По-моему, даже предисловие заказали Давиду Кугультинову. Тот воспел Ваню в русском слове – и стихи вышли.
Так были напечатаны и две молодые и вспыльчивые статьи Владимира Вигилянского (сейчас он служит в церкви Святой Татьяны при МГУ) о Евтушенко и Вознесенском. Николай Константинович подбирался к реабилитации Николая Гумилёва: как-то услышав по радио выступления патриарха поэтического цеха Николая Тихонова, где проскользнули два-три неплохих слова о Гумилёве (Тихонов ходил в юности в учениках Николая Степановича), Старшинов пытался получить у Тихонова разрешение на публикацию этих двух-трех слов – в качестве предисловия к публикации в альманахе Гумилёва. Не получил!
Если Старшинов влюблялся в поэта – это было на всю жизнь. Колю Дмитриева, как он мне однажды говорил во время чаепития, он ставил выше Рубцова – рядом с Твардовским.
* * *
О работе Старшинова с молодыми поэтами можно (и будут!) писать книги и диссертации. Все мы вышли из старшиновской шинели – и поколение Олега Дмитриева, Владимира Кострова, Евгения Храмова, Владимира Павлинова, Дмитрия Сухарева… И следующее, наше, поколение – Николая Дмитриева, Геннадия Касмынина, Владимира Урусова, Геннадия Красникова, Галины Безруковой, Ольги Ермолаевой, Юрия Полякова, Нины Красновой, Татьяны Веселовой… Семинары проходили задорно, весело, шумно. «Филологические мальчики» не приветствовались (кажется, из таких в старшиновской «тусовке» оказался только я). Нестандартные ситуации подстерегали на каждом углу.
Вспоминается семинар молодых поэтов во внуковском Доме творчества. Поэты разбрелись по номерам своих руководителей, где и проходили семинары. Молодой поэт Володя Ведякин (основатель «смурреализма») попал в семинар к Николаю Константиновичу. Однажды утром, перед семинаром он обнаружил в номере своего руководителя огуречный лосьон, который и употребил в качестве опохмелки. На вопрос Старшинова: «Володя, почему именно лосьон?» – ответил: «Сразу и выпил, и огурчиком закусил!»
В другом семинаре руководитель Владимир Николаевич Соколов обозревал нас, набившихся к нему в комнату, лежа на постели. Слушал стихи, покачивал головой и пил чай – из чайничка (после мы узнали истинное содержание этого сосуда с крышечкой). Потом затянул алешковский «Окурочек» и пригласил подпевать. После каждого куплета поднимал голову и спрашивал нас, семинаристов:
– Кто знает следующий куплет?
В ответ – безмолвие. Выручил Миша Молчанов: допел с руководителем.
Вечером рассказал о ситуации Старшинову. Тот смеется:
– Видел бы Вадим Кожинов своего «тихого лирика» и продолжателя святого дела Фета!
* * *
Николай Старшинов жил в стране, где любят ушами и слуховым аппаратом, где свой крест несут, как ахинею, где светлое будущее могут обещать либо коммунисты, либо священники, где писатели так растворяются в своем творчестве, что могут обходиться без самих себя, где не в своей тарелке всегда вкуснее и где, естественно, самая эрогенная зона – бумажник! А еще он жил в стране, где принимают на грудь, а все равно море – по колено! Это сейчас мы уяснили всей страной, что патриотизм начинается там, где кончается выпивка, и кончается там, где начинаются налоги. А в те годы…
О подвигах Старшинова ходили легенды. Его неоднократно лишали права посещения Дома литераторов – за злоупотребление исконной русской традицией. Администратор Дома литераторов Шапиро был в шоке от некоторых поступков Николая Константиновича. Однажды он захотел изгнать Старшинова из рая, сиречь из ЦДЛ, но Старшинов запел на весь наш «гадюжник»… «Интернационал».
– Прекратите петь! – кричал Шапиро.
– Вам не нравится эта песня? – осведомился Старшинов. Шапиро глотнул сгущающийся воздух…
Другой раз он примчался в «расписной» кабак с намерением пресечь пение Старшинова. Снова не удалось – Николай Константинович пел в дуэте… с самим Ворошиловым.
Олег Дмитриев вспоминал, как группа поэтов завалилась в Дом кино, заложила за воротник. Естественно, начались выяснения отношений (термина «разборки» еще не существовало, как и термина «тусовки»). На улице выяснения отношений продолжались. Старшинов бросался в самую гущу событий. Его выталкивали за демаркационную линию драки, но он снова с упорством лез в битву. Выбежал администратор Дома кино. Он сразу отметил недремлющим оком энергичного Старшинова.
– Гражданин, прекратите драку! – вопил администратор. Старшинов продолжал участвовать в гуще событий.
– Ну, смотрите, – пригрозил администратор, – можете продолжать драться, но в кино вам больше не работать!
– С тех пор я не работаю больше в кино, – завершал за Олега Дмитриева грустную историю Старшинов.
А потом в Ленинграде случилась клиническая смерть Старшинова. Его вытащили с того света. Врач сказал:
– Еще раз выпьете хоть сто грамм…
– Да я прошел войну, – захорохорился Николай Константинович.
– Я сказал, еще сто грамм – и конец! – повторил врач.
И Старшинов завязал. (По моим сведениям, это произошло немного позднее. – С. Щ.) Даже «Байкал» не брал в рот. Зато каждый год в летний день его «завяза» в альманахе «Поэзия» собирались поэты – молодые и классики – и дружно праздновали это событие. Николай Константинович смирно пил «Буратино» и по просьбе общества рассказывал, что же он все-таки успел увидеть во время клинической смерти «там» – на том свете.
* * *
В России каждая Василиса – Премудрая.
Каждый Иванушка – Дурачок.
Произведем рокировочку – и рассыпалась загадочная русская душа!
Цельность натуры Николая Старшинова, его органичная вписанность в квадратуру суматошной жизни делали его магнитическим центром советского социума разной величины. Помогали анекдоты, частушки, байки. Они выпускали пар, устанавливали мосты в некоммуникабельной, а то и насквозь стукаческой среде, позволяли высказывать свое мнение не впрямую, а обиняком, метафорически.
Россия знала о «частушечной» страсти Старшинова, и все неизвестные частушки смело приписывала ему. Частушки спасали. Сборник частушек Старшинова переплели ребята из СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи) в светлый ситчик в голубой – почти незабудки! – цветочек. Всего несколько экземпляров. Потом книжку вывезли в Скандинавию, кто-то издал ее по-пиратски на чужбине. Потом вышел в Лондоне Словарь русского мата. В ней одна частушка отсылала к прозе Виктора Астафьева. Частушка была старшиновская. Когда-то он спел ее Виктору Петровичу – и тот живехонько поставил частушку в свою прозу. Вот она, эта частушка:
Катя кофий попивала
и с Прокофием гуляла.
Катя, Катя, Катенька,
отчего брюхатенька?
То ли от кофия,
то ли от Прокофия?
Как собирались частушки? Однажды в Переяславле после выступления вокруг Старшинова собрались девочки-ткачихи. Стали петь частушки. Николай Константинович посадил за стол секретаря комсомольской организации с алым румянцем во все щеки. Казалось, разорвалась банка с малиновым вареньем и эпицентр взрыва пришелся на самые ямочки на щеках. Да и было от чего краснеть. Старшинов дал комсомольскому секретарю тетрадку и велел записывать частушки, которые ткачихи в фартучках тут же и пели:
Я купила колбасу
и в карман положила.
А она такая б….
меня растревожила…
«Растревожила…» – аккуратно выводила в тетрадке комсомольский секретарь. Было видно, что частушки для Старшинова она записывала с большим удовольствием, чем вела протокол комсомольского собрания.
* * *
«– Хотите, я вас посмешу? – спросила нас литовская поэтесса Виолета Пальчинскайте, – рассказывал Старшинов (дело было в Вильнюсе, куда приехали русские поэты, переводившие литовцев). – В Вильнюсе открыли новый мост, – начинает Виолета свой анекдот. – Идут по мосту американец, русский и литовец. По легенде, чтобы мост стоял на века, надо, проходя по нему первый раз, бросить в воду самое ценное, что у тебя есть. Американец покопался в карманах и бросил в реку золотую зажигалку. Русский раздобыл грязный носовой платок. А литовец сказал: «Самое дорогое, что у меня есть, – мой старший русский брат. Но не могу же я его бросить в воду?!» – И Виолета захохотала», – заканчивал рассказ Старшинов.
Вот так насмешила!
* * *
Полжизни Старшинов проводил на телефоне, обсуждались проекты, читались стихи. Прозвониться Николаю Константиновичу было невозможно.
Звонит в альманах Олег Дмитриев:
– Ребята, никак не могу дозвониться Старшинову – все утро занят телефон. Если он вам в редакцию позвонит, прочитайте ему четверостишие.
Следом шло собственно двустишие:
Уж легче мне у……. в чистом поле,
чем дозвониться Старшинову Коле.
Споры в альманахе стояли с утра до вечера. Конечно, спорили о стихах. Однажды поутру, после веселого вечера в Доме литераторов, звоню Старшинову:
– Николай Константинович, мне вчера в «гадюжнике» такого молодого поэта представили. Откуда-то из-под Рязани. По-моему, гениальный! Я взял у него стихи для альманаха.
– Читай!
Начинаю читать – одно стихотворение, второе… На третьем из трубки летит изящный матерок:
– Что за графомания?!
Отвечаю по книге, которая у меня перед глазами: Сергей Есенин, огоньковское собрание сочинений, четвертый том!
Так завершился наш спор, был ли Есенин мастером стиха. Правда, никто никого не убедил. И споры продолжались с утроенной энергией.
* * *
Искусство – ремень на штанах общества, независимо от толщины задницы. В пору нашей молодости все телодвижения критиков сводились к поддергиванию этого ремня. Хотелось большего. И изобрел я литературное движение – «социалистический сентиментализм». Чем хуже «смурреализма» Володи Ведякина или метафоризма Вани Жданова?! Стал агитировать в ряды. Старшинов спел в ответ очередную частушку. Кажется, такую:
Запевай, моя родная.
Мне не запевается.
На……. я с платформы —
рот не разевается.
В редакцию зашел Владимир Соколов. Старшинов указал глазами на Владимира Николаевича: мол, вот тебе готовый «соцсентименталист»!
– Владимир Николаевич, – вежливо подступился я. – Как вы относитесь к тому, чтобы стать лидером… нет, знаменем нашего движения – «социалистического сентиментализма»?
Соколов вытаращил грустные глаза:
– На фиг-на фиг, Саша. Пишите к себе Щипачева!
* * *
Приятнее всего жить вчерашним днем с завтрашней модой. Семидесятые годы позволяли это проделывать с лихвой. Инициируя бум Николая Рубцова, Вадим Кожинов 282 организовал в Малом зале Дома литераторов вечер памяти вологодского поэта. Пришли друзья, сокурсники, единомышленники – с разных берегов. Мы со Старшиновым и Таней Чаловой примостились в последних рядах зала (помнится, Таня в то время уже готовила в «Молодой гвардии» первую объемную книгу Рубцова «Подорожник»). Выступает Евгений Евтушенко. Блестяще! Воспоминания идут в ногу с четкими крамольными формулами. Шаг в шаг!
– Если ко мне в Доме литераторов кто-нибудь подходил сзади, – говорил Евтушенко, – и закрывал глаза ладошками, как это делают дети в игре, я знал – Коля Рубцов…
– Интересно, – размышляла вслух Таня, – как мог Рубцов закрыть глаза Евгению Александровичу ладошками – он был в два раза его ниже.
Старшинов прокомментировал:
– А Евгений Александрович, зная, что подходит Рубцов, предусмотрительно пригнулся…
* * *
…Как жаль, что во всякой живой воде смысл выпадает в мертвый осадок…