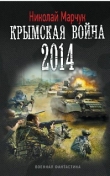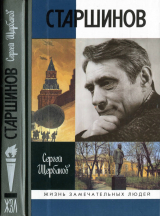
Текст книги "Старшинов"
Автор книги: Сергей Щербаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Владимир БРОВЦИН
Бровцин Владимир Викторович, директор рыболовно-спортивной базы «Медведица», расположенной на одноименной реке, притоке Волги. Родился в 1956 году в Москве. Учился в Институте нефти и газа им. Губкина, работал программистом. В октябре 1977 года в связи с болезнью отца, тогдашнего директора базы «Медведица», уехал из Москвы к нему в Тверскую область. Работал на базе спасателем, плотником, администратором. Последние пятнадцать лет, после выхода отца на пенсию, руководит ею.
…………………..
Старшиновка
Ко мне на Медведицу Николай Константинович редко приезжал неожиданно. Мы переписывались, и я знал, чем он живет и над чем сейчас трудится. Знал, что каждой весной, устав от бесконечной московской суеты и дождавшись долгожданного тепла и открытой воды, он ищет возможность засесть, наконец, где-нибудь с удочкой, отдавшись любимой страсти – рыбалке.
В ту весну я приехал по делам в Москву. Мы созвонились и договорились о дне поездки. И вот уже везет нас электричка, а затем автобус на север, за Волгу. О чем-то говорим, а сердце ждет: уже скоро, скоро вновь увидим любимые наши места. И вот мы в Неклюдове. Садимся в моторную лодку – и вперед по Большой Пудице на Медведицу, на рыболовную базу.
Наскоро попив чая, отправляемся на рыбалку. Быстрыми гребками веду лодку – Боровик, Пудица, Костин бор, Акатовский плес, масса маленьких заливчиков и бухточек, коих на Медведице не счесть. Пока плывем и определяем место лова, Константинович рассказывает о семинарах и студентах, о новых частушках, о знакомых и незнакомых мне людях и, конечно, о своих планах. Планов в голове Константиновича всегда неимоверно много. Но разговор продолжается лишь до начала рыбалки. Как только я ставлю лодку на якорь, мы забрасываем удочки и затихаем. Поплавки покачиваются на глади реки, а вокруг разлита тишина; лишь звуки текущей воды да с ближней опушки леса доносится бормотанье тетеревов.
Вот дрогнул и пошел под воду поплавок на удилище Константиновича. Подсечка – и первая рыба уже бьется на крючке, а затем оказывается в нашем садке. «С открытием сезона поздравляю Старшинова!» – говорю я почти стихами. Он прищуривает глаза, слегка заметная улыбка трогает его лицо, и голосом с чуть заметной хрипотцой отвечает: «Ни-че-го, ладная плотва попалась». И вновь червяк на крючке отправляется в воду.
Весной рыбу приваживать ни к чему, выбрал правильно место и все – клев обеспечен. Константинович первый начинает шутить: ядреные частушки по поводу, едкие рыбацкие замечания, реплики в случае удачи или, наоборот, при сходе рыбы. Все как всегда. Вот уже и солнце покатилось по небу в сторону березового острова – первый рыбацкий весенний день заканчивается. Садок забит почти под завязку. Больше плотвы, но есть в улове и неплохие окуни. Назад к дому гребу не торопясь. Когда выходим на берег, уже темнеет.
Присели на лавку. Недалеко, в прибрежных кустах, раздался странный звук: вж-ж-жик, вж-ж-жик – и так без перерыва. Константинович спросил: «Что за пичуга?» – «Не знаю», – ответил я. Посидели, послушали еще. С редкими перерывами птица вела свою однообразную ноту: вж-ж-жик, вж-ж-жик. «Вот засаживает!» – засмеялся Старшинов. Мы ушли в дом, поужинали, решили сыграть «вариант» (игра в подкидного дурака по правилам Старшинова – Кострова: до десяти побед одного из участников), – а за открытым окном без устали «трудилась» неизвестная пичуга. Наконец мы улеглись спать да так и заснули под ее, мягко говоря, не совсем мелодичное пение.
На следующий день за рыбацкими хлопотами о птице забылось, но вечером все повторилось снова. Константинович даже пошутил: «Прямо как я: ночами только и трудится».
Вскоре после своего отъезда Старшинов прислал мне книгу о птицах. Я прочел ее от корки до корки, но «нашей» не нашел. И сам Константинович позднее говорил, что узнавал у друзей и знакомых о странной «медведицкой» пичуге, но ни один из предложенных ими вариантов названия птицы к нашей гостье не подходил.
Спустя год, весной, так же рано Старшинов вновь приехал на базу. Обнялись, поздоровались, и один из первых его вопросов был о птице: «Ну как, прилетела, вжикает?» «Да нет, вроде не слышал», – ответил я. Однако в первый же вечер после его приезда она дала о себе знать. Когда мы услышали уже знакомое до боли «вж-ж-жик, вж-ж-жик», улыбнулись не сговариваясь и пошутили по поводу редкостного «трудолюбия» и постоянства птицы. А она вела свою песню все громче и яростнее.
А через некоторое время (не помню, кто сказал это первым) диковинную нашу пичугу рыбаки окрестили «старши-новкой». Мол, как приедет Константинович на базу ранней весной, так и птаха наша уже на месте. Никто потом больше не стал вдаваться в ее «родословную», и вот уже больше пятнадцати лет ранняя весна начинается у нас с прилета «старшиновки». Многие рыболовы уже и не шутят, а просто спрашивают, приезжая на базу: «Володя, а «старшиновка» уже завела свою песню?» Я обычно отвечаю: «Вот вечером и послушаем…»
Боровик
Старшинов не очень любил ловить в жару, а тут его приезд пришелся на начало лета. Он сказал, что сильно выдохся, устал: студенты его семинара защищали дипломные работы, в издательстве тоже запарка.
Солнце палило нещадно, было душно даже с утра. Отсидев, однако, утреннюю зорьку на «сиже» (место, где заранее подкармливается лещ), Константинович попросил: «Махнем куда-нибудь в глушь, где волна поменьше и моторки не снуют без конца». Мест таких на Медведице было несколько, 208 но я впервые предложил поехать на Боровик. Боровиком у нас называется место, где в Медведицу впадает речка Чернавка, потому что там на высоком правом берегу стоит столетний сосновый бор.
На входе в речку малявочником я наловил малька: решили поискать окуня. Признаться, так далеко на лодке по Чернавке я и сам еще не забирался. Мы прогребли сначала два, потом три километра. Ловили в разных местах, окунь шел, но хотелось плыть дальше. Речка начала сужаться, и наконец мы заплыли так далеко, что одно весло стало задевать левый берег, а другое – правый. По пути обнаружили две бобровые хатки, деревья здесь практически смыкались над головой. «Как здесь удивительно тихо, – произнес Константинович, – мне подобные места ближе, чем широкая река, здесь больше похоже на речку моего детства».
В одном из бочагов нам повезло: удалось выудить с десяток очень крупных окуней. Попался и щуренок, который тут же был отпущен на волю. А окуни были хороши, только совсем без своих обычных ярких зеленых полос – практически черные. «Отчего?» – поинтересовался Старшинов. «А вода здесь темная, с болот стекают ручейки, как кофейная гуща, да и хвои сколько понасыпано», – сделал я предположение.
День клонился к вечеру, мы выбрали сухой бережок и, решив передохнуть, размять ноги, вышли на него. Побродили по лесу, а затем на полянке рядом с речкой развели небольшой костерок. Константинович присел, достал из кармана неизменную «Новость» и закурил. Затем поведал мне о скором завершении его сказки-пьесы «Леснянка и Апрель» и поделился новой задумкой: «Знаешь, Володя, я в литературе всю жизнь, встречался с достаточно известными людьми, много всего накопилось, теперь вот хочу книжку написать об этом».
Книга такая вышла, правда, нескоро, под названием «Лики, лица и личины». Многое из того, что прочел я потом в этой книге, было мне известно из рассказов Старшинова. Такая за ним водилась привычка – проверять на друзьях находящиеся в работе вещи. Выслушивая различные мнения, он часто в них что-то переделывал. Так же было, например, и с книгой «Моя любовь и страсть – рыбалка».
Заканчивая разговор, Старшинов признался: «Ну вот, зарядился я у тебя на Медведице, душой отошел. Теперь пора и за дела, хватит еще сил повоевать в столице». Всю обратную дорогу он шутил, сыпал частушками, видимо, подбадривал меня как гребца, чтобы веселее греблось. Когда уже подплывали к базе, сказал: «А окуни на Боровике хороши! Следующий раз приедем с Володей Костровым – и сразу сюда?» – «Обязательно, – ответил я, – только приезжайте пораньше».
Добравшись до дома, сели обедать и ужинать заодно. Моя мама хлопотала вокруг стола, стараясь угостить Константиновича всякими вкусностями. А он в очередной раз приговаривал: «Анна Ивановна, не суетитесь так, для меня главное – горячее, это, видимо, еще с детства, могу не стесняясь и дважды в день первое покушать». А потом, обращаясь ко мне: «Володя, ты не представляешь, до чего надоели всякие полуфабрикаты и вечные бутерброды. Я с удовольствием ем любую деревенскую стряпню».
Утром я проводил его на рейсовый катер. Прощаясь, Константинович сказал: «Однако осенью на щуку жди, приеду. Меня, правда, Глеб Паншин зовет осенью на Оку. Да мы его налимами заманим медведицкими – не устоит Глебушка налима половить. Заодно посоревнуемся: кто – кого!»
Николай ДМИТРИЕВ
Вспоминая Старшинова
Дмитриев Николай Федорович (1953–2005), поэт. Родился в с. Архангельском Рузского р-на Московской обл. Окончил Орехово-Зуевский педагогический институт, долгое время работал учителем русского языка и литературы в г. Балашихе Московской обл. Автор книг стихов «Я – от мира сего», «О самом-самом», «С тобой», «Тьма живая», «3 000 000 000 секунд» и др. Любимый ученик Н. К. Старшинова. Жил в Москве.
…………………..
С Николаем Константиновичем Старшиновым я познакомился в 1974 году в коридоре издательства «Молодая гвардия». Кто-то посоветовал мне отнести стихи в альманах «Поэзия», и я, без особой надежды, отправился туда. Кое-где я уже тогда напечатался, но по отношению к литсотрудникам у меня сложилось очень определенное мнение: они больше заняты собой.
Но этот сухонький, слегка прихрамывающий темноволосый человек почти мгновенно это мнение перечеркнул. Он уже познакомился, оказывается, с моей рукописью (я принес ее в альманах за два дня до встречи), тут же усадил меня за редакционный стол и занялся построчным разбором.
– Давайте сравнение «точно» заменим на «словно», а то похоже на «так точно!» – с добродушнейшей улыбкой, упреждающей саму возможность даже легкой обиды со стороны незнакомого ему человека, произнес он.
Первое впечатление от встречи потом подтверждалось постоянно. Старшинов оказался тактичнейшим, тонко чувствующим собеседника человеком. Он органически не мог обидеть кого-либо (за редкими исключениями, но об этом позже).
А его обижали очень часто. Причем даже люди, его боготворившие.
– Какой вы замечательный человек! – слышалось со всех сторон.
– Что бы вам такое хорошее сделать?!
А сделать надо было немногое: похвалить какие-то его стихи, строчки. Он тогда просто расцветал.
Старшинов получал маленькие, но больные уколы постоянно.
– Так вы муж Юлии Друниной?! – восклицало очередное окололитературное существо. – Вот это да!
Конечно, Друнина была известнее Старшинова. Ее стихи, очень эмоциональные, очень доступные, с точными лирическими формулировками завоевали огромную аудиторию.
Привлекали ее бескомпромиссность, узнаваемость в каждом стихотворении. Даже верность одной теме (что служило пищей для пародистов) шла ей на пользу.
Но надо принять во внимание и то, что она одна-единственная женщина среди поэтов, участвовавшая в боевых действиях (в качестве санинструктора). К тому же, в отличие от знаменитой кавалерист-девицы, обладала удивительным женским обаянием.
Уколы Старшинов получал даже от гостиничных горничных:
– А вы не тот ли Старшинов, знаменитый хоккеист?
Старшинов улыбался, вяло отшучиваясь.
Он считал свою первую книжку стихов не совсем удачной и видел в этом причину выпадения своего имени в послевоенные годы из фронтовой поэтической «обоймы». И это при том, что некоторые его стихотворения, написанные им еще в годы войны, почти мальчиком, являлись классикой военной поэзии («Ракет зеленые огни…» и др.).
Пышно расцвела и привлекла к себе всеобщее внимание так называемая «тихая лирика». Старшинов не прошел, так сказать, и по этому департаменту, хотя у него много прекрасных стихотворений о русской природе, о деревне.
В стихотворении «Иду, ничем не озабочен…», как в зародыше, явилось многое из того, что сделалось сутью феномена «тихая поэзия»: «углубленный звук», по определению Егора Исаева, высокая духовность и глубоко национальное, очень русское мировосприятие.
Это стихотворение совершенно по звуку, по интонации, оно – из тех, что можно перечитывать всю жизнь, находя все новые и новые точки соприкосновения со своей душой. Во всяком случае, для меня – это так.
Старшинов любил природу среднерусской полосы самозабвенно.
Вот он собирается на рыбалку, на свою любимую речку Медведицу, что в Тверской области.
Домашние, как это часто водится, не очень любят такие отлучки, но противодействовать старшиновской страсти не в силах.
Николай Константинович поспешно собирает все, что необходимо для рыбалки, очень хочет побыстрее улизнуть из роскошной московской квартиры с креслами, обтянутыми натуральной кожей, с дверью в цветных витражах.
В нем осталось что-то очень деревенское, хотя большую часть жизни он провел в столице. На рыбалку собирается так, как Алеша Бесконвойный из одноименного рассказа Шукшина собирается топить баню: каждое движение любовно продумано, исполнено особого значения. Наконец выходим на улицу, едем на Савеловский вокзал.
Проводница с недоверием вертит старшиновское удостоверение инвалида Отечественной войны. И правда, Старшинов очень моложав. Мне это слово вообще-то не нравится. Молод, просто молод!
И женщины молодые на него заглядывались.
– Это мне внимание уделяется за всех, кто погиб на фронте. Нас же, с 24-го года, три процента в живых осталось, – полушутя-полусерьезно не раз повторял он.
На реке Медведице нас встречает хозяйка Дома рыбака, Анна Ивановна Бровцина. Старшинов давным-давно и навсегда приклеил к ней литературный ярлык: комендантша Белогорской крепости. Точнее не придумать. Анна Ивановна распорядительна и иногда добродушно ворчлива. Старшинова боготворит. Ни от кого не терпит ни малейшей критики в его адрес. Более того: одного гостя, которого она немножко подозревала в вольнодумстве по отношению к старшиновским достоинствам и добродетелям, она спровоцировала примерно таким вопросом:
– Ведь правда, что Николай Константинович – ангел?!
– Да, конечно! При том, что какие-то недостатки есть у всех…
Только этого гостя в Доме рыбака и видели! Больше он приглашения не удостоился.
Было к Старшинову и фанатичное отношение, и любовь со стороны самых разных людей, и глубокая привязанность. При нем все старались быть лучше. В этом, я думаю, главная загадка его обаяния.
….В пять утра выходим на лодке рыбачить. С неба, касаясь воды, свисает борода молочно-розового тумана. Звуки передаются по воде на сотни метров: можно переговариваться с рыбаками у противоположного берега, не повышая голоса.
Ловим на кружки. Кружок – это круглый пенопластовый поплавок с живцом, небольшим карасиком. Кружки мы отправляем в свободное плаванье. Они с одной стороны белые, с другой – оранжевые. Если кружок перевернулся – значит, там уже сидит щука. Ее надо еще умело подсечь – потянуть руками прямо за леску. Точнее, чуть дернуть, а уж потом осторожно потянуть.
Старшинов заставляет сделать это меня, рыбака начинающего. У меня не получается, щука сходит, блеснув в глубине чешуей.
Жалко невероятно! И стыдно перед учителем. Старшинов непреклонен:
– Подсекай еще одну. Учись!
В конце концов я упускаю еще три щуки и уже наотрез отказываюсь портить рыбалку.
Подсекает Старшинов – и в лодку шлепается семикилограммовая хищница, «младшая сестрица крокодила», как написал поэт Борис Корнилов.
Старшинова иногда спрашивали:
– Вы, наверное, ловите рыбу и стихи сочиняете?
– Нет! Я, когда ловлю, отдыхаю и головой. Просто наслаждаюсь тишиной.
Рыбалка для него – отдельный мир, сказочный, заповедный. Он даже не брился, когда отдавался этой страсти.
И все же нет-нет, да обращался к литературной жизни:
– Вот думают некоторые, что Некрасов – это что-то хрестоматийно-простенькое. А ведь у него Блок учился! «Помнишь Бозио? Чванный Петрополь не жалел для нее ничего. Но напрасно ты кутала в соболь соловьиное горло свое». Это же поздний Блок – по звуку, по интонациям.
Старшинов, как и Некрасов, любил играть в карты. Некрасов был заядлым ружейным охотником, Старшинов – рыболовом. Я думаю, Старшинов и как редактор приглядывался к опыту Некрасова. Николай Константинович, при том, что он был традиционалистом, не терпел модернистских вывертов, был терпим к поэтам, далеким ему по стилю, по художественному мировоззрению.
Он очень любил Леонида Мартынова, ценил творчество Ивана Жданова. Он открыл мне Николая Глазкова, Анатолия Чикова.
Его размышления о литературе отличались необычайной взвешенностью, отстоенностью, выверенностью.
Я поначалу не понимал, почему он жалеет Евтушенко. Евгений Александрович вроде бы в жалости не нуждался: огромные тиражи, миллионные аудитории, известнейшие песни. Нет ли здесь какой-то позы или, прости меня Боже, зависти?
– Он так запутался, столько написал лишнего!
И ведь правда! Сейчас это очевидно.
Старшинов увлеченно бросался в литературную борьбу. Известно его противостояние с Цыбиным. Образовался кружок цыбинцев и старшиновцев. Что-то вроде гвардейцев кардинала и мушкетеров.
Про себя я называл Старшинова «дедом Тревилем». Эта борьба началась не с расхождения во взглядах на поэзию. Старшинов придавал огромное значение личным качествам писателя, не прощал мелкие, подленькие поступки, ловкачество. Другие грехи мог простить.
Однажды в Центральном доме литераторов я увидел цыбинцев, сидящих за одним столиком и славословящих Учителя. Мне захотелось их осадить. Я подсел к ним и предложил:
– Назовите хоть несколько строчек вашего Учителя.
В ответ – смущение и гробовое молчание, а потом – возмущение. Ясно было, что объединяли их интересы, далекие от высокой поэзии. А мы стихи Старшинова знали наизусть.
…Я иногда смотрел на Старшинова – и он мне казался человеком не только нашего времени. Он и правда связал, можно сказать, целые эпохи. Он воевал с пулеметом «максим» – с чапаевским пулеметом! Он был знаком с возлюбленной Маяковского! Он помнил горькие плоды коллективизации. Я знал людей старше его, но необыкновенная старшиновская памятливость на людей и события словно бы увеличивала его возраст, уводила его корни глубоко-глубоко.
Он полемизировал с Аксаковым о тонкостях рыбной ловли, как с современником, он ставил в пример вечно странствующего Пушкина молодым поэтам, проводившим лучшие годы в чаду цэдээловского буфета.
Работоспособность его была удивительной. Он отвечал, по-моему, на все письма.
Римма Казакова призналась мне:
– Я бы тебе не стала отвечать, если бы не пример Старшинова (я в семнадцать лет послал Казаковой четыре стихотворения и записку, которая ей не понравилась несколько жалобным тоном. – Н. Д.).
Спал Николай Константинович в среднем четыре часа в сутки! У него была способность оставлять светлую память о себе при жизни. Помню, мы с женой приехали на Медведицу без него, и я припоминал каждое его слово, каждый шаг.
Сейчас, когда уже прошли годы после смерти Николая Константиновича, Володя Бровцин, сын хозяйки Дома рыбака, бродит по берегу Медведицы, как по старшиновскому музею, бормоча его стихи, вспоминая каждый жест, каждое слово.
Счастливая судьба!
2004 г.
Григорий КАЛЮЖНЫЙ
Рота Старшинова
Калюжный Григорий Петрович, поэт. Родился в 1947 году в г. Макеевка Донецкой обл. Окончил Кировоградскую школу высшей летной подготовки. Долгое время работал штурманом гражданской авиации на внутренних и международных авиалиниях. Автор поэтических сборников «Разбег» (1976), «Грозы» (1982), «На встречных курсах» (1986), «Зона ожидания» (1989), «Открой поэта» (1991). Живет в Москве.
…………………..
Впервые я увидел Николая Константиновича Старшинова весной 1974 года на литературном празднике в Кутаиси. В ряду маститых поэтов он торопливо, чуть ли не скороговоркой, прочел свое стихотворение: «Я был когда-то ротным запевалой…» Вероятно, на этом и закончилось бы мое с ним знакомство, но вечером того же дня для «подающих надежды дарований» был организован конкурс одного, обязательно короткого, стихотворения. Я прочел стих, воплотивший настроения моего послевоенного детства:
Мне безымянная приснилась высота.
Гудят шмели, ромашки расцветают,
Я – лейтенант. Моя душа – чиста,
Со всех сторон нас молча окружают.
. . . . . . . . . .
Мне повезло: вокруг меня бойцы
Годятся мне по возрасту в отцы.
Идет по кругу щепоть самосада,
Они спокойны. Им речей – не надо.
Не надо им о долге повторять,
Перечислять тяжелые утраты…
Ничем нас у России не отнять.
Спасибо ей, что мы ее солдаты.
Председателем конкурсной комиссии был известный грузинский писатель Нодар Думбадзе, поначалу встретивший выступление молодого ленинградского пиита весьма приветливо. Однако по мере моего чтения его лицо почему-то стало резко мрачнеть, а на заключительные строки он и вовсе отреагировал откровенно враждебным взглядом. Почему?! После конкурса я с немалым удивлением узнал от местных литераторов, что прочитал верноподданнические стихи, которых-де русские поэты (Пушкин, Лермонтов, Есенин) никогда не писали. Моих возражений они не принимали. Свидетелем нашего спора оказался Старшинов. Видя мою затравленную отстраненность от всех участников торжества, он подошел ко мне и с почти озорной веселостью посоветовал не расстраиваться, а, наоборот, радоваться тому, что на меня не навесили ярлык шовиниста. Стыдно признаться, но я не понимал значения слова «шовинист» и попросил его объяснить. Старшинов внимательно, как бы испытующе посмотрел на меня и вдруг так расхохотался, что к нам стали подходить, думая, что мы травим анекдоты.
Тогда же, в Кутаиси, он попросил у меня подборку стихотворений и тут же устроил их разбор. Особенно заинтересовал его опубликованный в журнале «Аврора» незадолго до этого «Сом». Похвалив его, он никак не мог согласиться с некоторыми неточностями приемов ловли сома на удочку. Я возражал: «Вы поймите, Николай Константинович, я не о соме писал, а о себе – десятилетнем подростке, который никаких рыболовных наставлений не читал, пользовался исключительно слухами. Вы говорите, что сом на подмасленное тесто не ловится, но ведь у меня он и не клюет на эту наживку». «А потом, – не сдавался Старшинов, – у вас годовалый сом, размером дай Бог с ладошку, и вдруг «шатает берега»?! Кто в это поверит?» Я объяснял, что в стихотворении описана не реальность, а состояние мальчика, проведшего на берегу лесной реки, в одиночку, не одну ночь среди пугающих шорохов и звуков, там ведь и гадюки водились, было страшно, а у страха глаза велики, вот и сом показался огромным!..
Я вернулся в Ленинград в полной уверенности, что убедил своего неожиданного доброжелателя из числа московских литературных тузов. На этом наши отношения со Старшиновым по моей вине прервались. Дело в том, что обстановка в 205-м летном отряде, где я работал в то время штурманом самолета ТУ-104, была чрезвычайно напряженной, и не только из-за нехватки штурманов. Годом ранее, впервые в истории «Аэрофлота», был совершен вооруженный захват авиалайнера как раз из нашего отряда. За ним последовала целая серия захватов. Один из них (Сухумский) памятен мне тем, что в нем, как нам доложили на разборе полетов, участвовал сын известного писателя Думбадзе… Никаких сообщений в печати об этих трагедиях не было. Их замалчивание объясняли нежеланием травмировать психику пассажиров. Нас же, летчиков гражданской авиации, изначально отобранных по признаку антистрессовой психики, это, естественно, не касалось, но мы давали подписку о неразглашении. Наряду с этим выявилась еще одна трагедия, о сокрытий которой я подписку не давал. Она имела прямое отношение к моему сближению со Старшиновым в дальнейшем. Так совпало, что тогда же громкий и очень авторитетный в Ленинграде писатель Федор Александрович Абрамов, защитник деревенской России, в запале публично призвал меня сосчитать сверху, сколько погибает в России сел и деревень. Сличая наличие населенных пунктов с полетной картой 1947 года больше для очистки совести, нежели всерьез, я неожиданно пришел к ошеломляющему выводу, что они ежегодно гибнут не десятками, не сотнями, а тысячами! В печати же вообще об этом не говорилось. Мои попытки хоть как-то осветить эту тему тоже не имели успеха. Я стал доказывать, что мы живем в аварийном мире, где никто ни за что не отвечает. В ответ меня обвиняли в провоцировании паники, ибо «стремительное сокращение сельских поселений в условиях научно-технического прогресса – явление всемирное, вполне закономерное, нормальное» и т. д. Подобные обвинения были отнюдь не безобидными, поскольку тот, кто выступал против нормальных явлений, естественно, попадал в разряд ненормальных. Меня вполне могли списать с борта на землю с известным диагнозом. Стремясь защитить себя от подобной перспективы, я подал заявление о приеме в Союз писателей, но, несмотря на солидные рекомендации, мою кандидатуру отклонили. Было отчего затосковать. И вдруг от Старшинова пришло письмо. Он писал:
«Дорогой Григорий!
Антологию я собрал полностью, а все-таки работа над ней продолжается.
Я возвращаюсь к Вашему «Сому». Рыбаки надо мной смеются, и действительно, даже по рыболовному справочнику, который мне пришлось открыть, сом лишь на пятом году жизни достигает 1000 гр. (1 кг) веса. А у Вас «годовалый сом» уже вовсю обрывает лески (у него в губе три (!) «оборванных крюка»), а потом, когда Вы его отпускаете, он идет по речной протоке, «шатая берега»! Глыба! А в годовалом соме, дай Бог, 200 гр. Дальше – «подмаслив тесто», Вы ловите сома. Но он на тесто никогда не берет. Ему нужны рыба, лягушка, кишки птиц, мясо – словом, животная насадка, а не растительная.
Я предупреждаю Вас – лучше уберите срочно это тесто и сделайте возраст сома неопределенным. Иначе, когда будет читать редколлегия (а в нее входят два старых рыболова С. В. Смирнов и В. В. Дементьев) и сделает свои замечания (а тогда уже будет поздно исправлять), я даже не смогу им ничего возразить, ибо они будут правы. Придется «Сома» снимать, а без него Вы будете выглядеть очень худо… И вообще в подобных случаях точность не мешает. Ведь стихи будут читать и еще сотни людей, понимающих в рыбалке, и будут смеяться над нашим неведением… Зачем?
Всего Вам доброго.
Н. Старшинов 2/V—78 г.»
Я был обрадован, что Старшинов не только не забыл обо мне, но даже хлопотал о моем присутствии в анатологии! С другой стороны, меня огорчили его замечания, почти дословно совпадающие с прежними. В ответном письме я отказался внести предлагаемые правки и решил, что после этого он уже наверняка поставит на мне крест.
Летом того же 1978 года я был переведен в Москву и стал летать за рубеж. Прощаясь, мой командир по-отечески посоветовал мне не торопиться афишировать свои наблюдения по наличию селений «у них» и у нас. Я понял, что меня отстояли ленинградские летчики. И это в то время, когда среди перебежчиков за границу деятели от искусства были не редкостью! Постепенно, во время полетов на Запад, выяснилось, что там сельские поселения, несмотря на «планетарность научно-технического прогресса», никуда не исчезают. Так расстаяли все мои сомнения в том, что стремительное сокращение сел и деревень в России имеет запланированный характер. Нужно было бить в колокола! Однако меня в Москве не только печатать, но даже и выслушать толком не хотели. Однажды я заявился в журнал «Юность», где зав. отделом поэзии был Натан Злотников. Он-то и отфутболил меня к Старшинову: мол, сельские трели аккурат по его части. А к нему как раз мне идти меньше всего и хотелось. Ведь ни одной строчки из моих стихов он так и не опубликовал. Что же навязываться?
Однако в издательство «Молодая гвардия» я все-таки пошел, поскольку в нем имелись и другие издания. И там, у самого входа, нос к носу столкнулся со Старшиновым. Он пригласил к себе. Когда мы вошли в редакцию возглавляемого им альманаха «Поэзия», я невольно попятился – так много было там народа. «И все они к вам?!» – «Ко мне», – весело ответил Старшинов. «Ну, тогда я пошел». – «Почему?» – искренне удивился он. «Как почему? У вас тут как минимум сто человек – целая рота!» – «Ничего, будете сто первым», – сказал он с улыбкой, в то же время подталкивая меня в свой кабинет как бы вне очереди. Не успел Старшинов усадить меня, как в дверь буквально ввалилось несколько человек и он вполне естественно переключился на них. Только они ушли, вошли новые. Константинович молча развел руками – мол, подожди, и до тебя очередь дойдет. Но она все не доходила. Несколько раз он давал мне стихи своих посетителей и спрашивал мнение. Это были довольно беспомощные опусы, однако Старшинов, против моего ожидания, так никого и не отфутболил. Более того, он сидел в кабинете до тех пор, пока не переговорил с каждым, включая меня. Я говорил ему о гибели деревень второпях, поскольку было уже довольно поздно. К тому же его заместитель Геннадий Красников опаздывал на электричку, и я не решился даже заикнуться о своих стихах. На прощание, уже в метро, Старшинов сказал мне: «Не пропадайте, приходите…» – «Как же приходить, если у вас уже и без меня не менее ста поэтов имеется». Он ответил как и в первый раз: «Ничего, будете сто первым». Теперь эти его слова прозвучали для меня как вызов.
Как-то я купил книгу Старшинова. Там было такое стихотворение:
Зловещим заревом объятый,
Грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи – солдаты
Идут вперед за взводом взвод.
Далее рассказывалось, как идущая на передовую пехота встретила разбросанные на земле деньги, но никто за ними даже не нагнулся:
Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
Это стихотворение было настолько созвучно моему тогдашнему настроению, что у меня тут же родился ответ на недавний вызов Старшинова:
Быть может, я поэт сто первый…
Все ж не без юмора Творца
В наш век вошел обычай скверный
Вести в итоге счет с конца.
. . . . . . . . . .
И вот решил в честь командиров
Я покорить Парнас московский.
Прощай, Володенька Барилов.
Прощай, Рязанов, и Стрелковский.
Не для торгашеских аршинов
Я вас оставил до поры —
В надежде, что поэт Старшинов
Заметит и меня с горы.
И скажет: «Не в строю шагает
И много на себя берет,
Но ничего не покупает
И ничего не продает…»
Его реакция была неожиданной: «Гриша! Какая гора?! Я сижу в такой помойной яме среди графоманских рукописей, боюсь, так и помру в ней!» Я увидел перед собой безмерно уставшего, одиноко несущего свой крест Константиновича. Оставив свою рукопись, я ушел от него в большом смятении. Спустя две недели мне позвонил Геннадий Красников: «Срочно приходите вычитывать гранки». – «Какие гранки?» – не поверил я своим ушам. «Вашей поэмы «Метель». Вообще-то мы в альманахе поэмы принципиально не печатаем, но для вас решили сделать исключение». Той же весной 1982 года вышла в издательстве «Современник» моя книга стихов «Грозы» с предисловием Старшинова. Он писал: «Чувство ответственности за человека, за свою судьбу и за судьбы других проходит через многие его стихи. Этим чувством пронизана и маленькая поэма «Метель», в которой есть такие значительные строки, написанные на борту самолета: