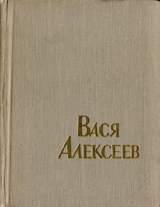
Текст книги "Вася Алексеев"
Автор книги: Семён Самойлов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Недовольство растет
С танки голубевшей бригады, когда Вася начал в ней работать, стояли в центре пушечной мастерской. Все проходят мимо, можно каждого повидать. Но в пушечной становилось тесно, вокруг появились пристройки. В одну из них перевели и бригаду мелких токарных станков. Теперь токари оказались совсем на отшибе. От основной мастерской их отделяли слесарно-сборочное и лафетное отделения, но там работали преимущественно в одну смену. По вечерам и ночью токари были изолированы ото всех.
Новое отделение пушечники прозвали Сахалином. Токарный участок именовали «чертовым уголком». Работала там большей частью молодежь – Вася Тютиков, Коля Андреев и другие Васины дружки. Сперва они приуныли:
– Скука смертная в этом чертовом уголке, свежего человека не увидишь…
Потом оценили местоположение участка: от начальства подальше, значит можно свободнее жить.
И правда, «чертов уголок» становился по вечерам своего рода молодежным клубом. Живо и горячо обсуждали события, громко, не стесняясь говорили о заработках, которых не хватало даже на полуголодную жизнь, – дороговизна, порожденная войной, быстро росла, продукты исчезали из ланок. Говорили о проклятой войне, о бездарности царских генералов, о Распутине и о заводских начальниках, совсем распоясавшихся в последнее время:
– Хотят спустить три шкуры и со взрослых рабочих, и с подростков. Ребят теперь в мастерских много, а ведь заставляют их тоже работать по двенадцать – четырнадцать часов.
Заглядывали в «чертов уголок» партийцы из других отделений и мастерских, назначали тут встречи, когда надо было срочно обсудить неотложные дела. Мест, удобных для таких встреч, на заводе было немного. Еще собирались в ямах, под фундаментами станков в строящейся новопрокатной мастерской, но часто пользоваться каким-либо одним местом было нельзя.
Старшой Голубев был настроен оборончески, разговоров, которые вела молодежь, не одобрял. Работал он обычно в день, после пяти часов ребята чувствовали себя свободно.
Опасен был новый инженер Орлов, появившийся в мастерской во время войны. Про него говорили, что он один из держателей путиловских акций и потому старается выжать из рабочих побольше. Во всяком случае, Орлов непрестанно придирался к рабочим, сыпал штрафами направо и налево. Он повадился ходить в «чертов уголок» по ночам, старался попасть туда незаметно, прислушивался к разговорам, а если замечал, что рабочие собрались вместе, что-то обсуждают или просто пьют кипяток, – подымал крик, штрафовал на самую большую сумму, какая только была возможна. И еще грозил выгнать с завода, отправить на фронт.
– Жить не дает, проклятый, – говорили токари.
– Надо его отвадить отсюда, – заметил Вася.
– Как его отвадишь, если он такой настырный?
– Подумать, так способ найдется…
И действительно, они нашли способ. Токарек Ромка забрался ночью на стропила крыши. Ему падали туда ведро со смазочным маслом… Сидеть под крышей неудобно, а Орлов в ту ночь, как назло, долго не показывался. Появился он уже под утро, тихо подошел к участку… Но сверху его всё равно было видно. Едва он оказался под балкой, как ведро перевернулось и липкая струя масла хлестнула Орлова по фуражке, залила тужурку и щегольские наглаженные брюки.
Скандал вышел крупный. Ромку хотели выгнать с завода, – он был подростком, отдать в солдаты его не могли. Но рабочие дружно заступились за парнишку. Да и Орлов, ослепленный маслом, не очень ясно разглядел его. Все говорили, что Ромка не виноват, кто поднял ведро под крышу – один бог знает. Запахло забастовкой, и администрация пошла на попятный. А Орлов усвоил урок, перестал шпионить за токарями. Во всяком случае явно.
* * *
Для заводской администрации первые месяцы войны были медовыми. Служащие главной конторы, акционеры и заправилы общества Путиловских заводов важно ходили по мастерским, в которые еще недавно предпочитали без особой надобности не заглядывать – очень уж было там неспокойно. Война придала им смелости, уверенности в себе. Их настроение так поднялось, что даже молодые токари из пушечной чувствовали это, как ли далеки они были от начальства.
– У господ-то из конторы такой вид, – говорили ребята, – точно каждый день именины справляют.
– Очень просто, – откликался Вася. – Для других – война, а для них – праздник. На фронте дела, конечно, плохи, корпус Самсонова разбили в пух, зато армии требуется еще больше пушек и шрапнели! Заказов невпроворот, барыши растут как на дрожжах. А на нашего брата, они считают, теперь надели крепкую узду. Законы военного времени! Только радуются они напрасно.
В самом деле, после медовых месяцев начала войны для заправил завода наступили трудные времена. Опять начались забастовки и разгорались, как пламя в летнем лесу. Искр, чтобы вызвать пожар, было много. Инженер ударил разметчика Харитонова по лицу – вся пушечная встала. Молодежь первая бросила станки и снимала с работы тех, кто еще не решался бастовать.
Вася яростно спорил с меньшевиком Петровым:
– Это ваши выдумки, что в войну нельзя бастовать. Рабочий класс никогда не откажется от борьбы. Сколько бы вы ему ни мешали. Уж лучше не путайтесь под ногами.
За первой забастовкой последовали другие – еще более массовые. В мастерских возникали митинги – против войны! Вася Алексеев уже не раз выступал перед сотнями людей. Созвать митинг надо было внезапно, так, чтобы администрация не узнала заранее – полицию вызвать недолго. Людей собирали, подав аварийный гудок или остановив рабочих, выходящих из мастерской после смены. Длился такой митинг всего несколько минут, но, чтобы заронить искру, много времени не надо.
Через год после начала войны заводские начальники уже не выглядели именинниками. С заказами и прибылями всё было как нельзя лучше, но рули ходили ходунам в руках «капитанов промышленности», того и гляди, управление будет потеряно совсем.
И лишившись уверенности, «капитаны» бросались из крайности в крайность. Сегодня – слащавые речи, завтра – жестокие расправы. Еще весной 1915 года на завод приезжал сам царь. Всё было расписано заранее, как в театре. Но действующие лица подвели. Вместо пышного умилительного представления, которое должно было показать всей России единение самодержца с рабочим людом, получился крупный конфуз.
Рабочие встретили Николая Второго враждебно. Он шел по спешно почищенным к его приезду проходам, сопровождаемый огромной свитой. Черносотенцы и переодетые городовые, наводнившие завод, кричали «ура». А рабочие смотрели на самодержца всея Руси с насмешливым любопытством:
– До чего плюгавый! Швейцар у директорского подъезда и тот солиднее во сто раз…
С галерки механической мастерской кто-то крикнул:
– Долой самодержавие!
На электростанции говорили, что хорошо бы угостить монарха ломиком или лопатой. Один раз ему пробили голову за границей, теперь пускай попробует от своих подданных…
Царя поспешили увезти с завода, скомкав программу «торжества».
Прошел еще год, и власти разом сдали в армию, отправили на фронт две тысячи молодых путиловских рабочих. Уж не надеялись на умилительное «единение» и елейные речи.
Правительство изъяло завод на время войны у его владельцев и передало в руки генералов, но и тем было уже не под силу совладать с растущим недовольством рабочих. Это недовольство, зревшее всюду, будоражило молодежь.
– Руки чешутся, – говорили ребята, – пора переходить от разговоров к делу.
В мастерских создавались новые большевистские группы. Васе надо было всюду побывать, ближе познакомиться с людьми. В кружке башенной мастерской ребята подобрались живые, энергичные. Только зелены были еще совсем. Как-то Вася пришел на их собрание. Это было в начале 1916 года. На темной улице деревни Волынкиной, возле ворот дома, в окне которого чуть светил огонек, стояли двое пареньков.
– Здесь продают пиленые дрова? – произнес Вася условленную фразу.
– А сколько купишь?
– Три сажени и еще половину.
– Здесь, Вася, – сказал уже совсем другим голосом один из пареньков. – Собрались. Тебе будут знаешь как рады!
Он повел Васю в дом. В тесной комнате вокруг стола сидели человек восемь или десять. Лица их были разгорячены, должно быть, ребята о чем-то спорили, но стук в дверь оборвал разговор. Секунду все настороженно вглядывались в вошедших, потом разом бросились к дверям.
– Вот здорово, – радостно заговорил живой и бойкий Ваня Скоринко, – это просто замечательно, что ты к нам пришел, Вася! У нас дело какое есть, если б ты только знал!
Вася широко улыбнулся ребятам, снял кепку и пошел к столу, расстегивая на ходу свое неизменное черное пальтишко на «рыбьем меху». Ребята всегда видели его таким – в синей вельветовой кепке, на которой рубчики совсем вытерлись, в стареньком пальто, – Вася звал его трехсезонным, потому что служило оно ему весной, осенью и зимой. В сильные морозы он только поднимал воротник. Под пальто был серый штопаный свитер. Брюки обтрепаны и ботинки просят каши… По правде говоря, у него больше и не было ничего.
– Так что же у вас за дело? – спросил он, пожимая руки, тянувшиеся со всех сторон. – Рассказывайте, ребятки…
Они переглядывались, ожидая, кто первый начнет.
– Вот, понимаешь, – сказал Ваня Скоринко, – мы тут сидим, спорим о всяких делах, ну о том, что надо делать нам, молодым, в нынешнее время. Всем уже поперек горла встала проклятая война, злоба на царя такая, что просто душит. Ведь правда?
– Правда, конечно. Но какой ты делаешь из этого вывод?
– А вывод такой, что хватит нам ждать.
Действовать хотим!

Иван Скоринко.
Скоринко еще раз взглянул на товарищей и выпалил разом:
– Бить городовых надо, – городовых, околоточных, приставов! Это они охраняют царский строй. Перебьем их и до царя доберемся. Свернем ему шею. Тогда всё, наша власть!
Вася посмотрел на Скоринко, на взволнованных ребят и сдержал улыбку. Они всерьез думали, что открыли чудодейственное средство.
– И много вы надеетесь перебить городовых разом? Пять? Десять? А царь будет сидеть и ждать, пока вы возьметесь за остальных? Убьешь ты, Ваня, городового, и тебя за это повесят. Так на так… Но я считаю, очень это было бы со стороны рабочего класса не по-хозяйски – менять такого хорошего, боевого парня на царскую собаку. Нет, ты можешь принести во много раз больше пользы. Конечно, когда будешь не один, когда за тобой пойдут сотни молодых рабочих.
– Ну, все-таки убить городового – это уже не разговор, а дело.
– Были и до вас люди, считавшие, что можно свалить царя подобными делами. Ничего у них не вышло. Вы слыхали такие слова – индивидуальный террор? Ленин называет его революционным авантюризмом. Почему? Давайте разберемся вместе…
Они долго сидели в тот вечер за столом. Вот уж не думал Вася, идя сюда, что ему придется делать доклад о народниках и эсерах, о героях и толпе, о том, кто творит историю – избранные личности или народ.
– Да вы не падайте духам, – сказал он, заметив пристыженное и разочарованное выражение на лицах ребят. – Я понимаю, вы хотите, чтобы революция произошла скорее, вы рветесь в бой. Правильно! Хорошо, что вы чувствуете в себе большую силу, а дело по силам для вас найдется. Куда большее дело, чем ухлопать фараона…
Примерно через неделю кружок молодых башенщиков собрался снова – теперь уже в другом конце заставы, у Красного кабачка. Но разговор, который они вели, был продолжением того, что начался в деревне Волынкиной.
Вася говорил ребятам о том, что должна делать революционная молодежь, как надо бороться против войны, рассказал о социалистических союзах молодежи, существовавших на западе, о вожде немецкой рабочей молодежи Карле Либкнехте.
– Вот бы и нам организовать союз молодых рабочих, – горячо сказал Ваня Скоринко. Все разом поддержали его.
– Я к тому и веду разговор, – ответил Вася. – Будет у нас такой союз, обязательно будет. Сегодня его создавать еще нельзя. Я со старшими товарищами советовался… В Европе союзы возникли, когда там была хоть какая-то свобода – можно было собираться, открыто высказывать свои мысли. У вас никаких свобод нет. Всё надо делать в глубоком подполье. В таких условиях союз был бы неизбежно небольшим и тесным. И принимать туда мы смогли бы только проверенных, подготовленных людей. Но их место уже в партии. Выходит, мы дробили бы силы…
– Значит, и это не получится, – протянул Скоринко.
На лице его было написано разочарование.
– Обязательно получится, – горячо возразил Вася. – Но мы должны сперва завоевать такую возможность. Революция откроет нам ее. Надо прояснять сознание молодежи, помогать партии. Вам кажется, охранять ораторов на митинге, быть заводилами на забастовках, нести знамя на демонстрации – это мало? Сегодня – забастовка и демонстрация, завтра – восстание. Победим, и будет у нас свой союз молодых рабочих-социалистов…
* * *
– Ты чем занят сегодня?
– Да ничем особенно… А что, какое-нибудь дело есть?
Ваня Тютиков заинтересованно взглянул на друга. Они шли по темному заводскому двору. Человеческий поток медленно, устало катился к проходным воротам, и люди, которых они обгоняли в мутной предутренней мгле, казались расплывающимися тенями. Слитный гул цехов поглощал шаги и голоса, да рабочие почти и не разговаривали. Ночная смена вымотала всех.
– Поедем в город. Я за тобой зайду часа в два, – сказал Вася Алексеев.
– Поедем, – охотно откликнулся Тютиков. Он любил сопровождать Васю в его хождениях и поездках по городу, часто продолжавшихся много часов. Шагая по улицам, они разговаривали, обсуждали мировые события, новости заставы, говорили о сердечных делах. Разговаривать с Васей Тютикову было всегда интересно.
– Поедем, – повторил он. – А куда?
– В одно место. Литературу мне новую обещали. На Суворовском…
Поездка была как многие другие. Вася рассказывал о книгах, прочитанных за последнее время. От Нарвской заставы до Суворовского путь был долгий.
На Суворовском вошли в большой, богатый дом.
– Ты не к буржую какому меня ведешь? – полюбопытствовал Тютиков.
– Нет, – сказал Вася. – Это не буржуй. Так, интеллигент, сочувствующий революции.
Фамилии он не назвал.
Хозяин принял их в кабинете, обставленном дорогой кожаной мебелью.
– А, молодой большевик! – приветствовал он Васю. – Рад вас видеть, хоть вы и спорите со мной каждый раз. Присаживайтесь.
Они сели, и вскоре Вася действительно заспорил с хозяином. Тот доказывал, что война заставляет рабочий класс всех стран отложить решение коренных вопросов общественной жизни. Вася считал, что война, напротив, приближает революцию.

Иван Тютиков.
Хозяин дома был человеком образованным, следил за иностранной печатью. И хотя собеседники явно расходились во взглядах, Вася сумел узнать у него немало интересного.
– Учтите, что группы, выступающие против войны, в европейских странах численно невелики, – говорил хозяин дома. – В Швейцарии не то вышел, не то начинает выходить новый журнал на немецком языке. Издатели называют его пропагандистским органом союза социалистических организаций молодежи. Они поднимают голос против войны, но, я думаю, это просто молодая горячность. Разве они в состоянии перекрыть гул и грохот войны?
– Уже одно то, что они смело поднимают голос, очень важно. А рабочая молодежь их услышит, она этого голоса ждет. И то, что международный союз социалистических организаций молодежи живет и действует, – это очень хорошая весть. Значит, все оппортунисты и шовинисты не смогли сбить их с толка, даже размахивая министерскими портфелями.
Вася собрался уходить. Под мышкой у него была стопка книг.
– Заходите поспорить, – сказал на прощание хозяин.
– Поспорим! – откликнулся Вася. – Будет случай.
– Из этого большевика не сделаешь, – заметил Ваня Тютиков, когда они вышли на лестницу.
– Трудно, – согласился Вася. – Но хоть и думает он не по-нашему, а кое в чем помогает. И знает много. То, что он рассказывал про журнал, про Интернационал молодежи, это и впрямь важная новость.
Они быстро пошли по улице. Тютиков несколько раз заговаривал с Васей, но тот отвечал односложно. Лицо его стало настороженным.
– Слушай, – тихо сказал он вдруг, – или мы привели кого-то на хвосте или за этим домом была слежка, но только за нами увязался шпик. Видишь человека на той стороне?
– Ты думаешь, он…
– Надо проверить… Идем тихонько к остановке. Садиться будем, когда трамвай тронется.
Они тан и сделали, вскочили в трамвай на ходу. Человек, шедший по другой стороне улицы, оказался рядом и успел вскочить в прицепной вагон.
– Понятно?
Теперь и Тютиков видел, что за ними следят.
В общем, это походило на игру. Через несколько остановок они сошли с трамвая. Человек, следовавший за ними, тоже сошел. Он был в пальто какого-то неопределенного серого цвета и в черном котелке. Лицо у него было серое и неопределенное, как пальто.
– Пройдем остановку и сядем в другой трамвай, – предложил Вася.
Человек в котелке следовал за ними. Он шел по тротуару, отстав шагов на десять, и словно бы совсем не интересовался ими, но стоило друзьям прибавить шаг, как и он прибавлял, стоило задержаться на месте, как задерживался и он. И в трамвай он сел опять после них.
У Сенной площади они соскочили, не доезжая остановки. Человек в котелке высунулся с площадки заднего вагона и приготовился прыгать.
– Отрежет ему ноги, придется царю-батюшке пенсию платить, – проговорил Тютиков, озорно поглядывая на преследователя.
Тому ноги не отрезало, видно, привык прыгать, но, когда друзья вскочили в другой трамвай, шпик не последовал за ними.
– Неужто отстал? – тихо спросил Тютиков.
Вася только глазами показал на человека, вскакивавшего в трамвай вслед за ними. Шпик в котелке передал их другому. Тот держал себя нахально – всё время, пока ехали к Нарвским воротам, стоял у них за спиной и пробовал завести разговор. Друзья не отвечали.
У Нарвских ворот и этот преследователь отстал. Его сменил уже третий.
– Хлопот с нами полиции.
Вася кивнул на нового шпика:
– Ну, этому придется походить пешочком.
Они дошли до завода, свернули в Шелков переулок. Шпик шел следом или, когда они вдруг останавливались, обгонял их и задерживался впереди.
– Пойдем полем, – решил Вася. – Выберемся к Красненькому кладбищу. Там есть кто-нибудь из наших ребят. Если не отстанет, попросим, чтобы ему прописали ижицу. Нам-то в драку сейчас ввязываться нельзя.
Впереди было кочкастое болото, поросшее мелким кустарником. Между кочек стояла вода.
– Снимай сапоги, – сказал Вася, – пойдем босиком. Чай наши места, чего стесняться.
Они разулись, засучили брюки и побрели по бурым кочкам. Вода леденила ноги, каждый шаг был мучением.
– Иди, топай, – сказал Ваня Тютиков, поглядывая в сторону шпика. – Простуда тебе обеспечена, может, бог пошлет и воспаление легких.
Шпик не слышал его, но что тут можно получить, он, видимо, и сам понимал. Он топтался на краю болота, лицо его, насколько можно было разобрать, было растерянным. Час стоял поздний, на болоте темнело. Друзья прошли еще десятка два шагов и обернулись. Шпик всё смотрел им вслед. Вася вытащил из кармана карандаш и, зажав его в руке, направил в сторону преследователя:
– Сейчас пристрелю, как собаку!
Угроза была произнесена тихо, но шпик словно бы услышал. То ли он принял в сумерках карандаш за револьвер, то ли решил, что дальнейшее преследование всё равно бесполезно, только его вдруг как ветром сдуло.
– Сдрейфил, – облегченно проговорил Тютиков, – а ведь простуда-то и к нам вполне может пристать. Или еще какая-нибудь дрянь.
– Мы здешние, к нам не пристанет, – откликнулся Вася. – Ну, давай выбираться на сухие места.
Арест
В дверь постучали под утро. Анисья Захаровна вскочила и заметалась то кухне. Она искала спички, торопясь зажечь лампу. Руки дрожали.
– Господи, господи, да что же это такое? – твердила она, хорошо уже понимая, что означает стук, всё более властный и нетерпеливый.
На пороге комнаты стоял Вася:
– За мной, должно быть, маманя, откройте.
Он быстро оглядел кухню. В углу на табуретке лежала стопка книг, которые он читал ночью, и сверток свежих листовок. Лег он совсем недавно и, кажется, только-только успел уснуть. Нелегальная литература… Он быстро сунул стопку под табурет и пожал плечами. Больше уже ничего нельзя было сделать.
– Алексеев Василий Петрович проживает здесь? – спросил пристав еще в сенях и, оттеснив Анисью Захаровну, шагнул на кухню.
– Ты будешь?
Он смотрел на Васю в упор:
– Ордер на обыск и арест.
За спиной пристава стояли городовые.
Вася снова пожал плечами.
Мысль о предстоящем аресте не пугала, он давно к ней привык. Кто из его друзей-партийцев не побывал в тюрьме и ссылке? Но очень это было не ко времени сейчас. Столько дела… Он усмехнулся. Как будто арест бывает для кого-нибудь вовремя. Но вот листовки! Так обидно, что они попадут в руки полиции. Сегодня утром он должен был их распространить на заводе.
Между тем полиция уже хозяйничала в доме. За столам, широко расставив локти, сидел квадратный пристав в толстой серой шинели и что-то писал, должно быть, протокол. Городовые, топая ногами, возились в комнате. Полуодетые дети испуганно жались к отцу. Он стоял, хмуро поглядывая на непрошеных гостей. Васе показалось, что сивые его усы вздрагивают…
А мама не шла к детям. Она сидела на кухне, бледная, с заплаканными глазами, и словно уже не было у нее сил, чтобы встать. Она только привалилась к стене, и полы широкого бумазейного капота, каждый цветок на котором Вася помнил с детства, расходились на ее ногах. «Плохо ей, – испуганно подумал Вася, – потому и сидит так». И вдруг понял, что сидит она на той табуретке, под которую он сунул нелегальную литературу. Полы капота совсем закрыли стопку.
Полицейские ворошили вещи – прощупывали сенники, перетряхивали белье в комоде. Они стучали по стене, пробовали, не поднимаются ли половицы, – искали тайники. Они таскали Васины книги – из-под его кровати, из сеней, потом из сарайчика. Пристав просматривал книги и раздраженно кидал на пол:
– На Путиловоком работаешь? Зачем книг столько развел?
– Интересуюсь, разве нельзя?
– Вот и довел тебя интерес!
Он взял в руки Евангелие и вдруг заметил, что туда вложена брошюра «О вере в бога». Это была та самая брошюра, о которой Вася рассказывал как-то ребятам в кружке.
– Негодяй, – заорал пристав, – священное писание поганишь!
– Еще неизвестно, кто негодяй, – сказал. Вася сквозь зубы.
Пристав вскинул голову, лицо его побагровело, но глаза встретили твердый Васин взгляд, и он промолчал. Из книг он отложил в сторону «Капитал», видимо собираясь забрать с собой. «Жалко «Капитал», – подумал Вася, – пропадет в полиции. А издание легальное. Ничего они не могут мне за это пришить».
Обыск всё длился, городовым стало жарко. Двигать комоды и кровати, копаться в чужих вещах – это тоже работа, поганая, но нелегкая. Они сбросили шинели.
Вася смотрел на Анисью Захаровну. Она всё сидела на табуретке, привалившись к стене. Лицо ее припухло от слез, а добрые карие глаза не отрываясь смотрели на сына. И, встретившись с матерью глазами, Вася вдруг понял, что, как ни велик ее испуг, она хочет поддержать, подбодрить его. «Крепись, сынок, – говорили ее глаза, – раз уж так всё вышло, – крепись».
И Вася подумал об этой немолодой, уставшей женщине, самой ему дорогой и близкой на свете, так, точно сейчас только по-настоящему узнал ее. Она не ходила на собрания, на которых он бывал, не читала книг, над которыми он просиживал ночи, – она и не умела читать. И всё-таки простым своим сердцем она понимала, за что он борется. Вряд ли она разделяла его взгляды. Но она помогала ему. Случалось, убегая на работу, он оставлял ей сверток и говорил тихонько: «Спрячьте, маманя, Петя Кирюшкин придет, ему отдадите». И он знал – она спрячет, отдаст кому надо. Она постоянно тревожилась за него, но никогда не пробовала помешать его опасной работе. Только просила: «Ты осторожнее, сынок». Недавно она сказала: «Спрашивают о тебе у людей, Васенька, видно, намозолил ты приставу глаза. К соседям заходили какие-то намедни, про тебя разговор был». И больше ничего…
Но как у нее сейчас хватило догадливости сесть на эту табуретку, закрыть злополучную стопку книг? Он ведь ей ничего не сказал. «Настоящий конспиратор, только бы городовые не заставили ее встать», – подумал Вася.
Он чувствовал, что ему нужно очень многое ей сказать, давно нужно. Сказать о том, что она значит для него, сказать, что он всё видит, сказать, как он ее любит, наконец. Но раньше он не догадывался это сделать, а сейчас было нельзя. И он только улыбнулся Анисье Захаровне – нежно и благодарно.
Когда обыск окончился – на дворе уже занимался поздний февральский рассвет, – пристав сказал Анисье Захаровне:
– Собери ему чего-нибудь с собой. Мы ведь его возьмем.
Вася быстро шагнул к матери:
– Не собирайте, я взял кое-что, а больше ничего не надо.
Он поцеловал ее в щеку, обнял и придержал за плечи.
Анисья Захаровна встала с табуретки, когда Васю уже увели и последний городовой вышел за дверь. Ноги плохо слушались ее, – отекли или просто ослабели от страха. Она вышла, пошатываясь, на крылечко и тревожно поглядела на улицу. Широкие спины полицейских покачивались на ходу и заслоняли небольшую худощавую фигуру сына. «Пальтишко надел ли Васенька», – подумала она и, ухватившись за столбик, заплакала горько и беззвучно.
Вася был далеко. Он не видел этих слез.
* * *
В ту ночь на 8 февраля 1916 года арестовали не одного Васю. Полиция хватала путиловских большевиков. Завод бастовал уже несколько дней. Началось с того, что электрики потребовали прибавки, – их завалили работой, а платили очень мало. В прибавке администрация отказала, электрикам пригрозили, что поставят на их место солдат. На следующий день на заводском дворе собрались тысячи рабочих из разных мастерских. Они требовали не только прибавки. Резолюция митинга говорила о свержении самодержавия, восьмичасовом рабочем дне и конфискации помещичьих земель.
Военные власти ответили тем, что закрыли завод. Всем военнообязанным было приказано явиться на призывные пункты. Полиция тем временем арестовывала рабочих вожаков.
В Шелковом переулке городовые втолкнули Васю в извозчичьи санки. Один из городовых – здоровенный усач – сел рядом и застегнул синюю суконную полость. Она должна была согревать ноги им обоим – Васе и городовому.
– Не спится вам, – сказал Вася, – наверно, всю ночь по домам ходили.
Ему хотелось узнать, много ли было арестов, кого взяли еще. Но городовой смотрел в спину извозчика, покачивавшуюся перед ним, и не поддавался.
– Как вы есть арестованный, вам разговаривать не положено, – отрезал он.
Он стал говорить «вы» только теперь, как будто арест сделал Васю более значительной и важной личностью в его глазах.
Так они и ехали молча. Лошадь небыстро бежала по Петергофскому шоссе, по Нарвскому проспекту, потом по Садовой улице мимо Покровской церкви. Извозчик не погонял ее. Он знал, что от полиции чаевых не будет. Вася смотрел на заснеженные улицы, на людей, которые шли по тротуарам, подняв воротники пальто. День был холодный, ветреный, как обычно в феврале, люди торопились.
Извозчик остановился у Спасской части. На желтой приземистой каланче поблескивала медью каска пожарного. Возле подъезда, приосанившись, стоял городовой. Другой извозчик отъезжал от части, видно, только что доставили еще кого-то.
– Вылезайте, – сказал усач, – прибыли.
Когда Васю втолкнули в камеру, там было тесно от множества людей. Арестованные обернулись на стук засовов, и чей-то знакомый голос сразу окликнул его:
– Вася, сынок, и ты тут!
Дмитрий Романов – большой, худой и встрепанный – подошел к нему:
– Устраивайся с нами, знакомых тут много.
И уже шепотом добавил:
– Почти весь райком взяли, да еще сколько народа! У тебя нашли что-нибудь?
Вася отрицательно мотнул головой:
– Только «Капитал» указали в протоколе.
– Ну и держись так: не знаю, мол, и не ведаю ничего.
В камере было душно, арестованных набралось раза в два больше нормы, на нарах не хватало места.
Постепенно Вася привыкал к тюремному быту. Трижды в день приносили баланду или кипяток. Кого-то водили на допросы, кого-то вызывали «с вещами», и это значило, что в камеру он больше не вернется. Куда только попадет?
В тюрьму ©сё доставляли арестантов. От них товарищи узнавали о новостях. Аресты не испугали путиловцев, и грозный приказ военных властей тоже. Едва пустили завод, как он снова забастовал. Одним из требований было освободить арестованных. Пришедшие с воли в конце февраля рассказывали, что настроение рабочих боевое. На Путиловском не прекращаются забастовки и волнения, из мастерских вывозят на тачках ненавистных мастеров. Как в пятом году!
Васю на допросы водили редко. Серьезных материалов против него полиции не удалось раздобыть. Но и не отпускали. А неизвестность томила – тем сильнее, чем более бурными становились события на воле.
Как-то утром в камеру явился надзиратель в сопровождении нескольких городовых и стал читать список арестованных, которым надлежало собираться «с вещами». Вася, услышав свою фамилию, вздохнул с облегчением. Куда собираться, он не знал, но всё равно – предстояла перемена.
Вызванных оказалась изрядная группа, и в ней – многие путиловские большевики. Дмитрия Романова в их числе не было. Вася с грустью простился со своим наставником и другом. Когда они увидятся вновь? Может быть, скоро встретятся где-нибудь в далеком таежном селе два поселенца, а может быть, недобрая судьба в лице жандармского начальства разлучит их на долгие годы, если не навсегда.
Городовые вывели арестованных во двор и передали военному конвою.
– Становись! – раздалась команда. – На первый-второй рассчитайсь!
– Не иначе, в солдаты нас сдают, – тихонько сказал Васе сосед.
– Похоже…
– Отставить разговоры! – взревел унтер-офицер. – Смирна-а!
Уже на улице путиловцы узнали от конвойных, что ведут их в проходные казармы.
Казарма, куда их пригнали, могла вместить несчетное множество солдат, но помещение, отведенное вновь прибывшим, было изолированным – длинное и полутемное, заставленное двухэтажными дощатыми нарами, на которых сидели и лежали люди в штатской одежде. Окна выходили во двор и были забраны толстыми железными решетками.
Приход новой партии вызвал в казарме оживление:
– Ого, вашего полку прибыло!
– Гляди-ка, знакомые все лица!
В самом деле, проходные казармы оказались местом неожиданных встреч. Здесь были путиловцы и рабочие других заводов, поддержавших путиловскую стачку. Они встретили прибывших, как старых друзей. Да многие и были друзьями на самом деле. Вася с радостью бросился навстречу Павлу Шубину.
– Вот и свиделись, браток, – сказал тот, обнимая его. – Никак не могут жандармы нас с тобой разлучить.
Они знали друг друга уже не первый год – по заводу и по большевистскому подполью. Шубин был одним из тех, кто ввел туда Васю.








