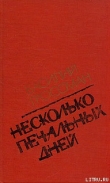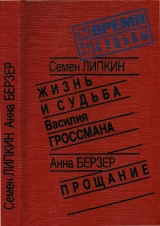
Текст книги "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание"
Автор книги: Семен Липкин
Соавторы: Анна Берзер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
И пока мы стояли и так странно и долго говорили в прихожей, вспоминая нашу первую встречу, он неожиданно засмеялся и весело попрощался со мной.
Рассказ «Дорога» был напечатан сравнительно быстро и прошел сравнительно легко. Я уже писала о верстке, о неповторимых его словах про Робинзона и асфальт, о недолгих минутах радости, которые принес рассказ.
– Как хорошо, – сказал он мне в больнице, дав прочитать «Все течет», – у меня теперь четыре читателя этой вещи, вы – четвертая.
Был и такой почти фантастический эпизод в истории его «печатания» в период между двумя больницами.
После операции была мечта, что болезнь отступит. Он оправился, начал ходить, читать, писать.
И появился у меня план, сначала я не очень верила в него и Василия Семеновича не посвящала. Был, вероятно, август 1963 года. Из соседней с нами «Недели» (еженедельного приложения к «Известиям») спрашивали часто – нет ли чего-нибудь, чтобы выбрать для них отрывок. Спрашивали часто, печатали редко. И я никогда не занималась этим. А тут снова появился сотрудник – очень осведомленный, а главный редактор (Аджубей) – осведомленный еще больше.
И я завела речь о Гроссмане – с сотрудником, конечно. Ведь у нас безнадежно лежали «Путевые заметки пожилого человека», переименованные в «Добро вам!». Сотрудник был в курсе дел. Но при этом ходил, выяснял, проверял. Потом появился снова, заявив, что печатать они обязательно будут, чтобы я выбрала для них отрывок. Я выбрала и послала Гроссману. Он сам дал название «Севан». И получилось просто отлично.
Потом всё двинулось вперед прямо-таки газетными темпами.
Передо мной лежала сверстанная полоса «Недели», очередного ее номера. «Севан» занимал почти целую страницу в специально очерченной художником жирно черной рамке. Сверху рисованным шрифтом – «Севан» – крупно, броско, значительно. Под ним тоже довольно крупно – «Из путевых заметок пожилого человека» и чуть ниже – Вас. Гроссман. Отрывок со своим внутренним сюжетом и изумительно звучащим голосом Гроссмана (что, впрочем, отличает и всю эту вещь). Так выглядела эта полоса.
Появилась у меня твердая уверенность, когда я смотрела на эту страницу, что после нее мы вернемся к этим «Заметкам» и напечатаем их в том виде, в каком хотел Василий Семенович. Не знаю, верил ли он сам в это, но чуть посмеивался над моими проектами.
Врач посоветовал ему поехать в подмосковный санаторий, и вскоре он уехал (кажется, это было Архангельское, и после него ему стало хуже).
В «Неделе» все шло точно и быстро, он звонил по телефону из санатория и узнавал, как дела. И вот в ближайшую субботу должен был «Севан» появиться в свет. Мы условились с ним, что он позвонит утром мне домой, я назначила точно час, когда должна появиться «Неделя». В пятницу уходя вечером из редакции, я еще раз проверила все у сотрудника «Недели».
Была суббота, у меня – творческий день, «Недели» я не выписывала, но редакция наша работала. И договорились, что секретарь редакции Наталья Львовна, как всегда, утром забежит в «Известия» за экземплярами «Недели». Она была в курсе дела и обещала, что с этого начнет рабочий день. Кроме того, я договорилась с одним молодым писателем, он был подписчиком «Недели» и обещал утром тоже позвонить мне, сразу как вытащит номер из ящика.
Прожила это время в большом напряжении. Но зазвонил телефон раньше, чем я ждала:
– Все в порядке, – услышала я спокойный и довольный голос Натальи Львовны.
Она сказала, что напечатали, назвала страницу – семнадцатую, прочитала название, первый абзац, второй абзац, последний абзац.
Это был подарок…
Василию Семеновичу, когда он позвонил, я все это с большим подъемом описала и сказала, что в «Новом мире» лежит много номеров «Недели» – специально для него. То была «Неделя» – номер 39, 22–28 сентября 1963 года.
Я успокоилась, расслабилась и решила в эту субботу заняться чем-нибудь успокоительным для себя.
И на задний план отодвинулось, что почему-то не позвонил молодой писатель, а мы так твердо условились.
Позвонил он чуть позже. И сказал как-то осторожно и очень мягко:
– Значит, не напечатали…
Я возмутилась и стала его укорять – как он так невнимательно смотрел, ведь Наталья Львовна вслух прочитала почти все.
Он удивился очень и сказал решительно, что позвонит ровно через пятнадцать минут. И тут все во мне замерло тяжким и таким привычным за годы работы в печати предчувствием беды.
Молодой писатель позвонил еще раз и сказал, что я могу его кромсать и резать, но Гроссмана в «Неделе» нет.
Что же случилось? Расскажу только то, что узнала сама. «Неделя» № 39 за 22–28 сентября 1963 года была набрана и сверстана вместе с «Севаном» Гроссмана. Номер был подписан в печать и залитован. Началось печатание тиража, первые экземпляры которого попали в «Новый мир». И вдруг утром, во время этого печатания, появился заместитель главного редактора Ошеверов. Он остановил печатание и из готового тиража (что делали в сталинские времена, когда в ночь выхода номера был арестован автор – я сама пережила несколько таких ночных историй!) вырвал Гроссмана и вставил на это место другой материал.
В понедельник в редакции у меня было два варианта этой «Недели». Гроссмановскую «Неделю» я сберегла до нынешних времен, а ту, вторую, потеряла.
Я тогда места себе не находила, думая о том, какой нанесу Василию Семеновичу удар, когда он позвонит, вернувшись из санатория… Как он обрадовался тогда… В такой мрачности я не была давно. Как ненавидела я этого Ошеверова, и описать не могу. С его женой у нас были милые отношения. Собралась было ей позвонить, но не смогла, не смогла унизить Гроссмана, «Новый мир» и себя.
Василий Семенович еще раньше, смеясь, повторял, что по голосу и по тому, как я говорю: «…Василий Семенович…» – он понимает, как обстоят его «новомирские дела». А тут о голосе не могло быть и речи.
И услышала, как он ответил мне решительно, твердо и спокойно:
– Ведь напечатали! И я доволен.
Я привезла ему его «личные» номера и выяснила, какой у него тираж. Он сказал, что тираж все-таки большой. И вообще, был настроен даже юмористически, особенно когда узнал, что эта его гроссмановская «Неделя», вырвавшись запретно из общего известинского тиража, вдруг попала в газетные киоски каких-то подмосковных городов. И в одном из них ее купил, сойдя с поезда, его знакомый и сообщил ему. И кто-то еще тоже купил и тоже позвонил. И вообще, таким он был мужественным и дружелюбным, что и передать не могу.
Он умрет меньше чем через год в том же сентябре будущего года. И этот незаконный «Севан» и напечатанный в 12-м номере «Нового мира» в 1963 году рассказ «Несколько печальных дней» станут последними его прижизненными изданиями.
И снова хочу вспомнить о том, как он брал в руки верстку, как смотрел на «Неделю», как вел счет на единицы тиражей и читателей.
Это была не нервно издерганная душа, а даже на пороге смерти гармонически естественная и живая. Все бесчисленные катастрофы с чистыми его книгами не исказили его личность. Они принесли ему смерть, но жизнь на нравственных ее высотах не исказили. Не было в нем и тени темной сосредоточенности на себе одном.
Как мог он слушать других людей и как умел слушать! Он даже настойчиво просил, чтобы люди, приходившие к нему в те годы, не соединялись вместе. Хотел настоящей беседы с глазу на глаз и так прямо смотрел в глаза.
– Меня это интересует, – сколько раз я слышала эти слова.
Я видела, как он высок в трудные минуты, как никогда не забывает о других.
Он говорил о том, как писателей губила в трудных обстоятельствах измена своему таланту.
Приводил разные имена – то с раздражением, то с болью. Был один писатель… Он когда-то был с ним близок и с удовольствием встретил его вступление в литературу, его первые повести о войне. Потом писателя начали громить… После этого он стал писать длинные романы – как будто другой человек. Длинные и благополучные. Стал получать сталинские премии. Василий Семёнович его любил и прямо сказал, что не следует так писать. И тот ответил, что это пока, сейчас, а потом когда он захочет и когда будет можно, то будет писать так, как писал раньше. Василий Семенович его убеждал, что, когда он захочет и когда будет можно, он уже не сможет писать так, как писал. А тот даже посмеивался в ответ и повторял свое.
И что же получилось с этим писателем? Получилось именно так. Когда было можно…
А когда бывает можно? Гроссману, оказывается, можно было всегда. Вот какая особенная судьба.
Надо ли добавлять к этому, что Сталин его приметил давно и не любил (если уместно в этом случае употреблять такое слово). Достаточно вспомнить, что лично Сталин вычеркнул его книгу из списка лауреатов, о чем ему рассказал Фадеев, в присутствии которого это произошло. «Да, знаю я, Садко меня не любит», – не случайно эту оперную фразу часто, с большим подтекстом, повторяет Штрум, герой романа «Жизнь и судьба».
Когда он лежал и маялся, прикованный к этой неудобной, короткой ему низкой больничной кровати, задыхаясь, протягивая иногда в воздух руки, чтобы найти какую-то единственную, скрытую от него точку, позу, при которой можно хоть один раз легко вздохнуть, это была крестная мука.
При всех ужасных изменениях, которые должна нести эта болезнь, наперекор ей, в нем никогда не было ничего болезненно отталкивающего, неприятно деформирующего.
Только более высоким и огромным становился лоб, более яркими и глубокими глаза, более мудрыми складки у губ. Всегда – благородство, всегда – одухотворенность, всегда – тонкость и гордость. И течение страшной болезни не затемняло эти черты.
Да, голоса жизни… Да, шум зеленых деревьев… И книги, люди, споры. И слезы над страницами о гибели Вавилова и многих других людей.
Но была и судьба собственных его книг, и новая у нас трагедия под названием «арестованный роман». Роман томился за решеткой, а писатель умирал в узенькой больничной палате в сентябре 1964 года.
Я сидела в своей комнате отдела прозы журнала «Новый мир», когда явились за романом Гроссмана. Рабочий день кончился. И наша редакция, которая была расположена в самом приятном и дружелюбном месте – на улице Чехова, – была полупустой. Но доносился стук из комнатки машбюро, около двери кабинета Твардовского сидела еще его личный секретарь – Софья Ханановна Минц, а в кабинете Твардовского был Дементьев.
Софья Ханановна и рассказала нам, что пришли за романом Гроссмана, который лежал в сейфе «Нового мира». Ключи от сейфа были у ответственного секретаря Закса, который уже ушел домой. Я не помню, был ли у Закса дома телефон (или, может быть, он пошел не домой), но кого-то посылали за Заксом и его искали. Мне, по тогдашней неосведомленности в этом деле, показалось, что главным объектом операции является именно «Новый мир», и я ошибочно считала, что не надо так энергично искать Закса и что надо поставить в известность Твардовского. И предлагала совсем утопичные планы.
Я не знала тогда, что сейф «Нового мира» был концом операции по «изъятию» романа, а не началом. И наш журнал, и сам Твардовский, которому для совета принес Гроссман свой роман, были одинаково унижены, оскорблены и распяты вместе с Гроссманом.
А навели и к нам и к нему не милиция и не «органы», а другой журнал, расположенный в противоположном конце той же нашей Пушкинской площади, – журнал «Знамя», его главный редактор Кожевников и верные его помощники.
Я не знаю, было ли когда-нибудь нечто подобное в истории нашей журналистики, хотя она многое повидала на своем веку. Чтобы в результате тайной, активной, многомесячной, организованной деятельности журнала в течение одного дня со всей Москвы на «черном вороне» увезли все экземпляры романа, рукопись которого он доверчиво принес к ним сам в 1960 году.
– Ведь был договор, – сказал Василий Семенович.
Что же такое договор? Это исконно честное и правдивое в своих основах слово. Но для правдивых людей.
А год начался для Гроссмана счастливо: ведь он завершил десятилетний свой труд. И во многих газетах и тонких журналах появилось имя Гроссмана.
2 апреля 1960 года «Литературная газета» печатает почти целую страницу: «Сегодня мы печатаем одну из начальных глав романа „Жизнь и судьба“».
В эти же месяцы – апрель-май – он, вероятно, отнес роман в этот журнал.
Он рассказывал, что там долго и мрачно читали сами, ничего ему не говоря. Потом стали ходить, носить. Переправили роман Д. А. Поликарпову со своими пояснениями. Об этом я узнала подробнее потом. Есть свидетельство одного из авторов «Нового мира»: он оказался случайно в кабинете Поликарпова, тот в ярости поносил роман Гроссмана, и автор наш вступил с ним в ожесточенный спор. Так принималось решение на поликарповско-сусловских этажах.
Автором этим, случайно попавшим в кабинет Поликарпова, был Виктор Некрасов. Он и рассказал об этом и о том, что Поликарпов начал разговор с ним примерно так:
«Не успели доехать до Москвы, как сразу же побежали к Гроссману – выражать сочувствие».
И тогда возникло это – «изъять», или, по-другому, «извлечь», оба эти слова я слышала тогда.
Так из «Знамени» потянулась цепь.
– Количество экземпляров назвала машинистка, – сказал Василий Семенович.
В квартире на Беговой был взят экземпляр романа, в его комнате на Ломоносовском проспекте – один экземпляр, в «Новом мире» – другой. О «Знамени» говорить не надо. Все собрали, подобрали и увезли. До единой бумажки.
Операция по «извлечению» состоялась в один из дней февраля 1961 года.
Я хотела бы еще раз повторить его фразу:
– Ночью меня возили на допрос… Скажите, я никого не предал?
И последние слова о романе:
– Хотелось бы подержать его в руках…
Через несколько минут:
– Хотелось бы снова его прочитать…
Конечно, журнал «Знамя» – для Гроссмана губительный шаг. Но он свидетельствует о чистоте его замыслов и помыслов, о том, что (я это видела потом сама) он вполне искренне не видел так причудливо называемой в нашей литературном обиходе «непроходимости» своих произведений. При том, что блистательный его ум – в каждой строчке, написанной им, в каждом слове, сказанном им. Ведь и к Твардовскому (я уже говорила) он обратился, чтобы понять, что же могло переполошить «Знамя». Почему они молчат? Может ли писатель «замыслить антисоветский роман» по договору с Кожевниковым? Да у подлинных писателей и не бывает таких «замыслов».
Он писал этот роман с подъемом и с надеждой – писал, чтобы написать.
Думая над всем этим в течение лет, я хотела бы добавить, что слышала тогда от одного «влиятельного» лица – «нельзя, чтобы повторилась история с романом Пастернака…»
Следует напомнить, что травля Пастернака по поводу Нобелевской премии началась с конца октября 1958 года и продолжалась весь 1959 год, а сам Пастернак умер в мае 1960 года, когда его имя, роман и похороны были в центре мирового внимания.
Именно в это время, в эти буквально месяцы начала 60-го года, на фоне этих громких событий Василий Семенович Гроссман отнес свой роман в журнал «Знамя».
И решили: «чтобы не повторилась»…
Так родилось на свет это дикое словосочетание – «изъятый роман», особенно противоестественное и невыносимое для того, кто хорошо знает, что значит для писателя и вообще для всей жизни грохот наших типографских машин, выпускающих пахнущие свежей краской журналы живых, думающих и всегда страдающих за людей писателей. Именно живых… Это я знаю точно, из всего опыта собственной профессиональной жизни.
«Изъятый роман» наложил на честную жизнь Гроссмана свою жестокую печать и поставил его в поле зрения многих «прожекторов». И не было никакой мнительности, а было большое мужество, когда он понимал, что за ним следят, отдавал себе отчет, что он окружен. И в этой больнице, в этой палате, с этими снующими мимо его комнаты типами, нагло влетающими в палату сестрами. И его мучила ответственность – что он подвел, что он подвел.
Это слово «подвел» сейчас невыносимо вспоминать.
В последние годы жизни он выстроил себе однокомнатную кооперативную квартиру – в районе Аэропорта (в одном из его писательских корпусов). Чтобы работать в уединении и встречаться с теми, с кем он хотел встречаться в эти годы. Но когда дом был готов, какой-то строитель сказал ему, что в стенку его квартиры вмонтирован подслушивающий аппарат. Какие тайны, господи, какие тайны надо было узнать, чтобы мучить такого человека?
Нет, он не подвел ни в чем и никогда. Такие люди не подводят. Но было страшно, когда я поздно, в вечерние часы, уходила из этой больницы. Страшно за него, за жизнь, за себя. И это был даже не страх, а какая-то эмоционально неосознанная волна, в которую я погружалась, когда захлопывалась дверь и я выходила на крыльцо в полную ночную темноту двора, с темными корпусами вокруг. Я была одна среди этих огромных темных домов. Особенно отчетливо я ощутила это, когда кончились длинные, сказочные, летние дни… В какой-то придавленности я бежала по густым, заросшим деревьями аллеям и тропинкам огромной, безлюдной в этот час территории Градских больниц. Потом шла пешком по старой Калужской улице до Садового кольца, где на улице Чайковского стоял мой старый дом. А когда наступал день «дежурств» (Ольга Михайловна приходила утром и сидела до обеда, а потом начинались «дежурства»: мое время от пяти часов вечера до момента, как он засыпал), когда наступал этот день, не было тоски, а был даже подъем, что я снова его увижу. И по дороге я думала, как бы найти самое интересное, забавное, человечное – ему рассказать.
В те годы я слышала и такие слова:
– Как это Гроссман не смог сберечь свой роман?
И долгие годы даже близким людям не отвечала на этот вопрос. Но в больнице узнала от него то, что не могла не узнать, – что спас он «изъятый» роман… Как брел через всю Москву и ночью забросил его на шкаф в одну из комнат одной из коммунальных квартир. Ведь он был мужественным, умным и сильным человеком. А на войне и рядовые и генералы видели, как отважно вел он себя на передовой.
Сначала я хранила все это так глубоко в памяти, что боялась доверить бумаге даже слово одно. Ведь так страшна ответственность в хранении такой тайны… Потом стала что-то записывать, но иногда, чуть-чуть.
А сейчас скажу подробнее, но тоже не все. Чтобы легче было понять меня, отвлекусь на минутку в сторону.
Была у нас с ним такая форма разговора, связанная с тем, что я работала в редакции, каждый день читала разные рукописи и иногда рассказывала ему об этом. Но иногда мы меняли факты, названия, эпизоды.
Так, например, в больнице он дал мне (молча) «Все течет», и я (тоже молча) вложила ее в свою «авоську». Все годы, что я работала в редакции, я носила рукописи в прозрачной «авоське». И Солженицына, и всякую муру – «авоська» была одна. И «авоська» не подвела.
Когда я принесла назад «Все течет», то села с рукописью рядом. И сказала, что прислали ее по почте из какой-то провинции… Что я от нее в восторг пришла… Он улыбнулся довольно и стал спрашивать, что же этому автору, по-моему, удалось. А я повторяла, какой этот автор молодец и как ему все удалось… Ведь я знала, что я «четвертый читатель», и понимала, что я – последний читатель, и хотелось вознаградить его за всех других читателей.
И вот именно этим способом – по слову, по фразе, по цитате (особенно важна была роль цитат) он постепенно рассказал, что спас свой роман. Рассказывал будто о другом человеке, а руку клал себе на шею.
И мне запомнилось так резко – будто вижу его в его демисезонном пальто и шарфе, как идет он, чуть согнувшись под тяжестью романа (хотя ходил он очень прямо), и входит в узенькую комнатенку коммунальной квартиры, где у входа стоит старый шкаф.
И я хотела бы сказать о женщине, которая тут жила. Я с ней встретилась в больнице. Василий Семенович познакомил нас. Он назвал ее Лёля.
А на другой день, показывая на то место, где она сидела, он жестами и словами пояснил, что роман у нее. А когда она пришла еще раз, Василий Семенович дал ей знать, что я тоже об этом знаю.
И все эти длинные годы, после катастрофы, роман сберегала она.
И я хочу сказать отчетливо и ясно о том, что сложилось из всех разговоров с ним. Что эту лежащую на шкафу рукопись он называл своим романом. Именно этот экземпляр. Что он сам запутывал следователей при обыске своими поездками в их машине за экземплярами. И что таким путем авторский экземпляр удалось ему спасти.
Так обстояло дело к сентябрю 1964 года – к концу его жизни. В самые последние дни Ольга Михайловна вызвала меня на улицу и сказала, что Василий Семенович хочет, чтобы я знала о судьбе романа. И передала последнюю его волю: чтобы роман хранился у старого его друга Вени, имеющего свой дом в одном из подмосковных городков. И Вячеслав Иванович Лобода забрал рукопись из первого хранилища – коммунальной квартиры.
Их роль в спасении романа огромна. Кроме них, никто из близких ничего не знал.
Были часы и даже дни, когда ему становилось чуть лучше, а потом все хуже, хуже и хуже.
Даже очки уже были тяжелы, появились от них кровавые следы на висках. Но он снимать их не хотел, считал, что без очков он «не в форме». Когда я пришла один раз и в эту минуту он был без очков, то сейчас же потребовал их.
– Ко мне пришла гостья, – сказал Василий Семенович. – Я должен приодеться.
А накануне смерти сказал, протягивая руку:
– Очки!
А когда я переспросила (он теперь уже говорил не всегда внятно), сказал:
– Дайте мои очечки…
После его смерти меня спрашивали очень часто: неужели даже такой человек, как Гроссман, не понимал, чем болен, не понимал, что умирает.
И как было объяснить, не огрубляя его образ, что он все понимал, знал и называл своими словами.
Сколько раз он повторял строчки:
Тяжело умирать:
Хорошо умереть, —
написанные умирающим Некрасовым.
Но человек таких мощных связей с жизнью не может жить без надежд на жизнь.
Искры надежды так видны были в минуты, когда он принимал новое лекарство, которым в этом корпусе, как я понимала, лечили безнадежных больных.
Это были большие капсулы из желатина четырехугольной формы. И Василий Семенович прозвал их по-своему – «чемоданчики», в само это слово вкладывая те сложные чувства, которые охватывали его. Количество пилюль увеличивалось ото дня ко дню. И Василий Семенович замечал этот рост. Мне сначала казалось, что, может быть, ему трудно проглотить. Он брал «чемоданчик» в руки, долго смотрел на него, словно хотел оттянуть время, ждал, лежал, думал.
– Я не могу это сделать сразу, это очень тяжело, – говорил он.
Я спросила:
– Трудно глотать?
– Нет, – ответил он, – глотать совсем легко, они сами проскакивают внутрь.
В такие минуты он мучительно думал – надо принимать или нет.
– Это очень не просто, – говорил он, – я не могу сразу, подождите немного, пусть оно полежит рядом.
Но если ему казалось, что пропустили время, он пугался и спрашивал:
– Вы не забыли про чемоданчики?
И когда оказывалось, что не забыли, все начиналось сначала – сомнения, волнения и боль. Он ничего не делал механически, во все вкладывал душу и мысль и ясным своим умом понимал, что «чемоданчики» не принесут чудес. Каждый раз заново решал: проглотить или сбросить с тумбочки прочь. И относился почти как к живому существу – только не знал, доброму или злому.
И с часами тоже было тяжело. Он не снимал их с руки. Смотрел очень часто, а когда становилось хуже и он не находил себе места, без конца поднимал руку и вглядывался в циферблат.
Это было так трагично, что сил не было на это смотреть. Казалось, он смотрит на часы, чтобы узнать, сколько ему осталось жить.
Только в день смерти он снял часы с руки. И отчетливо и резко отделил себя от жизни. Это был единственный день, когда он не спросил, что нового в жизни, что слышно в «Новом мире». Это был единственный день, когда он не проявил никакого интереса к напечатанным вещам. Это был единственный день, когда он не попросил сесть рядом с ним.
И когда я пришла, то услышала ясный, даже какой-то отчетливый его голос:
– Дорогая, идите домой. Зачем вам мучиться…
Он умер в этот день моего «дежурства» 14 сентября 1964 года.
Мои разрозненные старые записи 1964 года, сделанные уже после его смерти, заканчивались словами, которые мне бы очень хотелось привести здесь:
Неужели его забудут, так и не узнав?