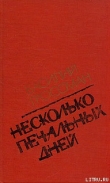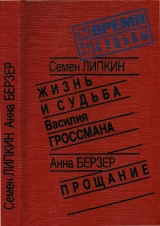
Текст книги "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание"
Автор книги: Семен Липкин
Соавторы: Анна Берзер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Многие претензии к нему, которые справедливы в большой степени, будут сняты, потому что он с первых дней, с первых часов, как попал в Сталинград, начинает действовать активно и как боец и как политический работник. Я надеюсь, что это поможет несколько этому герою существовать не под таким огнем, под который он попал на нашем сегодняшнем собрании.
Рассказывать о дальнейшем содержании книги я считаю трудным и лишним, потому что часто меняется в процессе работы и часто сам автор уезжает в другое место, хотя собирался ехать в другом направлении.
Поэтому не стоит детализировать все это.
Мне кажется, что главная часть действия произойдет в Сталинграде и будет связана с людьми, которые там участвуют.
Дальнейшие мои планы весьма обширны, так как Сталинград – явление международное.
Агитация товарища Вершигоры пока на меня не подействовала, я не придерживаюсь идеи Сталинградской хроники.
Прошу извинить меня за несколько путаную речь. Вот пока все, что я могу сказать о своей работе.
Мне бы хотелось, чтобы в будущей книге, которую я надеюсь закончить в 1954 году, – нашли свое отражение и те высказывания, с которыми я встречаюсь. Я получаю и письма, и читательские высказывания, которые очень важны.
Относительно критики первой части романа. Существует странный взгляд – журнальный вариант, книжный вариант… Пока существующий вариант романа… Это что-то эфемерное. Это произведение, которое написал автор и в котором, худо ли, хорошо ли, он выразил свою любовь к народу, ненависть к врагу. Нельзя говорить о работе, над которой он работал десять лет, что это не жизненный вариант. Это моя книга, над которой я работал всеми своими силами.
Другое дело – как она дальше пойдет. В какой форме это найдет свое место. Книга во втором томе будет говорить о тех людях и событиях, которые развернулись в самом Сталинграде.
По поводу высказываний товарищей.
Отдельные замечания. Прежде всего, мне не нужно говорить, что это начало, „крыльцо“ или недостроенное высотное здание, такой скидки со стороны критики мне не нужно. Какое это „крыльцо“ в размере 40 печатных листов? Я отвечаю за это не как за „крыльцо“, а как за жилой дом, – худо в нем жить или хорошо, – это другой вопрос.
Кое-какие беды произошли в процессе редактирования книги, потому что как она ни казалась несовершенной, рыхлой, но если кое-что изымается, кое-что переставляется, внутренний закон, по которому книга строилась, был нарушен, и оказалось, что что-то осело, какая-то стена искривилась. Вот так оно бывает.
Что касается отдельных замечаний. Насчет того, что я штабоед, это я отвергаю. Какой же я штабоед. Кстати, товарищ Гарнич, я тут получил записку от военного товарища: не огорчайтесь, товарищ Гарнич в свое время мечтал не о штабной, а о строевой работе. Я не вижу тут ничего плохого, если человек хотел перейти со штабной работы на строевую работу. Это вещь вполне возможная.
Замечание товарища Мусьякова, что штаб показан плохо, что политические работники не удались. Я признаю, есть много недостатков, в частности и эти, о которых Вы говорите.
Теперь по поводу замечаний товарища Арамилева должен сказать такую вещь. У меня было несколько глав, в которых речь шла о Гитлере и о его общей концепции, о планах его. Было несколько глав, где говорилось о вещах, которые определяют устремление фашизма к Европе, к славянским народам и действия фашистов на оккупированных территориях. По разным причинам они не были напечатаны. Лично я считаю, что при отсутствии этих глав обвинение не верно. Об этом говорится на полутора страницах, о том, что Гитлер уничтожал евреев. Это исторический факт, и в этом ничего такого, чтобы не сказать в книге, которая посвящена борьбе советского народа с фашизмом, нет. Я не вижу никакого криминала, который старался, грубо говоря, пришить Арамилев. Книга вся написана о борьбе советского народа с фашизмом, и говорить, что в этой книге, где тысяча страниц, на полутора страницах сказано о задачах фашизма, не верно. На протяжении всей книги говорится, что делали фашисты и как боролся русский народ с фашизмом.
Я считаю это обвинение недобросовестным и не принимаю его, хотя оно формулировано довольно жестко.
По поводу выступления полковника Крутикова.
Он считает, что мои формулировки не ясны, и приводит ряд формулировок.
Товарищ Крутиков, я могу Вам сейчас все это разъяснить, но это бессмысленно: я не могу разъяснять это каждому читателю. Если Вам кажется это неясным, значит, для Вас это неясно, и устное разъяснение автора мало что может в таком случае сделать.
С большим вниманием прослушал я пожелания товарища Вершигоры, хотя и не принял их. Также прослушал я внимательно и заключительное слово товарища Суркова.
Могу повторить, что я весьма признателен за эти замечания и критику, которая порой была сурова, но критика всегда идет на пользу автору и никогда не проходит для него даром. Конечно, не непосредственно, как мичуринские огурцы превращаются в мичуринские помидоры, но в какой-то форме эта критика всегда доходит.
Надеюсь, что в дальнейшей моей работе, если вам будет угодно прочесть, когда ее напечатают, вы увидите, что и это наше собрание не прошло для меня даром. Еще раз спасибо».
Да, он прервал обсуждение и ушел. И этот его приход в «Новый мир», по существу, – уход. Но в речи его запечатлено, как сдерживал он себя, как выбирал слова. Сколько здесь печали, такта, ума, тоски от непонимания… И нет ни одного слова, которое не дышало бы правдой.
Твардовский:
«…Мне осталось принести от имени редакции большую благодарность всем принимавшим участие в обсуждении романа, всем пришедшим по нашему зову на эту беседу.
От необходимости более подробного заключительного слова меня избавил товарищ Сурков, который с большой ясностью и толковостью подвел итоги нашей беседы.
Я только потому позволю себе задержать ваше внимание, что заключительное слово товарища Гроссмана меня крайне не удовлетворило.
Мы все сошлись на том, что обсуждаем чрезвычайно значительное произведение, и самый характер нашей беседы, и интерес к этому произведению, – все это, бесспорно, говорит в пользу этой книги.
Очень огорчителен для всех присутствующих тот своеобразно пренебрежительный, отчасти барственный тон, с которым товарищ Гроссман отозвался на замечания, высказанные здесь от большой любви к нему, от горячего сердца, – и иногда очень толково.
Я не согласен с товарищем Сурковым, когда он обвинил товарища Крутикова как бы в выдергивании цитат. Выступление товарища Крутикова тоже было вызвано доброжелательностью к этой книге.
И однако, когда он говорит о несостоятельности некоторых философских показателей, о неловкости его формулировок, то дело не в формулировке, неловких фразеологических оборотах, а дело в том, что эти показатели имеют поддержку и в другом плане. Это излюбленные идеи, от которых мы должны помочь Гроссману избавиться. Это отрицание сознательного начала, это то, что в тексте романа осталось. У нас не хватило сил очистить до конца. Это не так легко очистить в тексте романа, но труднее из головы человека. Мы пытались помочь в этом деле, и когда на совершенно существенное замечание товарища Крутикова товарищ Гроссман говорит: если Вам непонятно, Вы не доросли, я Вам объяснять не буду, это не верно.
Надо писать отчетливо, недвусмысленно, чтобы не разъяснять каждому читателю.
Замечание полковника Маркина относительно того, что центральный эпизод разыгрывается в несколько искусственной изоляции от общей Сталинградской битвы. И если бы при всей трагичности положения батальона на вокзале было дано общее ощущение силы, от этого эти страницы только выиграли бы. Я вспоминаю, как мы настаивали, чтобы у этих людей, обреченных, некоторое облегчение было от сознания той силы, которая двигается им на выручку.
Пусть они погибли, но пафос их гибели и значение их гибели только выиграли бы от этого. Здесь же есть элементы того, что как бы искусственно отрезаны люди, они говорят о себе: я был. Даже на подводных лодках, где люди прекрасно понимают всю безнадежность, и там не исчезает ощущение внешнего мира и товарищей, которые могут оказать им помощь. Художественная выразительность воздействия на душу читателя от этого нисколько не пострадала бы, а наоборот, выиграла бы.
Одно из существенных замечаний у товарища Крутикова, что особенность советского патриотизма шире, богаче, чем тот патриотизм, который иногда прорывается у Гроссмана. Этот грех у него есть. Этот упрек надо принять, чтобы избавиться от этого греха, который у него есть.
У него как бы есть стремление очистить человека от всякой физиологии. Идет Вавилов, идет крестьянин, который любил небо, любил землю, жену и детей, и он идет на войну, чтобы вернуться к жене и детям. Все не так просто.
Современный советский человек, самый простой человек, осложнен множеством различных отношений, различных воздействий и влияний на него.
Наконец, он должен был посчитаться с замечаниями товарища Мусьякова, который притворился рядовым читателем, но это высококвалифицированный читатель, и есть подозрение, что он и сам пишет.
Он указал на композиционную разбросанность, неуловимость всех этих „рукавов“.
Выражение „крыльцо“ говорит о незаконченности, о том, что имеется много не доведенных концов, много обрубленных ветвей, много обещаний, которые не осуществлены. Думаю, что товарищ Гроссман должен был и на это обратить внимание.
Товарищ Арамилев, конечно, допустил неправильное сближение концепций советского писателя Гроссмана с концепциями нацизма у писателя Фейхтвангера. Это оскорбительно. Но в некоторых своих замечаниях он был полезен для товарища Гроссмана.
Как неприятно писателю, когда его упрекают, говорят, что недотянуто, когда дают советы, а тебе кажется, что ты умнее всех. Это свойственно авторской природе. Однако в таких случаях надо смириться, с большей терпимостью относиться к замечаниям товарищей.
И стоило бы даже в заключительном авторском выступлении проявить несколько большую скромность.
А в остальном считаю наше собеседование очень содержательным, очень плодотворным, несмотря на то, что получилось немного неловко перед нашими военными гостями, – писателей пришло мало и выступали они недостаточно активно.
Несмотря на односторонность этого взаимодействия, мне кажется все-таки, что эта беседа имела свой смысл и она послужит не только итогом и уроком для товарища Гроссмана, не только итогом и уроком с точки зрения редакционной практики, поскольку мы ждем дальнейшей части романа, но и в смысле всей нашей литературной критической жизни, литературной общественности. Эта беседа представляется мне не случайным местом, не пустопорожним разговором, а разговором, во многом содержательным, существенным, действенным и во многом цельным.
Еще раз – спасибо, товарищи!»
Заключительное слово Твардовского и речь Гроссмана я привела полностью.
Их неповторимые характеры, их столкновение, скрываемый и сдерживаемый поток чувств запечатлены на этих страницах. В печальный для нашей жизни момент истории…
2 февраля, когда проходило это совещание, партийная печать еще молчала.
Но хлынула эта лавина…
Через десять дней после совещания в «Новом мире» – 13 февраля – статья Бубеннова в «Правде», потом редакционная статья в «Литературной газете», статья Лекторского – в журнале «Коммунист»… Очень быстро одна за другой.
И Бубеннов – уже не Бубеннов, а «партийная печать». И все покатилось со своих (и прежде сдвинутых) мест.
«О романе В. Гроссмана „За правое дело“» – так называется информационная заметка в «Литературной газете».
В ней мы читаем:
«Ниже печатается присланное для опубликования в „Литературной газете“ постановление редакционной коллегии „Нового мира“, подписанное главным редактором журнала А. Твардовским и членами редколлегии Ан. Тарасенковым, В. Катаевым, К. Фединым, С. Смирновым.
В № 7, 8, 9,10 журнала „Новый мир“ за 1952 год была опубликована первая часть романа В. Гроссмана „За правое дело“. Это произведение подвергалось критике в ряде писем читателей, на обсуждении, проведенном в редакции журнала 2 февраля с. г., на читательской конференции в ЦДСА, а в последнее время на страницах „Правды“».
Идет перечисление статей и авторов.
«Редколлегия журнала „Новый мир“ считает, что эта критика вскрывает серьезные идейно-художественные пороки романа В. Гроссмана, посвященного ответственной теме Сталинградской битвы.
Исходя из глубоко неверной, доморощенной философской концепции…
Исчерпывающие ясные сталинские положения о причинах возникновения… Гроссман подменил…
Редколлегия считает, что она обязана извлечь все уроки из совершенной ею серьезной ошибки…
Редколлегия считает необходимым чаще привлекать коллектив коммунистов…
Редколлегия просит Секретариат ССП в ближайшее время принять меры к укреплению состава редакционной коллегии „Нового мира“».
Не буду я это переписывать – от точки до точки. Хотя временами кажется, что это цитаты из «Теркина на том свете»…
Письмо напечатано в «Литературной газете» 3 марта 1953 года.
Тем же числом – 3 марта – было помечено «Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.
Центральный Комитет Коммунистической партии и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье – тяжелой болезни товарища Сталина. В ночь на 2 марта…»
Так оба события произошли в один день.
«Слушали – постановили»
Для того чтобы читатель до конца понял смысл и характер событий, которые встанут перед ним со страниц публикуемой ниже стенограммы, мы считаем необходимым сказать несколько слов.
Время действия этих событий – 24 марта 1953 года. Место действия – улица Воровского, дом 52, особняк Союза писателей, где идет заседание Президиума вместе с активом писателей. Мишень поношения и разгрома – писатель Василий Гроссман и его роман «За правое дело».
Стенограмма заседания Президиума правления Союза советских писателей отражает состояние советского общества в момент смерти «товарища Сталина». Именно в этот момент.
Не пытаясь определить, какой период сталинской эры был самым беспросветным, скажу только, что последний период его жизни имел свой законченно чудовищный облик.
У нас нет об этом времени книг и исследований, но собственная память и ненаписанная история нашей литературы помогают определить вехи этого периода.
Его начало – август 1946 года, отмеченный постановлением ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», принятым по указанию Сталина. С этого времени забота Сталина о литературе становится прямой и неотступной. Литература для него – орудие в идеологической борьбе, в холодной сталинской войне. Постановлением «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» открылась бесконечная борьба за идейность советской литературы против безыдейности.
Топтали Зощенко и Ахматову, били Андрея Платонова, разоблачали платоновщину и ахматовщину, били тех, кто их печатал, и тех, кто их хвалил, залили помоями «пошляка» Хазина, «упадочные» стихи Алигер и Берггольц, закрыли журнал «Ленинград», разгромили редакцию журнала «Звезда», а потом и журнала «Знамя». Разнесли «ущербную» повесть Казакевича «Двое в степи», «порочную» повесть Мельникова «Редакция», «вредную» пьесу Гроссмана, «реакционное» творчество Достоевского, «аполитичную» поэзию Пастернака, «клеветническую» детскую сказку Корнея Чуковского «Бибигон», «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, творчество Александра Грина и многое-многое другое.
С 1946 года по решению Сталина стала выходить специальная газета – орган ЦК – «Культура и жизнь» для разгрома искусства по директивным указаниям Сталина. Газету эту шепотом прозвали «Культура и смерть», а потом «Смерть культуре».
В 1947 году Сталин взвихрил новую войну (не оставляя прежней): изнурительную глобальную борьбу с низкопоклонством по всем фронтам литературы, искусства, науки – с рабским пресмыкательством перед растленной культурой Запада. В ход пошли монографии и вступительные статьи, ученые записки и историко-литературные курсы. Громили учебники, ученые статьи, разгоняли ученые кафедры с лучшими профессорами, били менделистов-морганистов, «лжеученых» всех мастей и званий во всех науках всех республик.
В 1949 году взмыла ввысь новая кампания – борьба с безродными космополитами, «беспачпортными» бродягами, антипатриотами, критиками, которые, как это только что выяснилось, замыслили смести с лица земли все ценности русской культуры. Все это к 1950 году вылилось в борьбу с сионистами, агентами никому тогда не известного «Джойнта», а потом – в дело врачей-убийц, отравителей в белых халатах, диверсантов, поджигателей войны. В разгар этой кампании террор был направлен прежде всего против евреев. Но в атмосфере террора жили все советские люди. Одних арестовали, других (не хватит бумаги, чтобы всех назвать) изгоняли из жизни иными убийственными методами. Но мы не будем углубляться в историю. Наша задача только напомнить о том времени, чтобы легче было понять и представить, что именно в эти черные и мрачные дни, на выжженной, казалось, земле, на фоне карикатур с еврейским длинным носом, воя статей с огромными заголовками «Что такое Джойнт?», «Будьте бдительны!», фельетонов и статей об евреях-убийцах, о белых халатах, скрывающих американских шпионов, – что на этом фоне печатается благородный роман Гроссмана, исполненный любви, сострадания и уважения к людям.
Из нашего времени мы можем сказать, что это было победой литературы и символом того, что она жива. Роман Гроссмана «За правое дело» вышел в свет в конце 1952 года в журнале «Новый мир».
В чем причины этого чудесного события?
Прежде всего – мужество и непоколебимость писателя, создавшего этот роман и твердо стремящегося, чтобы он увидел свет.
Никто не знал, что шли последние месяцы жизни Сталина, Гроссману оставалось продержаться тридцать-сорок дней.
В январе все газеты, все страницы буквально забиты (яблоку негде упасть!): «Гениальный труд товарища Сталина!», «Экономические проблемы социализма в СССР!»…
В январе… «Врачи-убийцы, ставшие извергами рода человеческого, состоявшие наемными агентами иностранных разведок…»
«Вовси заявил на следствии, что он получил директиву об истреблении руководящих советских кадров через известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса…»
А в следующем январском номере передовая – «Бдительность». Под ней – огромными буквами – «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л. Ф….»
«За помощь, оказанную Правительству, в деле разоблачения врачей-убийц наградить…» «20 января 1953».
В начале февраля 1953 года передовая в «Литературной газете» называется «Принципиальность», а другая – «Быть правдивым и честным», где сказано, что «быть правдивым и честным» учит нас «товарищ Сталин». Публикуются новые материалы о «группе врачей-вредителей».
12 февраля 1953 г. – главный материал газеты: Аркадий Первенцев – «Воспитание бдительности». О том, что необходимо «воспитывать» ее у маленьких детей – на примере новой пьесы писателя Цезаря Солодаря «У лесного озера», «которая остро и интересно ставит вопрос о бдительности с юного возраста».
Так движется время… Январь, февраль…
Гроссману осталось продержаться десять – пятнадцать дней.
Но не дремали сталинские опричники, которые выросли и сформировались в эти годы на разгромах и уничтожении. Один из самых оголтелых – Бубеннов, автор «Белой березы», в эти дни обратился прямо к Сталину по поводу романа Гроссмана. Он послал ему свой огромный донос. И по указанию Сталина этот донос в форме статьи Бубеннова «О романе В. Гроссмана „За правое дело“» был напечатан в «Правде» 13 февраля 1953 г.
После этого «дело Гроссмана» стало расти, как «дело врачей». За роман снимали с работы, подлецы провоцировали разговоры о нем, ловили каждое неосторожное слово, чтобы передать и растоптать. По всем газетам и журналам прокатилась волна испепеленных ненавистью статей, по всем редакциям и издательствам – серия собраний с поношениями и проработками.
Роман был назван диверсией, от него отказались почти все, кто его хвалил, печатал, рекомендовал, называл, принимал.
В зловещей пустоте Гроссман остался один.
«Дело Гроссмана» было, наверно, последним злодейством Сталина. По неписаному ритуалу все должны были каяться, бить себя и бить других. Для этой цели и собрался Президиум правления Союза писателей вместе с активом 24 марта 195 г. Собрался для выполнения прямых указаний Сталина тогда, когда самого Сталина уже девятнадцать дней не было на нашей земле. Как в «Страшной мести» и «Вии» Гоголя… И если вести исчисление по дням (а в эти страшные месяцы – по секундам и часам!), то к этому следует только добавить, что до светлого дня освобождения врачей – 4 апреля – остается десять дней. Но никому из присутствующих здесь не было дано даже смутного предчувствия о нем.
24 марта 1953 г.
Стенограмма заседания Президиума Правления Союза советских писателей вместе с активом писателей[41]41
На папке написано – «хранить постоянно». Я выполнила это предписание.
[Закрыть]