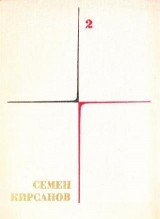
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Фантастические поэмы и сказки"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
подушки в пуд пуховые,
сто тысяч птиц ощипано,
пружинами пищит она.
Пора, уж ночь, и ждать невмочь. Браду на грудь повесил он, устал, зевается хрычу.
А вот царице весело: «Гулять хочу, плясать хочу!»
Дан знак скрипачам,
чтоб расправили усы
и приставили к плечам
Страдивариусы.
Пианисты
забренчали,
тромбонисты
заурчали,
шестеро
капельмейстеров
палочками
постучали,
чтобы трубы
помолчали.
Что играть —
назначили,
начали!
Вышла Настя на круг, вынула платочек, настучал каблук сотню многоточек:
– Чтоб пеклись на печи
новые царевичи,
эх, дайте почин,
скрипачи гуревичи!
Ты не кукси, кума,
лучше Макса нема,
я царей нарожу
выше максимума!
Поздравляй, народ,
С коронацией,
станет Настин род
скоро нацией!
Эх, тех-тех-тех,
девка Настя я,
у меня в животе
вся династия!
Отплясалась, села, часто дышучи. «Царь, пора нам отсель. Вишь, гостей окосело уже больше тысячи. А пойдем мы с тобой не в постель, а на стог духовитого сена. Я-то знаю, что ценно. Айда на сеновал, да чтоб крепко там целовал. Эй, девчата, подать сарафан! Да чтоб был к утру самовар».
За ночь оба утомилися.
В баньке доброй утром мылися.
В новой спальне двери заперли.
Может, спали, может, чай пили.
Сказ пятый
А с того сеновала восемь с четвертью лун миновало.
И приносит Настасья к Максову трону первую тройню царевичей – пузанов, крикунов, ревмя-ревичей, пухлых, как куклы.
С вихорьками головки, как луковки, земляничные ротики и животики точно тыковки. «Носы тычком, волоса торчком!» – зашептались чевой-то вельможи. «Цыц! Пасть ниц! Говорить, что похожи!»
Нету края радости царской, сам трещит перед ними бубенчатой цапкой, перстами щелкает, устами чмокает, назначает Фадея к царевичам дядькой. Награждает медалью. Доволен.
И чтоб бить с колоколен четырнадцать дён. Первый колокол с дом и с червонец последние.
Бей, звонарь Спиридон, в громовые, медовые, медные.
Ранним утром до зари
влезли наверх звонари.
Спиридон, Мартын, Антон
начали перезвон.
День и ночь деньги вниз
с колоколен тренькались,
падали как миленькие
гривенники, шиллинги,
стерлинги, пфенниги, —
деньги, деньги, где ни кинь.
В била бил звонарь Мартын —
медный сыпался алтын,
а за ним полтинники
и пятиалтынники.
Тонко тинькали за ними
центы, пенсы и сантимы,
форинты и крейцеры,
чтоб росли скорей цари.
Зазвонил звонарь Антон,
гудом полон град Онтон,
забубнили гульдены
золотыми бульбами,
в колыбели на перины
дробно сыплются флорины,
колокольня – ходуном,
звон – серебряным рублем.
Рукавицей дубленой —
ан – ударил Спиридон!
За рублем дан дублон,
ливнем хлынули дублоны,
потонул в дублонах трон,
балдахины и колонны
в грудах гульденов и крон,
и повсюду – где ни стань —
на рожденье платят дань,
что ни день, что ни день —
дань течет из деревень…
Отзвонили праздничный благовест, накричались принцы, наплакались, дело их. Отбаюкали первых троих, молоком из грудей отпоили, из Царь-пушек про них отпалили, слышь – вторые пищат, заагукали. Только год, и опять же – приплод. Вот какой переплет. Настя к трону приносит тройню вторую – двух сыночков и дочь.
И опять же пируют.
Что ни день, что ни день —
дань течет из деревень,
за дорогу, за корову
деньги сыплются в корону.
Год еще прочь, и Настасья царю-государю к столетью третью тройню везет. Государю везет! Только стал он тревожиться очень. Озабочен, потерял и сон и покой. И понуро глядит, не осанисто. Полюбил он сыночков любовью такой – всех желает устроить в цари. Вдруг какой без престола останется? Межусобья начнутся да мести. Пусть царят себе вместе! Стульев хватит на всех. В государстве-то, эх, все на царские плечи. Всем семейством-то легче.
Как четвертую тройню жена зачала – стал, болезный, слабеть и хиреть. Не подымет с подушки чела. Так он с этой работы состарился. От лекарств не окреп и ослеп на один глаз.
И зовет он писца да нотариуса, чтоб писали последний указ.
Что ж! Процарствовал за сто. Вот он, этот указ-то:
Мы,
царь Макс-Емельян,
венчанный
самим богом на царство,
завещаем на веки вечные
верноподданному народу,
дабы
не свершилося бы
прекращения нашему роду,
отныне и присно
и во веки веков —
каждого нашего принца,
счетом бы ни был каков,
сына, и внука,
и правнука всякого,
только родится, —
на царство венчать.
И купно на трон всем садиться.
Крест поставил, подвесил печать восковую, с монаршим гербом.
Плачем, значит, исполнится дом. Попросил еще царь, чтобы подали квасу со льдом, самолично проверил указ, руки сложил на бороду, посмотрел на свою жену молоду в левый глаз и угас на сто первом году.
А за сим новый сказ.
Сказ шестой
Ветх Онтон-град, а немало в нем рвов да крепких оград от своих же воров, не свершилась бы кража.
У онтонской стены на часах стоит стража. Арбалеты в руках, скорострелки. А на башенных звонных часах Стрелки ходят что медные раки в тарелке и клешнями ведут – час да час. День взошел, день погас. Вместо чисел мудреные знаки. И на солнечных ходит часах треугольная тень – часовым при воротах. Указует на срок в поворотах. И песок из сосуда в сосуд просыпается. Засыпает дворец, просыпается.
Что ни день – полдень бьет Спиридон, что ни ночь – бьет он полночь. Помер он – бьет часы Спиридоныч. И клешнею своей рак ведет. Так что время идет.
Лет прошло эдак двести.
Не имелось бы вести о тех временах, кабы около колокола в тайной келье не сидел бы ученый монах и не вел бы свой временник. На бараньих лощеных пергаментах – буквы разные в дивных орнаментах. Звери, змеи глазеют из них грозноглавые. И творение озаглавлено:
«СОЧИНИХ
СИЮ ВЕКОПИСЬ ПАМЯТНЫХ КНИГ
СМИРЕННЫЙ МНИХ
HEKTOP НЕТОПИСЕЦ
И всему свое время проставлено!
В Лето Семь Тысяч.
Царь Макс-Емельян заболел и почил. В народе стон и несчастье.
Царенье вручил королеве Настасье и сынов своих дюжине.
Сыны выросли дюжие.
В Лето Семь Тысяч Пять.
Стон опять. Порядки Настасьины строги. На столах недосол. Судью Адью посадила в острог и Агриппа на постный стол. Дни грозны. Барон Ван-Брон при публике высечен, три тысячи взял из казны. Герцог Герцик за козни уволен. Двор недоволен, и прав. Народ в печали.
В Лето Семь Тысяч Пятнадцать.
Веселие велие. Дюжину скопом на царство венчали. Царскую службу дабы нести, сидят на престолах двунадесяти в грановитом покое.
Про них описанье такое:
царь Андрей пребывал в хандре,
царь Василий глядел, чтобы яйца носили,
царь Касьян составлял пасьянс,
царь Лазарь на него мазал,
царь Пров ел плов,
царевна Фелица помогала коровам телиться,
царь Герасим был несогласен,
царь Пахом баловался стихом,
царь Цезарь был цензор,
царь Савва вкушал сало,
царь Ерофей на дуде корифей,
царь Федор был лодырь,
а царь Кирилл всех корил.
Всем правителям выданы титулы – о народе радетели, народа родители.
В Лета Семь Тысяч Двадцатые.
Брюхаты двенадцать цариц. Все принесли по тройне, и каждому быть на троне. Дел золотых мастера пали ниц, в дар принесли по короне. Стало царей полета, в лавках не стало холста, пошел царям на подстилки. Баб сгоняют для стирки.
В Лето Семь Тысяч Семьдесят Семь.
Худо совсем. В небе огненный хвост, летящий и реющий. В народе пост. От цариц родилось пять сотен царевичей. К купели хвост. А Максом завещано: что родилось – долженствует на царство быть венчано. Стало пятьсот царей. Забили всех наличных зверей, а мантии справили. Срубили на троны рощу дубов. Престолы поставили в двадцать рядов. По три сажают на трон, дабы уселась династия.
Лето еще.
Померла всеблаженная Настя. В народе стон. Воцарилось молчанье и страх. Сообщают о новых царях:
царь Ираклий затеял спектакли,
царь Аким был не таким,
царь Констанций устраивал танцы,
царь Альфред наложил запрет,
царь Георгий был пьяница горький,
царь Нил не курил и не пил,
царь Тарас полказны растряс,
царь Павел это поправил,
царь Юрий завел райских гурий,
царь Даниил сие отменил,
царь Евлахий постригся в монахи,
а царь Федот оказался не тот.
Лето новое.
Вновь пять тысяч царей короновано. Корон уже нету. А каждый велит чеканить монету, чтоб имя и лик. Гнев монарший велик. Как царить без венца и жезла? Ищут корень зла.
Пять тысяч строжайших указов объявлено, а все же корон не прибавлено – нету их. Дальше – хуже, с царской службы дел мастера золотых – будто в воду бултых. С ними и злато. Град Онтон дрожит от набата.
В некое Лето.
О, великое бедствие – из града Онтона всеобщее бегствие: пропали пирожники и ткачи, сапожники и ковачи, некому печь калачи. В полдень вчера огласилось известие: со двора убежали все повара с бочкой икры из Астрахани. Ни цари, ни царицы не завтракали. Пламень на кухне погас. Издан был августейший указ – звать из трактира Парашу. Цари ели пшенную кашу. О, печаль! Царский род осерчал. Порешили – Фадея прогнать, титул отнять. А порядок дабы не погиб, согласилось собранье все-царское – возвращается граф Агрипп на сидение статс-секретарское. О, юдоль бытия! Истинно писано – все возвернется во круги своя.»
Таково сообщение Некторово. То ли после бедствия некоторого – червь ли, жук ли, – а листы остальные пожухли, источены оченно, и ни буквы на них не прочесть. Ну, что есть!
А смиренному Нектору честь.
Кому сказ, кому сказка, а мне бубликов связка.
Сказ седьмой
Кроме грамот и указов, Симеоновых сказов о былом той земли, в том ли, этом ли веке в приходской библиотеке люди книжку нашли.
Начитаешься вдосталь – псалтыри, Библии, «Руководство – куроводство как вести с прибылью», водевиль «Муж-любовник», календарь и письмовник, том насчет борщей и щец госпожи Молоховец, альманах «В час досуга», книга «Божий завет» и «Что делает супруга, когда мужа дома нет».
Между прочим, там имелась сказка детская одна. Историческая ценность в ней содержится. Она с сокращеньями дана:
За высокими горами,
за далекими морями,
без обмана говоря,
удивительное было
государство, где царило
двести тысяч три царя.
Двести тысяч непорочных,
три сомнительных, побочных.
В результате поздней страсти
к молодой царице Насте
некий царь Макс-Емельян,
то ли спятив, то ли пьян,
повелел беспрекословно
все потомство поголовно
воцарять, короновать,
никого не миновать.
У фамильного палацца,
как горох, цари толпятся.
Кто успел и поседеть,
ожидая, чтобы дали час
на троне посидеть.
Каждый жаждет на медали
свой в короне видеть лик,
с указаньем, что велик.
А медаль попробуй высечь,
ежли ликов двести тысяч,
хоть чекань на модный грош —
всем грошей не наберешь.
Стольный град кишит царями,
вьется за город черёд,
Александры за Петрами,
Николаи прут вперед.
Тесно в очереди к трону.
Если новые встают —
мелом метят им корону.
Спорят, метрики суют.
У иных к груди подвешен
личный титул – понимай,
кто стоит, – Долдон Мудрейший,
Миротворец – царь Мамай.
Тут же в очереди торг.
Тайно шепчет царь Георг:
– За посидку на престоле
отдаю полфунта соли. —
Предлагается елей,
чтобы лить на королей.
– Продается, не хотите ль,
титул «Царь Освободитель»,
по дешевке уступлю. —
Шепот: – Очередь куплю. —
Покупает царь Малюта,
у него нашлась валюта,
и по этому сему
раньше царствовать ему.
А ведь каждый алчет власти,
алчет мантию надеть,
каждый бесится от страсти
хоть на час, а володеть.
Каждый в очередь входящий
жаждет жить верховодяще,
приказать и указать,
подпись царскую поставить,
на раба сапог поставить,
непослушных наказать.
Но – фамилия громоздка,
двести тысяч – вот загвоздка!
Впрочем, трудность решена:
чтобы все достигли цели,
власть по типу карусели
в той стране учреждена.
Карусель на площади.
Только вместо лошади
мчится там за троном трон.
Тут же выдача корон —
позолоченный картон.
Карусель несется быстро,
наблюдают два министра.
Царь садится и царит,
речи с трона говорит.
Дату ставит летописец,
лик рисует живописец,
сочиняет стих пиит,
и покуда царь царит —
говорит он сколько влезет,
только слезет – новый лезет,
и опять такой же вид —
полчаса монарх царит,
дату ставит летописец
лик рисует живописец,
сочиняет стих пиит.
Граммофон играет гимн,
поцарил и дай другим.
Сдал бразды и тут же сходит
новый царь на трон восходит
речь народу говорит,
дату ставит летописец,
лик рисует живописец,
сочиняет стих пиит.
Карусель несется быстро,
наблюдают два министра,
нет и крикнут на царей:
– Не тяни! Цари скорей!
За наследником наследник!
И уже во граде том
лишь один остался медник —
бьет медали молотком.
На весь Двор один аптекарь,
он же лекарь, он же пекарь,
один ткач, и тот портач,
один кучер, пара кляч,
один знахарь, он же пахарь,
сохранился и палач,
он же царский парикмахер,
один кравец, один швец,
так что дело неважнец.
В силу памятных традиций —
им, царям, запрет трудиться,
дело их – держать бразды,
хоть порфиры не без дыр,
и лишились всех излишеств
двести тысяч их величеств,
потому что в некий год
от царей сбежал народ,
и от сеющих и жнущих,
шьющих, ткущих и пекущих
не осталось и следа.
За два века – кто куда!
Оттого и недоволен
грозный царь Аника-воин.
Что ему картонный трон,
летописец, живописец,
рифмоплет и граммофон?
Над царишками хохочет,
власти хочет, саблю точит,
но ни слова никому,
а себе лишь одному:
– Сам себя царем поставлю,
лобызать сапог заставлю,
встречу если Смерть саму —
черепушку ей сыму!
А пока во граде оном
шла такая карусель —
сирота жила Алена
полкилометра отсель.
Весть хозяйство ежедневно
приходилось ей самой,
хоть была она царевной
от Настасьи по прямой.
Не гнушалась ни мотыги,
ни иглы, ни помела,
хоть ее в гербовой книге
родословная была.
Нравом вышла непохожей
ни на мать, ни на отца,
а была она пригожей —
ровно солнышко с лица!
И кругла, как то светило,
и душой теплым-тепла,
и сама собой светила,
когда ночь темным-темна.
А идет, как чудо носит
коромыслом два ведра,
подгулял маленько носик,
но Алена им горда.
А какая недотрога!
Подступиться и не смей.
И хранила тайну строго
о прабабке о своей.
У нее была бумажка,
и не сказка, и не ложь,
что цари – не все от Макса,
от Фадея были тож —
у кого носы тычком
и вихры стоят торчком.
А цари иные все
были с римскими носами
и с такими волосами,
как смола на колесе.
Уж и сватались к Алене!
Свахи шли, цена дана,
предлагали ей на троне
прокатиться, но она…
Но она, – тут запятая.
Тщились многие умы
разузнать, тома листая:
что Алена? Но увы,
неизвестно, где хранится
окончанье сказки той.
Кто-то вырвал все страницы
после этой запятой.
Ах вы, титлы, запятые, алфавиты завитые, буквы-змеи и орлы на листах раскрашенных, вязью разукрашенных, – вы мне дороги, милы! Ах вы, сказки-присказки о любовях рыцарских, драгоценные ларцы – буква Ферт, буквы Рцы, – о Францыде с Ренцивеной, о Дружневе, о любви королевича Бовы. Василиски, Сирины, с очесами синими! Сколько раз из-за вас мучилси, томилси, из-за вас один раз чуть не утопилси. Сколько нас в полон ушли из-за той Аленушки, что по травам шла босой с распустившейся косой! Ах, глаза – два озера, ах, любовь без отзыва, может, помнит адрес он – сын Хрисанфов Симеон?
Сказ восьмой
Говорит Симеон, сын Хрисанфов:
– А ведь сказка – ложь не всегда.
Препожалте сюда, господа хорошие.
Вот местечко, плетнем огороженное, ранним овощем ровно поросшее, вот сарай, закрома.
И живет тут царевна Алена, не румянена, не белёна – хороша сама.
И Аленин домок что скворешник, и растет там, конешно, орешник, и орешек на нем золотой. Он для белки, вон той.
Убедитесь, пожалуйста, сударь, – дом как дом, есть буфет, в нем посуда. И зайдет если царь победней обогреться – есть наперсток винца, огурец, найдется и мисочка щец, слово милое, отдых.
А бывали у ней три царя худородных – до седых дотерпели волос, но царить им не довелось. «Прочь иди!» – гнали из очереди. Царь Таврило – Не Суй Свое Рыло, царь Ераст – Бог Подаст, и царь Родион – Поди Вон.
И царить-то им ни к чему! Каруселищу как чуму невзлюбили. Три царя пристрастившись были кто к чему: царь Ераст был горазд пилить и строгать, Родион – вроде он – мастер песни слагать, а Таврило – царь худородный – выше ставил труд огородный. А нельзя, раз высокое звание. Остается одно зевание.
Цари тихие, битые, в очах печаль, хлебца просят немытые чада, жены тряпки стирают в ушатах, а поесть-то ведь надо? И царевне Алене их жаль. Все на свете – соседи! Вечерок скоротают в беседе, о косьбе, о себе, о судьбе говорят. Выйдут гости из дому, и Алена для малых несытых царят хлеб сует – то тому, то другому. Вот какая была!
А себя блюла.
А блюсти себя не легко – есть корова, дает молоко, а как пахнет слоеным тестом! Как-никак, а невеста.
И повадился к ней знаменитый герой, воин Аника. Попробуй его прогони-ка! Грудь горой, усища чернейшие вьются кольцом. И в глазах по черной черешине. Ходит к Алене с венчальным кольцом.
Саблей грохочет – свататься хочет: «Замуж иди! Любовь, мол, клокочет в груди. Растопчу, кого захочу, государство тебе отхвачу».
Но Алена ему – на порог, не тебе, мол, печется пирог, заложила калитку на палку – и за прялку. Тянет нить, чтобы кружево тонкое вить. Час садиться и солнцу. Вечер долог, а дорог. И поет своему веретенцу:
Расскажи-ка ты,
веретенце, мне,
кто мне чудится
по ночам во сне?
Веретенце жужжит, ничего не рассказывает, у Алены слезинка на щеку соскальзывает, и она, погрустив да помедливши, напевает о том же, об этом же:
Где его найти
и в какой стране,
расскажи-ка ты,
веретенце, мне.
Веретенце жужжит, ничего не рассказывает, и царевна оборванный связывает с концом конец, прикрывает ставнем оконце. И снимает венец с золотого чела, вяжет лентою косу ржаную, гасит жаркий светец, разбирает постель кружевную – сама плела. И как будто в ладье поплыла.
И как будто глядят на нее в глазок молодецких два глаза. Посмотреть бы на них хоть разок! Да они из десятого сказа.
Сказ девятый
Скоро сказка сказывается,
не скоро дело делается.
В домах Онтона-города
на ложах с балдахинами
без простыней и наволок
уснули их величества,
уснули, не поужинав,
проснутся, не позавтракав,
и, сим обеспокоенный,
в казенной канцелярии
не спит его сиятельство
вельможный граф Агрипп, —
подбородком к конторке прилип, хрипло дышит в халате наваченном шелковом, цифры грифелем пишет да костяшки на счетах отщелкивает – сколько лакомой снеди осталось? Малость самая! Залежалась еще шамая, да ее не приемлет душа моя. Стал стар, и катар. И вести королевство не просто. Чем прокормишь царей двести тысяч? И пшена-то в амбаре не сыщешь. Сводит лоб от сего вопроса. Околела свинья, что была супороса, по незнанью поев купороса. Пахарь-знахарь опять не привез ни овса, ни проса. Огород лебедою порос. Пустота на столе и в стойле. Голод грядет, бескормица! Что ли, в другое царство оформиться? Да оформят ли? Ой ли!
Папку с делами открыв, граф Агрипп разбирает архив.
Дай памяти, бог, – кто помог Емельяну? А не бог! Глянул – к чертежному плану приколот старинный листок. А на нем адресок пустынника некоего.
Двести лет – долгий срок! Может, нету его?
Он-то, он может выручить город Онтон! Может, в гроб еще не положен?
Граф Агрипп-то раз пять уже омоложен, заморожен и вновь разморожен. И живет. Только пучит живот от дурного меню.
Вот и план расчертежен – луга, стога, полей триста га, пустырь, монастырь, дорога. Круто, полого, справа – канава, слева – дубрава, в сосенках – просека, к старому пню, посреди рощи. Чего проще?
Подойду и ответить вменю:
– Ваше Пустынничество! В чем причинность того, что ни сена коню, ни нюансов в меню, спаржа даже гниет па корню и крапива? Роста нет ячменю, нет и пива.
И пустынник, может, постигнет – как добыть провиант. И предложит какой вероянт.
Разработан проект и доложен. Заложен возок, пара кляч, едет граф, едет врач, со своим инструментом палач (если старец упрямиться станет), и айда к тому самому месту, где нашел себе Макс Анастасью-невесту.
Не скоро графу ездится,
недели едет, месяцы,
каретой слякоть месится,
то гать, то околесица.
Тут царские окраины,
луга неубираемы,
грибы несобираемы,
накинуты шлагбаумы,
и каждый под замком.
Пошла земля ничейная,
а чья ничья – неведомо,
какого назначения —
незнамо, не разведано.
Но где ж дубравы цельные?
Где сосны корабельные?
Где рощи? Все порублены,
невемо кем погублены,
и всюду пни да пни.
А между пней растреснутых,
колючками обнизаны,
хвощи царят в окрестности,
на них коронки сизые,
в шинах-прыщах, как ящеры,
их чертовыми тещами
прозвали еще пращуры,
а завладели рощами
давно, видать, они.
Был бор, а весь обуглился.
И все же граф любуется:
дубы и те не выжили,
вощи их силой выжили,
березы были – вымерли,
хвощи хвостами вымели,
везде торчат их заросли.
Подпрыгнул граф от зависти:
– Вот сила! Как взялась!
Со страху клячи пятятся.
А где ж пустынник прячется?
Ни пчелки, ни подсолнуха!
И словно сон из сонника,
пенек оброс опятами,
а под хвощами сочными,
за паутиной спрятанный,
ну, меньше пальца, сморщенный
сидит пустынник Влас,
махонек, тощ, как заморенный, поздний опенок. Чертов Хвощ из прыщавых своих перепонок, зубаст и остер, распростер свои жирные пилы. До пустынника только аршин. Дорастет – и конец разнесчастному Власу, как себя ни морщинь, как ни прячься.
Врач сам разглядеть его лупою хочет, старец тихое что-то лопочет, а никак не слыхать голоска, тоньше он волоска паутинного, глуше утиного пуха. Только это врачу не в диковину – вынул он слуховую слуховину, воткнул в оба уха, и послышалось глухо, но внятно и даже понятно:
Людичи, людичи,
внучичи и отчичи,
хвощичей колючичи
вылущат вам очи-чи.
Оттащите вы меня
от Шипа Шипочича,
обрубите корни пня
Дубача Дубочича.
А уж я вас выручу,
чуру-чуду выучу.
Есть река, за ней река,
за рекой еще река,
а за самой рекастой
рукавистою рекой
есть такой невесть какой,
и глазастый и рукастый,
Мастер-На-Все-На-Руки,
целый дом одной рукой
подымает на руки.
Он и мастер
кожу мять,
он и масло
отжимать,
всякий злак
сеять, жать,
сайки с маком
в печь сажать,
лес рубить,
рыб ловить,
пуд железа
выплавить.
Вам его бы
полюбить —
всем помог бы,
стало быть,
Только чур – не тово!
Силой мастера того
на работу не поставить,
и плетями не заставить,
и цепями не связать,
и обманами не взять,
и себя погубите,
если не полюбите.
Людичи, людичи,
будьте – людо-любичи,
пропадете, будучи
людо-люто-губичи.
Оттащите вы меня
от Шипа Шипочича,
обрубите корни пня
Дубача Дубочича.
Обе клячи сгоряча
в дом доскачут до ночи,
там отдайте старича
в ручичи Аленычьи.
Тут зовет граф Агрипп палача с топором-секачом у плеча. И палач оказался полезен, поднял он свой железен топор, а топор у него не тупой – в пень как врезался с маху, срезал ровно двенадцать корней.
Ну и поднял дубовую плаху да пустынника Власа на ней.
Завернули его аккуратно в бумагу – так-то будет верней, – чтоб пустынник в пути не пылился, чтобы дождь на него не полился.
Только кучер выхватил кнут – жеребцами вздыбились клячи, и Аленин домок тут как тут. И в оконце ее тук да тук.
Та от радости плачет.
Волшебство, не иначе!
И пошел в столице слух: за рекой есть такой – и кузнец, и пастух, и строитель, и кормилец, и солений всех солитель, как сапожник славится и на всех управится, напечет пироги, всем сошьет сапоги, как кому поправится, всем кареты золотые, начеканит золотые, накует всем корон, надоит всем коров, вина запечатает, указы напечатает, рыб наловит для ухи, изготовит всем кафтаны, будут статуи, фонтаны, пудра, кружево, духи, и стихи, и романы, блюда дичи и грибов! Говорят, нужна любовь? Ерундистика! Блеф! Беллетристика! Бред! Надо взять, и связать, и схватить, и скрутить, строго Мастера наставить, выдавать царям заставить полное довольствие. Вот тогда зацарствуем в наше удовольствие!
Звать Анику-воина, накормить удвоенно, дать аркан и ятаган, ястреба клювастого, кобеля зубастого и копя как ураган – пусть изловит наскоро работягу Мастера да накажет настрого!
Взбарабанил барабан, псы грызутся лаево, трубы воют воево, царь Аника: «Я его!»
Только б знать – кого его?
Сказ десятый
Продолжаю свой сказ, грешный аз, да все об том.
Далек град Онтон, ходьбы к нему дней двести, а что до езды касаемо – выходит то самое. Нет туда ни карет, ни саней, ни живых, ни железных коней.
А летел гусь на святую Русь и принес превеселые-вести о том королевстве в град Москву.
Повезло гусаку – попал не в пирог, не во щи, а к тому шутнику, что держит раек в Марьиной роще. Прочитал шутник, что намарано.
А в роще во Марьиной гулялось гуляние – троицын день. Колпак набекрень – зазывалы вопят балаганные, продает коробейник свою дребедень – кольца да зеркальца, голосит лотерейщик: «В копейку билет – золотой браслет, – счастье-то вытащи-ка!»
Собрались ребятишки около сбитенщика, рядом бой с ученой блохой, а кого завлекают мороженники, а кого пироги с требухой и творожники, и качели, и карусель, и печеных кому карасей – все, что любо!
И гулял между прочего люда гость, приезжий из Тулы – прямой, не сутулый, молодой мастеровой, с той кудрявой головой и с очами горячими теми, что девицами ценятся всеми, – подмастерье Левши того самого тульского, что потом блоху подковал.
Шел Иван, подсолнух полузгивал и без пары себе тосковал.
Был он статен, во многих ремеслах умел, а невесты пока не имел. Дело, что ли, в Москве за невестами?
А у ящика с занавесками, с петухом на трефовом тузе – отставной солдат в картузе, с бородой из мочала, зазывает раек глядеть:
– Кому деньги некуда деть, подходи, начинаю с начала. Знаменитая панорама, двухголовая дама, мадам Сюрту!
А за ней перемена – два феномена в спирту. Султан подарил государю Петру.
А вот андерманир-штук – Бонапарт на тулуп меняет сюртук со стужи да кушак подтянул потуже.
А вот анонс: Макс-Емельяния – гусь принес в Москву на гулянье. Нашей программы гвоздь. Подходи, молодец, будь гость.
Двести тысяч правителей-кесарей, а ни косарей, ни слесарей. Царь у царя по карманам шуруют, что своруют, на то и пируют.
А вот град Онтон, благородство в нем и бонтон. Вон там дворцовый фонтан, на нем морской бог Нептун, а позади топтун, стережет серебряных рыб, ест их один граф Агрипп. Граф – монарший слуга, ему и тельное и уха из осетров да щук.
А вот андерманир-штук – онтонский герой Аника-воин. Ста крестов за войну удостоен. Кого хошь пополам сечет, за то ему и почет. В шуйце сабля, в деснице палица. Смерть самою укокошить хвалится, а царевну Алену в жены забрать. Есть и пословица кстати – не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати.
А вот – онтонская царевна Алена, не румянена, не белёна, бела и румяна сама. Не гляди – соскочишь с ума. Что Милена пред ней? Что Пленира? Обойди хоть полмира, хоть мир – нет красавицы краше. Вот глаза – с бирюзою две чаши. А уста – цвет весенний с куста. Брови – райские перья.
Подходи, подмастерье, погляди. До груди – с натуры картина. И цена за посмотр не полтина, а всего пятачок, чуть побольше алтына.
Тут Иван как почувствовал в сердце толчок, как вручил он солдату с орлом пятачок да вгляделся в раешное око. «О!» – сказал он и охнул глубоко. Стало в сердце Ивановом голубооко. Вздохнул и любовь из картины вдохнул.
Что живая, Алена глядит, оживая, будто в гости Ивана к себе ожидая. И уста – цвет весенний с куста. Брови – райские перья. Замутилась душа подмастерья, оторваться нельзя. Хороши наши Параши, да Алена всех краше! И глаза – две глубокие чаши, словно зовут: «Отыщи!»
Подмастерье от ящика хоть оттащи, сзади очередь, каждый хочет ведь! Но Иван пятаками солдата задабривает, а солдат его даже подбадривает – стой, охота пока!
И нашла на Ивана злодейка-тоска, без Алены милей гробовая доска. Отошел он от шутника, от райка, спотыкается о колдобины, околдованный. Поспешает, решает.
Раз пришлось полюбить – так и быть. Хоть тонуть, хоть пылать в преисподней, хоть пузыриться в царстве морском, хоть ходить по каленым гвоздям босиком, а царевну Алену добыть.
Сим решеньем Иван преисполнен.
Соскочил с него всякий страх – вышел парень на тульский трахт, где столбы, стало быть, верстовые, где кареты летят почтовые, а на них свистуны вестовые. Ехали и фельдъегери на горячих конях, кучер их кнутом полосует.
Подмастерье стоит, голосует.
В одной руке – французский коньяк, в другой целковые держит сверкучие, всем они по душе.
Это дело понравилось кучеру, и погнал он без отдыха в Тулу, к Левше.
А Левша за обедом – ложка в лапше. Заедает мосол соленой капустою – свой посол. Мыслит – как англичанам соделать конфузию. Был он первым умельцем – подковывал мух. Но блоха – куда мельче…
Тут Иван – в ноги бух!
Излагает ему всю печаль.
Осерчал Левша:
– Не проси попусту, нынче время не к отпуску. Бог видит – не выйдет! Я ль не тебя ото всех отличал, всем прехитростям обучал? Дело есть – превзойти англичан. Не потрафим коли Николаю-то Палычу, как поставит он нас под спицручную палочку – нашей тульской чести конец. Для меня ты кузнец, а не в разные страны гонец. Ишь вы нынче – давай вам девиц заграничных! Нечего космы пылить, что Иван непомнящий. Не быть моей помощи, не проси. А невесту найдем на Руси. Охо-хо-хоиьки.
Но Иван – жив, не жив – не вздымается с ножек, а приставил к ребру вострехонький ножик и залился слезой, не дыша.
Удивился Левша, поднял рваную бровь:
– Да, никак, у тебя и взаправду любовь. Дело плохое. Ладно, сами сладим с блохою. Помню, помню – говаривал дьякон: «Любовь яко бог. Христа не гневи, не ходи противу любви». Энто закон Христов. Вот те штоф с вином искрометным, а еще сундучок с инструментом, тут и чиркуль, и водерпас, и шурупчики про запас, самоходки-подковки на сапоги, и – господь тебе помоги.
А подковки те были Левшииой ковки. Только шагом на них махались – и завертится в них заводной механизм. За Иваном тогда не гонись! Вот умели-то! Что Германия? Что Америка? Потому как душа у Левши, а умения нет без души.
Лишь набил Иван на подборы подковки – раз шагнул – очутился в Москве на Петровке, в чепчиках барыни загляделись на окна с товарами. На коне бы и то не поспеть. Два шагнул – да, никак, уже Невский проспект, щеголяют гусары усами, да подковки торопятся сами, глазеть не пора. Поднял молодец ногу повыше – не где-нибудь он, а в Париже у Гранд-Опера! Булевардами ходят гуляки, на них шапокляки да фраки, зафранцузило даже в ушах. Сделал шаг подмастерье от берега к берегу и попал через море па крышу в Америку, этажей – не берись, не считай. Расшагался – и сразу в Китай, змеев стая летит над Пекином, богдыхан отдыхает под балдахином. Чуть Ивана не слопал дракон, стаи змей на него засвистели, чуть подковки с сапог не слетели, и Иван опускается в город Онтон и стоит у Алены под самым окном, и выходит к нему невеста, будто все уже ей известно, и целует в уста сахарные, начались разговоры разаханные, так что дело к венцу, а сказка к концу.
Но Аника-то воин едет, вдруг Ивана он заприметит? Только б не сглаз!
А за сим новый сказ.
Сказ одиннадцатый
В некий час Аника-царь въехал в степь полынную, полуднем палимую, ищет-рыщет Мастера, посылает ястреба:
– Как увидишь с высоты мужика рукастого – возворачивайся ты.
Ястреб возворачивается, в клюве только ящерица:
– Так и так, Аника-во, не увидел никого.
– Ах, вот так и никого? – ятаганом его, разрубил пополам, только перья по полям.
Едет ночь, едет день – нету Мастера нигде. Десять дней Аника-царь идет-рыщет Мастера, посылает он гонца, кобеля зубастого:
– Как унюхаешь дух – мчись обратно во весь дух.
Мчится с розыска кобель, с языка его капель:
– Так и так, Аника-во, не унюхал никого.








