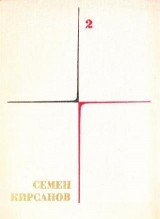
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Фантастические поэмы и сказки"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
ГЕРАНЬ – МИНДАЛЬ – ФИАЛКА (1936)
Люизит пахнет геранью.
Синильная кислота – миндалем.
Слезоточивый газ – фиалкой.
(Свойства отравляющих веществ)
1
Война
Ужасная скучная мирная жизнь!
Будничный дачный Версаль.
От былых развлечений
лишь ты одна осталась у меня,
большая глупая «Берта».
Я целые дни торчу в картинной галерее,
где пыльные портреты предков
в буклях пушечного дыма…
На моих блиндированных стенах
развешаны полотна былых сражений.
Помнишь, «Берта»,
как весело бабахала по Парижу?..
Теперь это только батальная живопись.
Я слишком давно
не война.
Вот моя пожарами позолоченная панорама —
на барабане Наполеон.
Застывший бомбардировкой Севастополь,
Сизые холсты
раздетых мародерами тел после битвы.
Импрессионизм фугаса,
пуантелизм пулеметной стрельбы…
А это, «Берта»,
уникум.
Пейзаж в железной раме танков при Амьене.
Очень жизненные лица трупов.
(Англичане: подлинник, есть дата —
18. VIII. 1918.)
Вот – море,
мой любимый жанр.
Ты была еще в проекте, «Берта»,
не помнишь этой японской вышивки шелком.
Это – Цусима
совместной работы адмиралов
Рождественского и Того.
Ах, «Принц Идзуми»!..
Крейсера умирают в небо винтом.
И сладко-больно делает дредноуту
слепой протей торпеды.
А вот это —
я.
Я – в точном смысле слова.
Над дикарским госпиталем абиссинцев
римские бомбы «капропи» [8]8
Капрони – итальянская самолётостроительная фирма. Основана в 1910 Дж. Б. Капрони.
[Закрыть],
это мои фамильные черты.
Делайте меня,
пишите меня
с ночного налета Таубе,
с первого хлора!
Нарисуйте меня над Мадридом
с гакенкрейцем на желтом крыле.
Да, это я —
хриплый пороховой обжора,
мешки с песком под глазами,
усиков карманный немецкий словарик,
тевтонское крыло орла зачесано на лоб.
Майн Кампф!
Гот унд Тот!
Великолепный портрет с меня.
«Берта»,
приведи в порядок наброски,
спрячь незаконченный этюд
японским штрихом затушеванного Китая,
американскую мазню Филиппин,
со стен долой английский дилетантизм
в ориентальном духе, —
я себя хочу увидеть
портретом во весь мир!
И сейчас же, сейчас,
когда меня миром доконали соседи!
О, соседи, соседи,
они хотят вогнать войну в раскопки,
пустить по рукам историков, археологов!
Они уже оторвали от меня шестую часть!
Смеют еще жить
и рожать!
Так и лезут живые младенчики, пухлые куклы.
Нет житья от живых.
Грудные живые,
живые школьники, двое взрослых живых,
и снова от них
пренеприятный малютка живой!
Смеют
иметь язык, говорить, называться народом!
Я устрою
пышный
на сто миллионов персон
тотальный обед!
Никель приборов, фарфор посуды,
на стерильных салфетках,
и хлебать, выскребывать царапающими ложками
новорозовых с писком!
Морг! —
восково-сизый мир мертвецов
я им дам.
Многообразную, полную смерти жизнь —
горы и каньоны
трупов
хрипящих,
вспоротых,
пропавших без вести.
О, соседи!
Живут, понимаете, живут!
Целые дни здоровы!
Стали даже летать доктора —
до чего доводит марксизм!
Не дают спокойно умереть рабочему от силикоза,
лечат, моют легкие кислородом на горных вершинах,
где должна стоять моя вилла.
Мы их проветрим,
вгоним в раны столбняк.
Скоро подымется
дыма белокурый зверь.
«Берта»,
зови моих огнестрельных арийцев!
Все мои слуги здесь?
И нитрат свинца,
и нитроглицерин,
и бравый, с выправкою взрыва
тринитротолуол.
Здорово, молодцы!
Залежались на складах?
Застоялся в ногах снарядов
гремучий студень?
Чешется в капсулях
нетерпеливая нитроклетчатка?
Добрый день, орлы.
Хочется «юнкерсам» налетаться вволю?
Вольно,
крылатый «Георгий Торпедоносец».
Скоро, скоро
и вы, синьоры,
зажужжите на Восток
тучей занзароне [9]9
Занзароне – комары анофелес или по-итальянски «занзароне».
[Закрыть]королевского Воздушного Флота.
А… мои панцирножаберные!
Надводные и подводные.
Ныр, субмарина.
Ход вперед, крейсер.
Я люблю твои глаза улитки
двух башенных орудий,
океанский рыцарь
«Дейчланд».
Так жужжать!
Мои тяжелые насекомые,
рогатые пулеметами жуки,
двойные гусеницы,
сороконожки вездеходов.
Ну как?
Поправились за двадцать лет Версаля?
Прибавили в весе?
Рады стараться?
О, о!
Мы будем лопать Волгу,
жрать сладкий Крым,
намазывать Баку на хлеб Поволжья.
Я – в расцвете
военно-морских-воздушных сил:
твердый прусский дух,
заоблачное зрение прожекторов,
прекрасная нервная система разведки,
звукоулавливателей тонкий, чуткий слух.
Прекрасно! Все в порядке!
Физики и писатели,
химики и философы,
по местам!
Смирно!
Сейчас я буду заключать
торжественные мирные договора,
голубино-пуховые пакты,
скрепленные печатями ратификаций
и рукопожатиями
на хрустально-крахмальных завтраках дипломатов.
Мир, мир и мир!
Я только тогда вполне хороша,
когда внезапна.
2
Xлох
В шкатулках нашей фирмы
по бархату эфирным золотом с медалями
написано:
«Хлох.
Ювелир ожогов и нарывов.
Поставщик Двора».
Здесь —
вся коллекция,
весь ассортимент
на выбор!
Вот —
щелк шкатулочка,
замок – зубов жемчужный скрежет.
На красном бархате
хризоберилл
прозрачно-розовый.
Найден был на нёбе
рядового Третьего шотландского полка.
Чего-нибудь в зеленом тоне?
Обратите внимание —
прелестный диоптаз!
Он в самых легких… лучшее,
что может дать иприт.
Если выбирать на мой
профессиональный вкус —
я предпочел бы
циркон,_
багровый с белым.
Сто пятьдесят карат!
Ожоги первой степени,
для лучших катаракт!
Он – ослепителен.
Я вам рекомендую
редкую по красоте
лиловую, очаровательную друзу
аметистов.
Дыхание затруднено,
отечность,
пульс 140,
диагноз:
мембранозный трахеобропхит.
Работа мастера Дихлордиэтилсульфита.
Завернуть?
Вот наш алмазный фонд.
Тут лучшее, что есть из лакриматоров.
Лучистые и скорбные,
как будто их по сыновьям
выплакивали матери.
Вот бриллиант —
от блеска коего заплакал целый полк.
Он вызвал слезы
даже у военных судей!
Да, наш хлорацетофенон
вызывает такие алмазы —
слезы хочется лить!
Вот коллекция наших колец!
о, прекрасные перстни
дают нарывные ОВ.
Вот опал и отек.
Розоватый топаз и некроз.
Самоцветный ожог
лазурит луизита.
Нежно-синий по темным губам
цианозного рта…
Вы б хотели слегка потоксичней?
В сырых испарениях рек дифосгена,
в кирпичных ущелиях Фарбениндустри —
мы находим зеленовато-серозный нефрит…
Как сияют сокровища
лазаретных вскрытий!
Веки глаз отечны
и склеены вязким, густым отделяемым.
Если мало коллекций этой —
сотни тысяч искателей
бросятся в душный фосген.
Сотни тысяч гранильщиков кинутся
к россыпям бромбензилцианида.
Раны в оправах суставов,
ожоги в отделке волос!
О, война!
Мы дали толчок развитию мод,
в Абиссинии и то —
носят наши модели до самой смерти!
Может,
вам кажется —
моды
быстро бегут?
Наша
фирма
имеет одно нувоте…
Нечто особое,
нечто изысканное,
нечто такое,
что хочется хитрому химику Хлоху
холить,
ухаживать,
хохотать над хирургами, ахать:
– Ах, когда хаки пехоты
хмурого газа вдохнут,
и курносые бравые парни
(так громче музыка)
с дешевыми липкими харями масок
(играй победу)
выхаркнут хлипкие легкие
(мы победили),
рассыплются всеми сосудами,
альвеолами, бронхами, клетками
(враг не бежит, а лежит)—
грудой гниющих шинелей,
хрипя, задыхаясь в хлорном хапахе хмерти…
Война
Великолепно!
А вы, Сузуки-сен,
вы принесли,
вы сделали чуму, как я просила?
Сузуки
Сузуки видит нити наций
из Токио
Ниппоно-Хито очень хочет
иметь-иметь
Россию-Го.
Ни яд кураре, ни укусы сурусуку,
ни газ «задыхайся»
не могут столько дать,
как вот такусенькая чума-чума.
От газа можно в подвале укрыться,
а воздух чумы
в подвал принесет агентурная крыса.
умное чудо!
В дистиллированном стеклышке
дисциплинированный миллиард рядовых!
Чтоб вырос
чумы лихорадящий вирус,
Сузуки,
от счастья сюсюкая,
впрыскивал в суслика,
баюкал, вынянчивал
чудную чумную пилочку-палочку
в малиновой лупе поля зрения.
Сузуки науськивал суслика,
ласкал ему усики:
– Умирай, моя чумница, сусленька.
Жрал пунктир
оробевшую кровь на пути.
Крыска бедная
так и сходила с ума.
Волоски повылазили.
Дергалась лапами.
И – в желтоглазой ампуле
моя! —
глазком веселеньким таращится чума.
Сузуки так старался
вам угодить, война!
Он вырастил могучую чуму,
полмира
я чумой умучаю,
когда начну
чуму – чую войну!
Я посмотрю на Запад ампулами.
Спокойный агент
на подоконнике оставит шарик,
а сам обратно – брысь!
Державе иностранной
России
под кожу
Сузуки вколет
доблестной болезни шприц.
Палочка была слабая.
Надо поправиться палочке.
Сузуки готовил
бульончик питательный,
питал ее в крысе,
кормил в ослабевшей макаке,
воспитывал в самурайских чувствах.
Ставил палочку греться на полочку,
лечил отборными легкими
уличенных в опасных мыслях.
Ничего не жалел бацилле.
Сузуки дал чуме
китайца.
Медленно всасывал шприц:
Хитону!
Рот захлебнулся мокротой!
Мутацу! Митцу!
Лиловым лицо залило.
Ецу! Мицуцу!
Сердце не бьется,
пять минут
работает мой микроб…
Как смешно умирают враги!
Укушу
Россию-Го.
Сузуки-сен будет-будет смеяться-смеяться,
миру-миру надо-надо яма-яма,
люди-люди падать-падать тихо-тихо,
вот такусенькой бациллы яда-яда падать-падать,
мало-мало территорий, надо-надо яда-яда…
Война
Оставьте здесь.
Мы испытаем в Дахау
на заключенных коммунистах.
О, если неудача —
в день Страшного суда —
примчится черный ангел-истребитель
и от крыла мечтательно
отцепит смерть
величиной с метр…
Да! Кстати,
как у нас насчет колбас,
книг, музыки и прочего?
И чем мы будем успокаивать рабочего?
Фон Тропф,
колбаса и книги, кажется, лежат на вас?
Фон Тропф
Как раз,
того что касается жирных колбас,
никаких беспокойств.
Не стоит волнения граждан.
Я заменю им бифштекс,
я им сделаю
хлеб.
Уже громоздятся по складам
сыроватые мешки
суррогатов.
Из дерева тевтобургских дубов
хрустящие щепки хлеба.
Сосиски —
химический фарш в каучуковых кишках.
Я им все заменю!
Я рот заткну
беспокойным хозяйкам
картошкой —
в папиросной бумаге синтетический
сладкий крахмал.
Я под кофе подделаю
порошок жженой сепии.
Я все заменю суррогатом!
Пущу такие
фальшивки еды —
не отличите от подлинника!
У нас в тылу дефицитна
любовь к отечеству —
я ее заменю очень острым блюдом:
«Пусть
брызжет кровь жидов из-под ножа!»
Говорят,
не хватает настоящей любви?
У меня во всем должно быть обилие,
чтобы любили, как следует, —
на войне
в каждой траншее любовная пара
по билетам – десять пфеннигов пара.
Телеграф говорит
о нехватке
подлинной дружбы?
Пустяк!
Мы заменим ее изысканной системой начальств.
У каждого должен быть начальник,
и каждый —
начальником над кем-нибудь.
На рынке исчезло искусство,
нет поэтов,
нет музыки?
Я все заменю,
все подделаю:
пусть трещит и грохочет
прусский военный оркестр!
Пустим в продажу
похабные песенки куплетистов, весьма эротично.
Книги, кино, сигары?
Я заткну им уши, глаза и рты
суррогатом всего, что есть на земле!
Я им сделаю сытую, полную жизнь
суррогатом!
Каждый трус будет подделан под героя,
если надо – мы подделаем красное знамя,
устроим фальшивое Первое мая…
О, Война,
мы подделаем вас
под благо цивилизованных рас!
И когда они сами станут подделкой людей
вперед, бравые суррогатики,
шагом марш,
ура война,
хайль Хитлер,
а?
Война
Да! Я подпишу сейчас приказ.
Чума и газ,
я в бой возьму с собой и вас, и вас.
И ваш, герр Хлох,
дуэльных корпораций шрам,
и ваш, Сузуки,
тихоокеанский шарм.
Фон Тропф,
поставьте свежую пластинку – марш!
«Завтра, завтра,
группы в группы,
трубы, трубы
чумных армий,
грузы в ямы,
ливнем лавы
с Фудзиямы!
Танки, танки
в хлорной прорве.
в черной форме,
бутцы в шарке,
в смертном харке.
В кровь – микробы!
Хрип мокроты!
В масках шрамы,
трупы в ямы,
топот помпы,
топот помпы,
брызги с ампул
чумных капель…»
Адье, Хлох,
адье, Сузуки!
Началась счастливая смерть!
Не спать, а спеть
военный гимн:
«Боже, храни
тайну концентрации войск на границе!»
В шесть утра
меня начинают.
3
Новое новое один один Хитлер повторяю по буквам холод истребление террор ложь Европа разбой повторяю Хитлер прибыл фронт сопровождении генерала от химии Хлоха и виконта Сузуки точка новое новое советские армии продолжают контратаки точка
Война
(с дрожаньем в окнах)
Как тянется, тянется
телеграфная лента…
Старой гроссмутер
старой шерсти клубок
тянет, тянет…
А где же развязка?
Хлох! Где ваш газ?
Довольно тянуть!
Где он шляется,
ваш особенный газ «нувоте»?
Отчего телеграф
стучит зубами от страха?
Новое новое русскими занят Мемель применение немцами газов не дало эффекта новое новое точка
Какой неудушливый день!
Ну где же, где же
мгновенные смерти, тайфуны чумы,
океаны удуший?
Займитесь мной, займите мне Мемель…
Наобещают, наобещают,
а потом сами бросают
орудья…
Еще немного, и меня закончат,
я буду плакать в белый флаг!..
Хлох! Где драгоценности, где ваши хризопразы?
Я чувствую – что приближаюсь
к своему концу.
Соседи прилетят сюда меня забрать
и через спину
черного коня
меня возьмет и перекинет
усатый
и скуластый
казак-марксист!
Пошлите тысячу аэропланов с люизитом,
пошлите все, что есть из эпидемий,
всех вшей, все танки, весь тротил,
раздробите к чертям собачьим
все ядра атомов,
по только чтобы мне сейчас же здесь была
победа…
Хлох
Не понимаю…
Я почему-то не мо-гу…
Со мной такое в первый раз.
У Мемеля газ не берет.
Большевики берут руками газ,
вдыхают ртами,
идут сквозь газ мильонами открытых глаз,
и ни ожогов, ни слепоты, ни пены…
С газом это в первый раз.
Война
Какая монотонная лента,
бледный, бледный рисунок:
точка – тире, точка – тире
(точка – тебе, точка – тебе!)
Что? Мне – точка?
Новое новое районе боя захвачено двое русских на парашютах солдат санитарка ранены точка
Хлох! Телеграфьте!
Выдать солдатам мою личную колбасу.
История, эй, запомнить эту великую жертву!
Она необходима войскам,
а не то
брат на брата
через окопы полезут брататься.
Впрочем…
Колбасу отставить!
Заразите наших храбрых солдат чумой,
и пусть братаются с русскими
сколько влезет…
Сузуки!
Где чума?
Почему никаких телеграмм от чумы?
Она меня под нож подводит.
Это не чума, дряхлая простуда!
Сузуки,
обезьяна,
что с чумой?
Сузуки
Бацилла стала больная, русские дали-дали
лекарство.
Минуту-минуту. Надо-надо послушать бациллу.
Если бессильна бацилла —
Сузуки был и будет мужчиной,
древний род Хирохито
научил его харакири:
«Прощай, кишечник,
вон из брюшины!»
А пока – минуту-минуту – лежат в сарае
двое советских пленных хэйси —
мусмэ и хота.
Дай самураю
попытаться, выпытать, попытать,
какое такое
лекарство мучит чуму?
Война
Хлох,
пленные – ваши,
допросите по методам наци.
Хлох
Каску снять!
Руки по швам!
Звать Иоганном?
Как стоишь?
С неба свалился?
Иван
Да, я спрыгнул с неба.
Хлох
Отвеч-ать!
Где твоя часть?
Говорить-арш!
Иван
Знать хотите, кто да что?
Сколько нас? Народов сто.
Вот еще дойдем до Польши —
на народ на польский больше.
А в Берлин войдем едва —
можно высчитать – сто два.
Хлох
Шу-тить?
Колышки в ногти!
Крюками за локти!
Отвеч-ать!
Иван
Наши части – кроме шуток, —
серп и молот на звезде —
стоят в двух шагах от Всюду,
в трех минутах от Везде.
Война
Хватит!
Этот подчеловек меня злит.
Впрыснуть ему
стопроцентную экстренную чуму!
(К девушке.)
Ваше имя – Мария.
Милосердье.
Ваш – крест.
Мой – гакенкрейц.
Как сестра,
доверьтесь —
чем вы лечите случаи газовых ран?
Чем спасаете от чумы?
Я прошу вас,
вы так прекрасны,
вы точно из сказки!
Мария
Да, я из сказки.
Если газовая рана
и укус чумной блохи —
помогают,
как ни странно,
Маяковского стихи.
Если сильный ожог
кожу нарушил —
музыку хорошо
положить
на душу.
Чтобы бред не шумел —
нужно
согревать при чуме
дружбой.
Надо рядом побыть
мне с ним,
надо раненым петь
песни.
Война
Вдохнуть ей в глотку газ
до холода у вдоха!
Так, так и так…
Как? Вы еще не удосужились умереть?
Вы – оба живы?
Вас не убили ни чумой, ни газом?
Хлох и Сузуки!
Тем и другим – их задушите разом.
Смирно!
Умереть!
Сузуки, Хлох, скажите иприту,
скажите чуме,
надо те им умереть!
Хлох, вы просто керосиновая тряпка.
Сузуки, старый грипп, заставь работать
свою чуму!
Нет? Живете?
Почему вы живы?
Почему?
Иван
Потому что, только мы
отвоюем мир —
будут делать из чумы
утренний кефир.
Мы вас быстро обезвредим,
и с весельем на лице —
будут кукол красить дети
акварелью ТБЦ.
Чтоб микробы не хирели
как обыденное —
будут делать из холеры
нежное слабительное.
Мир светлее,
день синее,
умереть не можем мы —
потому что мы сильнее
и воины и чумы.
(Не умирает.)
Мария
Люди ходят в загс на запись,
возят жен в родильный дом,
бывший яд – азота закись
мы
роженицам даем.
Женщины довольны —
роды
обезболены.
Мы поставили на вид
химикам приказом —
чтобы не был ядовит
ни один из газов.
Мы их скоро развернем,
как цветки на плитах.
Не старайтесь – не умрем.
Мы сильней иприта.
(Не умирает.)
Война
Пустить магнитные поля!
Убить моторы!
Пустить по людям Зет-лучи!
Усеять все поля шипами!
Жечь!
Леденить до абсолютного нуля!
Пусть атомным ядром
взорвется вся земля!
Пусть раздерется атмосфера клочьями!
Я
пока еще
не окончена.
4
Война
Прикончат.
Я полностью выпила холодный стакан
допроса.
Сейчас войдут и выведут в ничто.
Влажной тряпкою сотрут, как мел,
с лица истории…
Развеют,
как пепел по степям…
О… Никогда
не рыть траншей!..
Никогда
не дыбиться фугасом!
Не обшаривать
карманы убитых!
Пропасть без вести…
Исчезнуть, как исчезли —
шаман и фараон,
торгаш и кардинал,
как тень с экрана…
Сейчас войдут сюда – четвертовать,
и плавить танки, и ломать орудья,
и превращать их в трактора!
Сдирать с меня значки и эполеты,
регалии и флаги с бахромой,
орлов и львов,
единорогов,
сдирать с меня
мечи, щиты, короны, жезлы
и голую по холоду пустить,
загнать в десяток строк энциклопедии,
где с буквой «б» (что значит бывший)
мной будут только объяснять
меня,
войну —
всесильную и мировую!
Сейчас войдут, нет, входят,
сдирают саблю, крест, мундир,
награды лордов, графов, самураев!
Идет по мне, как трактор, слово
Мир.
Мир – это смерть Войне,
Я умираю.
Герань, миндаль, фиалка
А теперь мы спокойно можем
благоухать.
История
Так ли это все просто?..
НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ (1939)
1
Был такой рубль
неразменный у мальчика:
купил он четыре мячика,
гармошку для губ,
себе ружье, сестре куклу,
полдюжины звонких труб,
сунул в карман руку,
а там опять рубль.
Зашел в магазин, истратил
на карандаши и тетради,
пошел на картину в клуб,
наелся конфет (полтинник за штук;
сунул в карман руку,
а там опять рубль.
2
Со мной такая ж история:
я счастья набрал до губ,
мне ничего не стоило
ловить его на бегу,
брать его с плеч,
снимать с глаз,
перебирать русыми прядями,
обнимать любое множество раз,
разговаривать с ним по радио!
Была елка,
снег,
хаживали
гости.
Был пляж.
Шел дождь.
На ней был плащ,
и как мы за ней ухаживали!
Утром, часов в девять,
гордый – ее одевать! —
я не знал, что со счастьем делать
куда его девать?
И были губы – губы!
Глаза – глаза!
И вот я, мальчик глупый,
любви сказал!
– Не иди на убыль,
не кончайся, не мельчай,
будь нескончаемой
у плеча моего и ее плеча.
3
Плечо умерло. Губы умерли.
Похоронили глаза.
Погоревали, подумали,
вспомнили два раза.
И сорвано много дней,
с листвой, в расчет,
в итог всех трауров по ней,
а я еще…
Я выдумал кучу игр,
раскрасил дверь под дуб,
заболел для забавы гриппом,
лечил здоровый зуб.
Уже вокруг другие
и дела и лица.
Другие бы мне в дорогие,—
а та – еще длится.
Наплачешься, навспоминаешься,
набродишься, находишься
по городу вдоль и наискось,
не знаешь, где находишься!
Дома на улице Горького
переместились. Мосты
распластались над Москвой-рекой,
места, где ходила ты,
другие совсем! Их нету!
Вернись ты на землю вновь —
нашла бы не ту планету,
но ту, что была, любовь…
4
Ровно такая,
полностью та, не утончилась,
не окончилась! И лучше б сердцу
пустота,
покой,
устойчивость!
Нет – есть!
Всегда при мне.
Со мной.
В душе
несмытым почерком, как неотступно —
с летчиком
опасный
шар земной.
5
Я сижу перед коньяком
угрюм, как ворон в парке.
Полная рюмка. Календарь.
Часы и «паркер».
Срываю в январе я
листок стенной тоски,
а снизу ему время
подкладывает листки.
Часы стучат, что делать
минутам утрат?
Целый год девять
утра.
Рюмку пью коньячную,
сколько ни пью, она
кажется бесконечною —
опять полна.
Опрокинул зубами, дна
не вижу, понял я —
опять она
полная.
А «паркер», каким пишу —
чернил внутри с наперсток.
Пишу – дописать спешу,
чернил не хватает просто!
Перу б иссякнуть пора
от стольких строк отчаяния,
а всё бегут с пера
чернила нескончаемые.
6
Я курю, в доме дым,
не видно мебели.
Я уже по колено в пепле.
Дом стал седым.
Потолок седым затянулся.
А папироса – как была,
затянулся – опять цела.
Свет погашу – не гаснет!
Сломал часы – стучат!
Кричу: – Кончайтесь насмерть!
Уйди, табачный чад!
Закрыл глаза – мерцает
сквозь веки в жизнь дыра!
Весь год сорвал! – Конца нет
листкам календаря.
7
Так к мальчику рубль пригрелся
вот же он! Не кончается!
Покупок гора качается:
трубы, гармошки, рельсы.
Вещей уже больше нету,
охоты нет к вещам.
А надо – монету
в кармане таща,
думать о ней, жить для нее:
это ж рубль, это ж мое!
8
По сказке – мальчик юркнул
в соседний дом
и скинул куртку
с карманом и рублем.
Руки сжал,
домой побежал,
остановился, пятится:
к мальчику – рубль,
серебрян и кругл,
катится,
катится,
катится…
НОЧЬ ПОД НОВЫЙ ВЕК [10]10
Авторское расположение строк в оригинале – по центру.
[Закрыть] (1940)
Добрый вечер!
Добрый век!
Время – снова стихами чудесить,
распахнуть молодые года!
Заходите сюда
ровно в десять.
Собираемся точно, – сегодня,
здесь,
у елки моей новогодней.
Тридцать первое декабря —
бал Земли и Зимы,
вечер в играх и вихрях.
Ветки – зеленый дикообраз
с множеством глаз на иглах.
Этот вечер повсюду и здесь —
снега, смеха
несметная смесь,
это – встреча Нового года,
но особого, нового рода!
На розах с лавровыми листьями —
в календарной картонке —
покоится тонкий
декабрьский
единственный листик
с еще не оконченной датой —
только час проколышется
год,
называемый
«Тысяча
девятьсот девяносто девятый».
Около сияющей елки
в светелке,
не похожей на наши,
где воздух не домашний,
а горный,
около иголковой елки,
где зеленые ежики, —
долго собираются люди,
удивительно на нас похожие.
Добрый вечер!
Добрый век!
До бровей – поседелая шапка.
Снега – охапка до век.
Щеки с холода – ну и алы же
Лыжи поставьте,
пьексы снимите
и подымайтесь греться наверх.
Тут
растрещался камин
в искрах искусственных дров.
Живые деревья лет сорок не рубят!
Любят, что просто растут.
Воздух здоров,
и исчезло древнее прозвище «дровосек».
Заходите сюда,
Добрый век!
Дед
примчался па авиасанках!
Новогоднее наше —
хозяину!
Молодая осанка
у старика.
Дать нельзя ему
и сорока.
Над бровями одна вековая морщина.
Звездою
украшена елки вершина.
Это дед —
заслуженный деятель неба,
сиятельный труженик звезд —
первый подвесил на эту
зеленую гостью тайги
новооткрытую золотую планету.
Помните старый обычай:
вешать на ель
нити медной фольги,
клочья ватного снега,
конфетные банты,
шары из стекла,
пустые и ломкие комнатки смеха?
Все это есть.
Но выпала елке особая честь:
ее украшают вещами
не покупными, не взятыми в долг.
(Никому, ничего, ни за что
не продается,
а просто дается.)
И гости на елку вешают то,
что особенно людям
в году удается.
Здесь и в будень —
душевная ширь:
целый год
люди делают людям,
от души,
массу разнообразных подарков!
то – одежда и обувь,
дома и тома,
то – мосты с полукружьями арок,
то – байдарки под ними,
корабли с парусами цветными.
Каждый – каждому
строит подарки,
не думая, кто их получит.
Просто ставят на видное место
чудеса
из железа, из шерсти, из теста,
из чисел, из мыслей…
Люди мыслят:
«Какой бы получше,
прочнее, душистей
выдумать, выковать, вышить
в коммуне
кому-нибудь
свой ежедневный подарок?»
То,
что тут
называется «труд», —
как цветы подбирают любимым,
как поэт – потрясающий сердце повтор,
Тут монтер
собирает мотор,
как впервые
человек создавал чудеса паровые.
Хлеб пекут,
будто скрипку свою
мастерит Страдиварий.
И с волнением лаборантка
открывает формулу клетки,
как Эйнштейн уравненье миров.
И зеленой богине
на хвойные ветки —
образцы
ежедневных даров.
А дом,
где небом заведует дед,
надет
на наклонную мачту.
Дом похож на планету Сатурн.
Ось
в высоту.
Кольцо для прогулок
осыпано снежной пыльцой,
и рефлектор смотрится небу в лицо.
Сотни
новых домов
выше облак высотных,
и горы,
и звезды,
и сосны.
Но это не город,
скорее село
на Оке.
Хвойные чащи,
лед, как стекло, на реке.
И хотя январь жесточайший, —
невдалеке
построено жаркое лето.
Водная станция,
в полночь дневная от света.
Жара из мороза устроена.
Вот
на скользких коньках
веселая гонка несется
в тридцать градусов стужи.
И тут же
выходит пловчиха из летней воды
загорать
на кварцевом солнце.
А рядом – океанский аквариум.
(Дети его называют «Кваквариум».)
Там рыбы в юбочках балерин
проявляют рыбьи талантики.
И как избяные коньки
или гриф
отдельно от скрипки,
колебля тюль перепончатых грив,
стоя плывут морские коньки.
И лежат, как блины, плоскоспинные рыбки,
присланные из Атлантики.
И дальше —
большой зоосад.
Степные заросли для страусят,
рыжая гну
живет в своей собственной гриве.
Песчаная львица возится, рыская,
но как-то добрей и игривей.
Носится с кистью хвоста
барсук-брадобрей.
И тут полуптица живет австралийская
киви-киви,
держа дождевого червя
в полуклюве.
Подумайте – в де-ка-бре! —
устроено это
великолепное высокогорное лето.
За лесом стоят мастерские.
Внутри
они не похожи па мастерские.
И рябит из витрин
миллион непонятных для нас мелочей.
Темнота исчерчена
геометрией миллиметровых лучей,
и головастые черные вещи
поворачиваются и качаются,
как негативные снимки.
И работа вещей никогда не кончается.
То ли трудятся тут невидимки,
или люди оставили
копии глаз,
копии рук,
чтобы сами доставили
глубокие копи
и уголь и газ?
И пока за столами звучит
у рабочих неозабоченных
новогодний рассказ,
выполняют машины
заочно
и точно
человечий заказ.
Просто здесь для будущих нас
лист за листом
печатаются календари.
Каждый день – толстый том,
полный сведений.
Каждый месяц – Энциклопедия,
где описаны все Январи
финских, волжских и прочих сражений;
все Сентябри
удивительных освобождений
западных, южных, полярных,
тропических и заокеанских
Белоруссии и Украин;
все Октябри
созидательных революций
и всех молодых Конституций
советские Декабри —
золотыми словами поэтов
напечатали календари.
Гости к елке подходят:
– Дари.
В руки веток,
в серебряный иней —
жертвуй зеленой богине.
Шар о шар
зазвеневшее «динь»!..
Ледоколы свободно идут между льдин,
отражается в линзах
звезд позолота.
Всюду день земных именин.
Вот товарищ знакомый один
подвесил на ель
модель
своего звездолета.
Видите ли —
каучуковое чудо
летит на урановом двигателе!
Другой подарил пузатую ампулу
с каплей
последней, вчера побежденной
болезни.
Кончено
с криками, с кашлями, с корчами.
Шарик стеклянный
широк —
где, бессильный разбрызгать простуду,
чертиком вертится стрептококк.
А вот —
отяжелили плодами посуду.
Из зимнего сада принес садовод
свои небылицы-гибриды:
арбуз зебролицый, —
крыжовник небритый,
ягодояблоко, финикофигу,
душистопушистую малиноклубнику…
А некий
товарищ принес новую книгу
«Поэму Поэм»
о XX
героическом веке.
Стих мой!
Как бы тебе дорасти
до такой озаренности слов
неожиданности и новизны?
О, души ремесло!
Как тебя донести
до такой откровенности и прямизны?
Как слова довести?
до звучаний «Поэмы Поэм»?
В ней поэт
наконец
«Развязался с рифмой
и по строчке
вбежал
в удивительную жизнь»,
как мечтал его предок
(Маяковский).
Хоть строка —
покажись!
Он раскрыл молодой коммунизм пятилеток,
воскресил наши мысли живые,
облик вставших впервые
по эту
сторону
человечьей истории.
В ней поэту
удалось заглянуть
в Душу душ Народа народов.
Новый Век
он считает с Октябрьского года,
с первого возгласа
большевика
на железной трибуне броневика.
Да,
«Поэма Поэм» —
это больше венка, —
на века!
Один человек ничего не подвесил.
И, невесел,
сидит безутешно в столовой.
Он —
человек, осужденный за грубое слово
на неделю
безделья.
Жестокая кара!
По суровой традиции
судьи решают
и за проступок лишают
права трудиться
от суток
до месяца.
Вот образец:
понимаете муку
Фидия,
если отнят резец
и к паросскому мрамору
прикасать запрещается руку?
Или ноты, перо и рояль
отнять у Шопена?
Или сердцу стучать запретить?
Или птице – любимое пенье?
Без труда
страшно жить.
И неделя штрафного безделия
человеку – как прежде Бастилия.
А на праздник пустили,
простили,
но просили прийти без изделия,
Елка елок горит,
и на ней —
Шар шаров.
Дом домов,
Книга книг!
Все,
какие в семействе профессии —
принесли, подарили, подвесили
на чудесную Выставку выставок —
Песню песней и Вышивку вышивок.
Винт винтов,
Плод плодов,
Ленту лент,
Брюкву брюкв,
Букву букв,
Булку булок —
провозвестнице будущих лет.
Линзу линз,
Вазу ваз,
снеговую Вершину вершин,
скоростную Машину машин,
Склянку склянок с Духами духов,
Лист листов со Стихами стихов…
Елка елок цветет,
окруженная тесной Семьею семей
и Любовью любовей, —
Сыновей сыновей, Дочерей дочерей,
И живой на рогатке поет Соловей —
Птица птиц
общей Родины родин.
Ровно 11.
Начинается
новогоднее дальневидение.
Посветлела ночная стена,
стала выпуклой,
будто выпекла
светобуквы и звуки гулкие.
И по знаку какому-то
в комнату
вставились другие комнаты.
Понимаете?
Плывут столы
за столами, оттуда видят
этот стол,
из стены высовываются,
чокаются и здороваются
из прозрачной стены,
за ними – еще вырисовываются…
И за лесом
у дома около —
всплыло облако над Окой,
и окна прожекторное око
посмотрело далеко-далеко
и увидело:
около Сены
также излучаются стены.
И с огромным лучом
у Ориноко
встретилось оконное
окское
око.
И из Белостока
тянулся чокаться
с окским товарищем
бокал белостоковца.
За океан
лучи доползали.
(«Это – Нью-Елка!» —
дети сказали.)
Гости – вокруг стола.
Глазами – к хозяину.
Замерли.
Дед-звездочет (голова не стара)
рассказывает,
время развязывает,
годы раскладывает,
глазами орлиными годы разглядывает,
и по гостиной проносится вихрь
давних
тридцатых
и сороковых.
Дед
посмотрел на часы:
на циферблате ночном
половина двенадцатого.
– Внуки!
Бокалы в руки!
Начнем.
Первый тост за Двадцатый,
за наши бои и осады,
за простого штыка граненую сталь!
Наполняйте
граненый хрусталь.
Теперь
никто не нуждается в термине, —
«жизнь»
у нас называется
жизнью,
«время»
у нас называется
временем.
А то, что оно
давно —
коммунизм,
это само собой разумеется,
это имеется.
Почему же влажнеют глаза,
как от гари на дымном пожарище?
Товарищи!
Вспомним окопное «За!..» —
крик атак,
восклицанье бойцов,
бежавших на танк.
Это
«За
коммунизм!»
в сорок давнем году
обучало ребят,
добывало руду,
приводило к присяге,
учило труду
и в солдатском ряду
багровело на фланге.
Боевое,
огромное,
громкое
«За коммунизм!» —
чтобы наши глаза
не слезились от горя,
не слепли в чаду мастерских,
не выцветали от газа,
не опухали от голода,
чтобы вовеки
ни глаза
не было болью исколото.
В годах
сороковых и пятидесятых
были не все чудеса,
что на елке сегодня висят.
Полстолетья и больше назад
мы смотрели на вещи
другие —
защитные, серые.
Мы гордились изделиями
тяжелой металлургии
и артиллерии.
И тогда б я повесил на ель
не планету,
а вещь вороненую эту.
Незнакома?
Не знаете, что?
Нет, не флейта.
Она не поет.
Это просто ручной пулемет.
Тот, с которым я шел по дороге
в дни тревоги,
за кустом устанавливал на треноге.
Если были стихи —
мы любили
не трельные хоры лесные,
а скорострельные и скоростные.
Я повесил на ель бы
наши мишени,
пробитые в стрельбы.
Я украсил бы ветки
пробами сталей
не шведских,
а чисто советских
для важных деталей —
для ствола, для замка, для бойка.
И тетрадки ребят
оружейных училищ,
ставших впервые
к жужжанью станка.
Я украсил бы ветки
сумками военных врачей
с их ланцетами, шилами, пилами,
что над нами,
под гул орудийных ночей,
наклонялись и оперировали
в надетых на шубы халатах.
В тех палатах
лежал гигроскопический снег,
жег стерильный мороз
и ветер – отточенно-острый.
И спокойные сестры
зимних берез…
Я принес бы —
верните на фронт! —
раненых просьбы.
Я б на елку принес
комсомольский билет
бойца наших пасмурных лет,
его гимнастерку и лыжи.
А в билете записка.
Взгляните поближе,
прочтите, не скомкав:
«Если буду убит – записку мою
прошу сохранить для потомков
как письмо
от отдавшего Жизнь
за вас
человека.
И прочтите за час
до Нового Века…»
Не уроните ни буквы,
ни слова не скомкайте,
смотрите:
явилось само,
вас нашло в этой комнате
фронтовое письмо
комсомольца.
К вам дошло —
не хранимое сейфом,
не прикрытое музейным стеклом.
Шло оно,
недоступное тленью и порче
и пытке любой
из билета в билет,
из сердца в сердце,
из почерка в почерк,
из боя в бой.
За перевалы шестидесяти
льдинами выросших лет
посмотрите и выясните!
чей это след?
Он, как будто от ржавчины, рыж…
Рельсы лыж
все длинней и видней…
Вот
широкая лапами ель
снег развесила, как полотно,
и платком из снежинок закрылась по брови
А под ней —
человек и пятно
на сугробе.
Снег на шапку нарос.
Руку ломит мороз.
Щеки жжет от ветра.
Он ждет ответа.
Может, это будущий тот,
кто, как колокол, бьющейся грудью
упадет
на стреляющий дот —
к коммунизму дойти
нам мешающему орудью
рот
закрыть?
Может, будущий тот,
освещенный тончайшей полоской
рассвета,
полстолетия ждет
от людей коммунизма ответа?
В лучах,
новогоднего света,
на дедову речь
внук подымает бокал выше плеч:
– От имени всех
людей Двадцать первого века…
Далекий товарищ,
раненый друг,
разведчик лыжного батальона,
Чувствуешь?
Я —
это ты,
твоими друзьями продленный
до полного мира,
до крайней мечты,
до века,
где счастьем,
как снегом,
засыпаны все рубежи.
Я жив – это значит:
ты жив.
Я сделал мотор —
это значит:
тобою он начат.
Прошу, передай остальным:
их жизни останутся,
их руки дотянутся
к нам.
Им солнце достанется.
И мы —
в обновленные дни
прошедшие дальше,
прожившие дольше, —
они.
Коммуна
любимых не забывает.
И вот как бывает,
как чудится молодым и седым:
когда на бесчисленной сессии
в пятидесятитысячном зале Советов сидим,
чувствуется: в каком-то ряду —
у всех на виду —
депутат Маяковский
мандат подымает в две тысячи первом году.
Ощущаются в зале
и Горький, и Свердлов, и Фрунзе, и Киров,
и все,
кто свои бесконечные жизни
с коммунизмом связали.
Имена Пионеров
планета запомнила.
Будут школьники вечно в читальнях
страницы листать…
Имя
подняло зал
и заполнило:
«Ленин!»
Всем поколениям —
встать!
Там и ты
в сорок первом ряду,
безусый и русый,
прикрываешь рукой забинтованной
Золотую Звезду…
Дед
раскрыл комсомольский билет.
Сверху – два ордена.
Снизу – фото.
Кого-то напоминает лицо,
видели где-то.
И вдруг начинает лицо молодеть,
юнеют губы у Деда.
В квадратике сером
юность видна.
И лоб, как на снимке,
и улыбка – одна.
Лишь брови на карточке тоньше.
Да это же Дед!
Да он же!
Он должен дожить и дожил
до самых сияющих лет
и смотрит на свой комсомольский билет,
целует близких и ближних
седой-молодой
разведчик и лыжник
и открыватель Звезды Золотой!
О, как много людей!
Кто в тихой беседе,
кто в думе.
Будто никто и не умер за это столетье!
Улыбку в усы
запрятал Кашен.
На руку Тельмана
с рубцами фашистских наручников
ладонь положил
товарищ Хосе Диас.
Тут среди нас,
иероглиф листовки читая,
за столом Китая
задумчив товарищ Чжу-дэ [11]11
Марсель Кашен (1869–1958) – французский коммунист, крупный деятель Социнтерна и Коминтерна. Хосе Диас Рамос (1896–1942) – испанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании в 1932–1942 гг. Руководил компартией во время Гражданской войны в Испании, не занимая государственных постов. Чжу Дэ (1886–1976) – китайский военный, государственный и политический деятель, лидер китайской революции 30–40 гг. XX века. Чжу Дэ являлся одним из наиболее близких соратников Мао Цзэдуна.
[Закрыть],
Так везде!
Во всей земношарой Отчизне.
Живы!
С нами —
навек —
люди, отдавшие жизни
за коммунистический век!
И вновь,
заменив небылицы видений и снов,
стены
начали снова сиять газосветные,
и задвигались улицы разноцветные,
замелькало знакомое множество
лиц.
И люди увидели
наяву
Столицу столиц
Пяти Частей Нового Света —
просторную и удивительную
Москву.
Багряный лоскут Кремлевского знамени
выглажен ветром.
Рубиносозвездие светится.
Глазами они поднялись по лестницам,
и вплыл в миллионы
квартир новогодних
светлый Георгиевский зал.
Там тоже Елка
сегодня.
И каждая ветка держит в руке
игрушек веселый пакет
и смотрится в светлозеркальный паркет.
И вдруг
распахнулись все бывшие царские двери,
детям в открытую даль
весь в тонких фонтанах
раскрылся Версаль,
зеркальные двери с гербами
распахнул Букингемский дворец,
богдыхана – эмаль с черепицей —
чертог и индийские пагоды,
сложенные из множества ног.
И вбежали ребята —
тысячи тысяч русых, и черных,
и темно-каштановых,
в бантиках кос,
и тысячи тысяч вихрастых и стриженых,
и звездное небо мальчишеских глаз,
не видевших ни подвала, ни хижины! —
И их в хороводе стали вертеть
Аленушки,
Красавицы Спящие
и Сандрильонушки,
и в новых сапожках
сказочный Кот
под ручку с пушкинской белкой…
Ребята, сюда!
Шире круг!
Будем следить за тоненькой стрелкой,
за той,
золотой,
начинавшей и Сорок Первый
тем же звоном и той же чертой…
Осталась только одна
секунда
до Нового Века!
Так выпьем до дна
за них,
бессонных в трудах,
бессменных в походах,
за наших любимых и родных —
людей
Сорок Первого Года!
И в комнате из елки выросла
башня с часами,
ставшая сказкою,
выросла Спасская
башня с часами,
башня та самая.
Звон часов
Двадцать Первого Века!
Он —
отошедшего века наследье.
Дан
нераздельной семье человека
сын
героического столетья.
Еще не отзвонило двенадцать,
как весело дети в залу вошли:
– Деда, а деда!
Чего мы нашли!
Варя и я,
Олег и Володя!
Газету!
Вот эту!
От тридцать первого декабря
девятьсот сорокового года!
Вот посмотрите:
страница старинная,
и в ней
описана наша гостиная,
и то,
как подарками светится елка,
и то,
как радио Москву показывает,
и то,
как дедушка тут рассказывает,
и то,
как башня часы названивает,
в стихотворении
под названием:
«Ночь
под Новый
Век».






