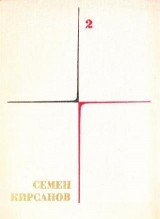
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Фантастические поэмы и сказки"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
ВЕСТЬ О МИРЕ (1945)
Венок сонетов
1
Еще нет вести о начале мира.
В госпиталях – карболовая мгла.
Нетерпеливо ждут ориентира
приборы орудийного ствола.
Невидимое облако эфира
витает у стерильного стола,
кипит пила, и к телу командира
зеркальная протянута игла.
И пальцы долго моются у крана,
и клочья пены корчатся на дне,
и боль прикрыта марлею экрана.
Кричит сирена в солнечном окне.
Идет бомбежка, лихорадит рана.
Но раненый лежит спиной к войне.
2
Да, раненый лежит спиной к войне,
затылком к аду и глазами к раю,
а мозг уже искрит: «Не разбираю
сигналов, поступающих извне…»
С метеоритом в ноющей спине,
с мелькающею мыслью «умираю»
вчера он полз по кратерному краю
беспомощно, как люди на Луне.
И от потери крови видит он
необычайный, разноцветный сон:
весенний парк, ракеты, праздник мира,
себя с любимой в глубине аллей,
и между сине-красных тополей
шумит фонтан, цветной, как птица лира.
3
Шумит фонтан, цветной, как птица лира,
плеща, подходит пристань к кораблю.
Входной билет получен у кассира,
все хорошо – я к веслам, ты к рулю.
Нас веселит эстрадная сатира.
Я через фразу думаю: «Люблю».
Потом стрельба по пехотинцам тира,
потом я мяч из рук твоих ловлю.
Рука обвила нежную одежду,
в ней тело, предназначенное мне.
Но это было прежде – где-то между
реальностью и видимым во сне.
– Ты не умрешь… – еще твердит надежда,
а смерть уже дежурит в стороне.
4
А смерть уже дежурит в стороне.
Но меж лепных и карнавальных зданий
мир полон новых радужных созданий,
недавно зародившихся на дне.
Мир полон новых радостных сознаний
с прозрачными крылами на спине,
свиданий утренних и досвиданий,
встреч и разлук ночных наедине.
И циркуль чертит стадиона круг,
и глаз следит за каплей нивелира,
и над плитою – голубятня рук,
там кренделя готовятся для пира.
Картинки клеят школьники.
И вдруг сирена воет в синеве эфира!
5
Сирена воет в синеве эфира.
И в миг, когда накладывают шов,
меня несет над пиками Памира
к кораллам Каролинских островов.
И рыбы меч зеленая рапира
насквозь пронизывает свой улов,
и смотрит на меня из-за стволов
резиновая мордочка тапира.
Линкоры собираются в проливе,
где мины пульс считают в глубине,
киль судна ощущая в перспективе.
Так сделали наркозы: в этом сне
колеблются дома, как на обрыве,
и стекол нет в расстрелянном окне.
6
И стекол нет в расстрелянном окне,
и много звезд – бризантных и падучих.
Кресты ежей и ржавчина колючек
на обожженной взрывами стерне.
И появленье призраков ползучих
и шарящих руками по стене,
озноб падучей, будто ног паучьих
касанье на холодной простыне.
Слепящий свет сдирает кожу с век,
взрыв заглушает возглас командира,
и в душу гул вселяется навек!
Короткой мордой дергает мортира,
и падает на землю человек…
Кричит земля: «Немедленного мира!»
7
Кричит земля: «Немедленного мира!»
А женщина тоскует у окна.
Печалью запечатана квартира
и черной тишиной окаймлена.
В чернильнице кристаллики сапфира,
и скатерть ожиданием полна.
На ней коробка черствого зефира,
торт и бутылка пыльного вина.
Все ждет меня. Чертежный стол на месте.
Все родственники в рамах на стене.
А от меня пи отклика, ни вести.
Ждут циркуля в иссохшей тишине
бумаги белой ватманские дести.
Но враг и мертвый бредит обо мне.
8
О, враг и мертвый бредит обо мне!
Убийцы с жертвой состоялась встреча:
он хочет поболтать наедине,
культю протягивает из предплечья,
показывает раны и увечья,
мной нанесенные ему в войне,
и шепотом неясного наречья
дает понять, что истина в вине,
что он знакомства этого искал,
и черен рта смеющийся оскал,
а под столом нет-нет и звякнет шпора.
Но не мундир, а курточка на нем
и шапочка баварская с пером…
Он говорит: «Нет повода для спора!»
9
Он говорит: «Нет повода для спора!»
Но, черт возьми, мне дьявольски знаком
зачес на лоб по линии пробора,
болтающийся пояс с тесаком.
И синева приятельского взора
потрескивает странным огоньком,
все вкось да вбок от темы разговора —
мол, пуля у него за позвонком.
Показывает дыры на шинели:
– Давай за дружбу выпьем, старина! —
Припоминаю гётевские трели
и те зрачки лжеца и хвастуна,
которые на Фауста смотрели.
И кровь сочится с бульканьем вина.
10
И кровь сочится с бульканьем вина.
По скальным грудам хлещут мониторы,
и вот руда в песок раскрошена,
и тускл уран, и серебрится торий.
Рожденный в тишине лабораторий,
встает вулкан, и слепнет вышина,
второе солнце закипает в море,
и участь Хиросимы решена.
А сестры наклонились надо мной
и держат пульс – он оборвется скоро.
И лоб томит неумолимый: зной.
В бреду идет развитье разговора:
– Забыта ссора… Кончено с войной… —
Проели черви яблоко раздора.
11
Проели черви яблоко раздора,
шумят хвосты зелено-красных лир,
трехцветное трехглазье семафора
встречает приближающийся мир.
К мозаикам старинного собора
все голуби слетаются на пир.
И простыни, развернутые скоро,
из безобразных высунутся дыр.
Затянет кожей красноту пореза,
забудется причина и вина.
И свалкой беспризорного, железа
покажется далекая война.
Заменит ногу дерево протеза,
утихнет боль, утешится жена.
12
Утихнет боль, утешится жена.
Смерть прекращает странные виденья,
смерть выключает внутреннее зренье
и фильмы неоконченного сна.
Разъединяет чувства и сцепленья
и гасит свет на дне глазного дна,
сжимает сердце, вводит затемненье
и лоб желтит умершему она.
Лежит на койке павший командир,
прикрытый флагом с золотом узора.
Проносится по госпиталю: «Мир!»
Луч солнца побежал вдоль коридора,
и, заглушая выстрелы мортир,
эфир дрожит от радостного хора.
13
Эфир дрожит от радостного хора,
раздергивает занавес рассвет,
рубильники включают полный свет,
лучи во всю арену кругозора.
Тройной зрачок циклопа-светофора
машины красит в изумрудный цвет,
голубизной младенческого взора
обводят новорожденные свет.
Вновь девушка идет к своей надежде,
законам лета яблоня верна,
и облака несут дожди, как прежде.
И в бочках бродят гении вина.
Весь мир очнулся в розовой одежде.
Но – грохотом чревата тишина.
14
Но – грохотом чревата тишина.
Костыль отброшен, вылечена рана.
Стучит, пищит короткая волна
в магнитной атмосфере океана.
Пищит волна, и вдалеке видна
сиреневая дымка урагана.
Тяжелая вода освящена
для верной службы атому урана.
И как ни пахнут новые духи,
из розового созданные мирра,
как ни звонки вокальные верхи,
как ни сияют Орион и Лира,
как ни звучат великие стихи —
еще нет вести о начале мира!
* * *
Еще нет вести о начале мира,
и раненый лежит спиной к войне.
Шумит фонтан, цветной, как птица лира,
а смерть уже дежурит в стороне.
Сирена воет в синеве эфира,
и стекол нет в расстрелянном окне.
Кричит земля: «Немедленного мира!»
Но враг и мертвый бредит обо мне.
Он говорит: «Нет повода для спора!»
(А кровь сочится с бульканьем вина.)
Проели черви яблоко раздора,
утихла боль, утешилась жена,
эфир дрожит от радостного хора,
но – грохотом чревата тишина!
СКАЗАНИЕ (1962–1964)
про царя Макса-Емельяна, бесплодных цариц, жену его Настю, двести тысяч царей – его сыновей, графа Агриппа, пустынника Власа, воина Анику, царевну Алену, Мастера-На-Все-Руки и прочих лиц из былых небылиц
Сочинил Симеон, сын Хрисанфов
Сказ первый
Начинаю сей сказ, грешный аз.
В некотором царстве, нектаром текущем государстве, на самом краю света, в лето не то в это, не то в то, в некогда сущем Онтоне-граде, при свите, при полном параде жил царь.
Было сие встарь, во время оно.
Ликом царь до груди бородат, на сивых кудрях корона, золотом шит камзол, на державе алмазы да перлы. Ну, вроде король бубён.
Не зол, не бурбон, не турок, не перс.
А только один как перст царь Макс-Емельян Первый.
Царю уже под сто лет. И колышется их величество, как пылинка на былинке. А сыночка наследного нет.
Вот и числят царя как последнего, хоть Первым и числится.
Роду Максову лет поди, тысяча, а выбыли все из царской фамилии. Вымерли, точно их под метелочку вымели.
Был сын Адольф – принц двадцати годов, в вере истов и стоек душой. Вот о нем повествует историк Черпий Виний Младшой: вздумал царь на царице жениться религии идоловой, только дело не выгорело – сынок был упрям, не хотел поклониться поганым богам. Связали его по рукам, по ногам – и в темницу. Царь еще раз ему: «Не перечь! Поклонись истукану!» Принц: «Не стану!» Ну и снес ему голову с плеч палача Брамбеуса меч, пострадал он ни за что, ни про что.
И с тех пор государство непрочно.
Не осталось в нем и иных особ, династии родственных, ни косвенных, ни прямых. Эта ли, та ли причина? Но факт, что особы разного чипа – три ряда князей и княгинь – чинно лежат во гранитных гробницах, держат кресты во костлявых десницах.
Аминь.
А царю Емельяну-то Максу ребеночек снится.
Много лет до глубокой полночи на перинах из пуха павлиньего он ворочается, охает. Блох нет, а чешется то тут, то там. Ко вторым петухам лишь забудется. И царю во дремоте мальчоночки чудятся, пухлые, точно куклы. Перетянуты ниткой ручоночки, с вихорьками головки, как луковки, земляничные ротики и животики ровно тыковки.
Умиляется знатное общество, как агукают их высочества, как ножонками тыкают во льняные брабантские вышивки.
И коронка у всех на волосиках золотой молоточечной выковки.
Колыбельки везут на колесиках няньки в белых чепцах. Утирают ротки полотенцами с заглавными красными буковками. Королевы идут за младенцами при борзых заливистых псах, по лужайкам гуляючи. Именами названы разными, а по отечеству – Макс-Емельянычи. Вот и едут во сне через просеки их высочества.
А из кружев – орлиные носики.
И под самую зарю
снится старому царю,
что приходит в спаленки
побаюкать маленьких.
Царь качает колыбель,
словно море корабель:
– Тихо, курочка, цыц —
спит Карлушенька-принц.
Баю, принц Кириллушко,
спи, усни, Аттилушка,
клюй орлиным носиком,
Фридрих Барбаросынька.
Отчего уачет
грозный Иоанчик?
Хочешь? Батюшку ударь! —
Кличет нянюшку с наколкой,
чтоб подтерла под Николкой.
Ай да царь!
В поздний час государь как очухается – ничего не пищит, не агукается. Старец ждет его, статс-секретарь, лыс, как крыса. Со двойною седой бородой – две метлы под отвисшей губищей – одевает царя камергер. Собрались старичища министры, сто дворцовых фрейлин-мегер. От винища носища набухли, всё седые косища да букли, бородавки что пауки. Тальком сыплются парики, на паркет напылили. Вон – сенатор, с докладом в руке, десять лет лежал в нафталине. Паралитика в кресле везут, а в портфеле его – вся политика. Вот, одною ногою разут, генерал на двух костылищах. Их бы всех да в гробы! Лбы краснеют от шишек, кадыки да горбы. Приседают и пятятся из-за фалд золотого шитья. Ни штанишек, ни платьица…
Эх, кабы хоть одно, да дитя!
А откуда?
Ку-ку.
Одиноко царю-старику.
Худо.
А народ осмеливается – посмеивается. Как народу – без смеха? Только фыркнет кто в кумачовый платок – и пойдет хохоток-грохоток и раскатится хохотом эхо. Так давно заведено – у одних куний мех, у иных ум и смех. Озорного словца не искать скоморохам – говорят, будто царь обрастет скоро мохом, хоть избу конопать! И хохочут опять. С поговоркой портрет намалюют шутя. Хоть на это запрет и в законе статья. Мало штук ли? Ан – на рынке возрос балаган, завертелись вертепные куклы. Удивляется младь и старь: «Да, никак, наш царь, из тряпок состряпанный? Борода из пакли, на носу красные крапины»:
– Здравствуйте, господа!
Вот и я к вам явился сюда.
За кого вы меня признаете:
за короля прусьского
или за прынца хрянцюзьского?
Я не есть король прусьский,
ни прынц хрянцюзьский,
а есть царь Максемьян.
Тут Петрушка как вскочит да как загогочет:
– Га-га-га, Максемьян без семян!
И народ, конечно, хохочет.
А зайдешь в заведенье питейное, и оттуда доносится пенье шутейное. Усмехнулся хмельной штукарь:
– Исполать тебе, ненадёжа-царь,
на полатях, знать, залежался ты
и о деле забыл о благостном,
именинной чаркой не жалуешь,
не вантажно царишь, не балуешь
государство медовым благовестом
о рожденье сыночка Максыча.
И чего нам ждать от тебя, сыча,
от хрыча, в бороде утопшего?
Коли стал не муж, коли сам не дюж
постараться для блага общего —
ты б из спаленки убирался уж,
допустил бы к постеле свадебной,
кого девкам здоровым надобно, —
кузнеца, удальца пригожего.
Поработает он, играючи,
ударяючи добрым молотом.
Понесет она с того вечера
в семь кило дитя, королевича,
вороного крыла, кузнечьего.
А что цвет не твой и портрет не твой,
не казни за то – делать нечего,
царь наш батюшка, если нет чего.
А то, чего нет, в государственной тайне содержится. Государство, оно ведь на тайне и держится. Царь-то царь, а правителем – статс-секретарь. Как бы нет его, а доносится скрип из угла кабинетного. От сиденья сутул и от прищура крив. У него лишь конторка да стул, а в шкафу под замком – весь архив. Вот таков граф Агрипп, с гусиным пером за ухом. Ах и хитрый старик! Обучен всем наукам, и на нем государство стоит – и война, и финансы, и иные дела, какие неясны.
Кому-кому, а ему-то следует знать, у кого бы наследничка подзанять.
Так или сяк, а род Максов иссяк, и сыночек ему не дан ни от каких дам. А спрос-то ведь не с царя, а с графа Агриппа, с секретаря, бди и нощно и дённо.
Разбирает Агрипп архив – что ни лист, то другая корона. Тридцать было жен у царя, и всё зря.
В королевах ходила испанская донна, лицом хоть куда! Звать Терёза, тверёза и молода. А нет плода!
За Терезою – польская краля Ядвига, молоко да клубника, захмелеешь, узря. И зря.
А за ней австриячка была – Фредерика, станом оса. Русская царевна Федора, в два кулака коса. Итальянская Леонора, что твоя лоза, персиянка Гюрза, Кунигунда была, Розалинда – инда счет потерял Емельянушка-Макс.
Так-с.
А ни дочки, ни сына.
Абиссинская даже была негусыня, чернее всех саж да вакс. А за ней англичанка Виктория – родовита, бледна. И со всеми такая ж история: умом тонки, породой чисты, а внутри пусты.
Куда уж дальше ходить – из Парижа выписал Антуанетту, уж и модница, и любовница, только дитя бы родить!
Ан того и нету.
Разослал государь по родителям жен, и невемо, что деять должон? И не в том возрасте, чтобы ждать бодрости. И не так стар стал, чтобы сдать царство. И снедает царя тоска-с.
А за сим новый сказ.
Сказ второй
Посредине града Онтона есть фонтан, а на нем Нептун, белый флаг свисает с фронтона, и гуляет вокруг топтун.
Дом воздвигнут на месте возвышенном, у дверей – с алебардой вратарь.
А внутри, за конторкою, – статс-секретарь. Мыслит он о предмете возвышенном среди умственных книг.
Сокрушается граф Агрипп – смертны суть человеки. Жисть есть миг. И царям не навеки дана сия. Догорела династия. Род великий погиб.
Чуть что – государство без власти очутится. Ни узды, ни стремян. Как скапутится Макс-Емельян, тут и смута!
И Агриппу как быть самому-то? В сердце – нож!
Ведь оно, государство, ему – вроде няни грудастой: пососешь и соснешь. Чтоб давало со щедростью дар свой – изощряйся хитрее, чем уж.
И к тому ж – граф Агрипп был ученейший муж. Знал он уж и Историю, и Астрономию, и где север, где юг, где поля и где пущи, только пуще прочих наук уважал Гастрономию – всякий гляс или фарш. Царский харч – не тарель баланды. Царедворцу даны привилегии превеликие! Чем-чем, а печением граф обеспечен на сто лет.
На столе черепаховый суп, пуп фазана, да печень сазана, и шипучий нарзана сосуд, если пучит.
Попроси – и несут на салфетке суфле Сан-Суси, фрикандо соус рюсс и для свежести жюс – сквозь соломку соси. И вино, под названьем «Помар» – точно Кровь, аж садится комар.
А на сладкое – с сахарной пудрой сухарное лакомство.
Благостно.
Мудро.
Все начищено, гладко наглажено.
При царе государство налажено, есть и власть и ядение всласть.
А как каркнет Смерть, одинако кося и царя и псаря, – выкуси, на-кося! Хоть зубами стучи, хоть кричи – где ты, Макся?.. Забушуют кругом кумачи, Гришки, Стеньки пойдут, Пугачи… Весь архив разгребут – и на ветер. И тогда – не филе на тарель, – самого – на вертел, чтоб шипел, как филе натюрель. Может статься! Мясо графское – сочное. Чует статс-секретарь – дело срочное. И решать сей же час. Догорает же царь, как свеча-с!
Вдохновенье на графа находит. Он спасительный выход находит. Призывает к себе судью Адью – гроссмейстера в мантии, в маске. Лицо доверенное, проверенное. Сочиняют они решенье о Максе – высочайший вердикт. И пускай его Тайный Совет утвердит. А кто повредит – привет с того света. Заседают вдвоем до рассвета.
Так что царская песенка спета.
Утренним чаем согрет, граф назначает Тайный Совет. Но – секрет. Сам вручает билет пригласительный. По чину, по сану, как приличествует: во-первых, Их Величеству Макс-Емельяну, во-вторых, барону Ван-Брону, графу Джерафу, князю Освинясю, герцогу Герцику, судье Адье, отцу Питириму и еще пятерым.
Чуть свет на Тайный Совет едет двенадцать коронных карет. Но – строжайший секрет. Членам – двенадцать поставлено кресел, царю – трон. На креслах – двенадцать двуглавых ворон. Мантии к мантиям, парики к парикам. Седую главу повесил царь-старикан. Нутром свое положение чувствует. Но члены царю для блезира сочувствуют.
Граф Джераф советует в Карловы Вары, барон Ван-Брон полечиться бобром, герцог твердит, мол, полезны отвары, князь Освинясь – медицейскую мазь… Молчит лишь судья Адья.
На столе ни еды, ни питья, ни варенья. Одни говоренья.
И пускай говорят! Как говорится, надо дать голове поварить, поговорить, выговориться, да не проговориться. А кто вперекор проговаривается – тот судьею к статье приговаривается: бери узелок и – адье! Говорить – не пироги варить. А всего не переговорить.
Наговорились кто сколько хочет. Пора и кончать. Граф Агрипп звонит в колокольчик, кладет на бумагу печать.
Так сказать, начинается вынос:
– Вы нас, мы вас, Ваше Величество, любим. Вы наш отец, мы ваши люди. А роду конец. И где тот птенец, что наденет отцовский венец? Как ни сетуй – нетути. А раз так, надо звать на царствие Рюриха из города Цюриха. Он-то плодиться мастак. И мы, холопья вернейшие ваши, припадаем к стопам августейше-монаршим, спину гнем под меч или бич, верноподданно молим подписать отречение, браду постричь, корону сдать под квитанцию и, того опричь, отбывать на дожитие в страну Иностранцию, инкогнито, как никто. Вот – наш нижайший совет. Но – что скажет Тайный Совет? Мы – человек служащий, ваши указы слушающий.
А судья-то ключом бренчит, от тюрьмы. За дверьми – стража. Страшно. Пики. Пищали. В башне темно, кромешно. И, конечно, графья закричали:
– Ваше Сиятельство! Вы – что мы! Из одного из приятельства, кого прикажите – низложим. На кого – укажите – корону возложим. Попрем старика.
Плавит Агрипп для печати сургуч, горяч да тягуч. Поелику царь малограмотен, пишет Ван-Брон за него на пергаменте: мы, мол, велим Рюриха звать и всю его знать.
Членам уже охота зевать, тянет к ужину тайную дюжину.
Перо из гуся судья очинил, Питирим освящает склянку чернил, как вдруг затряслось помещенье от стука. Что за штука? А штука-то вот какая.
Верь не верь – распахнулась дубовая, с вензелем, дверь. Ведомо богу, какими путями, а в залу бежит мужик, следит по паркету лаптями. Два гренадера с пищалями кричат позади:
– Осади! Сказано, чтоб не пущали мы! Стой!
Да поздно.
А бежит мужичонка простой, в шапчонке из собачонки. Нос тычком, волоса торчком. Кем зван? Кем послан?
Судья Адья аж выронил ключ, граф обжег персты об сургуч, ляпнул барон на пергаменту кляксу.
А мужик-то бежит, рван и нищ, бить челом эксвеличеству Максу.
Вот уже бухнулся у голенищ!
Ван-Брон его за зипун, а мужик обернись да плюнь, Питирим его за портки, а тот его пяткой ткни, Освинясь бы схватил за лапоть, да боится мундир заляпать. Факт – срывает торжественный акт.
Челобитье не чаепитье – верноподданный раз настаивает, значит, важное дело есть. Хочет душу царю отвесть, лобызает подол горностаевый.
А царь-то пока еще царь. Не вошло еще в силу решение, только держит перо от гуся. Под указом имеются все подпися, а вот крестик царя не стоит. Подождет отречение. Встать велит мужику:
– А какое твое мужиково прошение? В чем оно состоит?
Встал мужик, перед величеством стоит. Из очей он слезы слезные струит. Из-за пазухи он вынул инструмент, быстро пальцами забренькал по струне:
– Эх ты гой еси, великий государь,
сапогом меня по темени ударь,
в кандалы меня железные закуй,
заточи меня в далекий Верхотуй,
только, царь, не отправляйся на покой,
не подписывай бумаги никакой,
а послушай ты холопьего гонца,
не сдавай злодею Рюриху венца.
Мы при нем, твои холопы, перемрем,
никакого нет житьишка нам при нем,
и ни хлебушка, ни редьки натереть,
и тебе нет интереса помереть.
Снаряжай-ка ты карету и коня,
посади ты вместо кучера меня,
мы жену тебе красавицу найдем,
ребятишек народится полон дом
Есть такая во Камаринском селе,
груди – во, что караваи на столе,
очи – во, и руки – во, и щеки – во,
и доселе не водила никого.
Тут пошел мужик плясать перед царем, бросил царь свою пергаменту с пером. Топнул об пол да и вышел из хором, стал он снова, как бывало, царь царем. Грозно крикнул он: «Карету подавать! Да коней поаккуратней подковать!» Рот разинул их сиятельство Агрипп, крикнуть силится, а голосом охрип. Царь по лестнице по мраморной идет, мужичонку рядом за руку ведет.
– Эх ты, сукин сын, камаринский мужик,
кровь по жилочкам, как смолоду, бежит —
груди – во, и руки – во, и щеки – во,
и доселе не водила никого!
Эх, невесту посмотреть бы поскорей,
народить от ней царевичей-царей.
Сел в карету грозный Макс-Емельян. Моложав и румян. На запятках арапчата, в красных туфлях и перчатках, а на козлах Фадей. «Гей!» – кричит на лошадей. Понеслись терема, и дворец, и тюрьма, и поля зашелестели, засвистели свиристели, кулики, перепела, в речке рыба поплыла, удят рыбу рыбаки, замычали быки, стали козы блекотать, – и такую благодать, что ли, Рюриху отдать?
За какой интерес?
Дудки!
И въезжают в темный лес на вторые сутки.
Магарыч за это с вас.
А за сим – третий сказ.
Сказ третий
Есть бор, да еще бор, яр, да еще яр, река, да еще река, а по-за тем яром, тем бором, той рекой – есть лес ельник, ольшаник, осинник.
И есть там пустынный покой, и есть в том покое пустынник, веры незнамо какой.
Имя есть ему Влас, имеет над тварью кудесную власть, над чем помавает рукой – то родится и дивно плодится, хоть гусь, хоть лось, хоть карась, А вчерась исцелил он корову яловую.
Плачет баба, исходит жалобою – давно бы дитятю дала бы, а лоно – оно не полно. Кручинится мученица.
А пустынника если попросят, приведут, подведут – стань, болезная, тут, – он перстами бесплодного лона коснется, глянь – она и на сносях, скоро нянчить дитя разлюбезное.
Тварь порожней пройдет перед Власовой хатою, а уйдет сужеребой, суягней, брюхатою.
Влас сидит на пеньке у окошка, лукошко вьет.
А у пят толпятся опята, ребята грибные, сынки – подосиновики, внуки – боровики, здоровяки. Глянет – и новенький гриб, круглоголовенький, встанет.
Бросит Влас полосатое зернышко, а наутро подсолнух, как полное солнышко, привстает из низи, и утыкано семенем донышко, выбирай и грызи!
Пальцем тыкнет – брюхатятся тыквы аль арбузы.
Лишь моргнет, и стрельнет горошком стручок – ровный, как жемчуг перебранный.
А собою простой старичок. Бородою струится серебряной и смеется губами.
Так и живет. Хлеб жует, щи хлебает с грибами.
Было присел у крыльца – прутья вить. А на ветках витьвикает певчая тварь: «Царь, царь, удивить, удивить!»
И жук-золотарь жужжит: «Женим, женим, со всем уваженьем».
И верно, – возраст помеха ли?
Вот и приехали царь и мужик. Тот шапчонку сорвал, тот корону, что ли, в ноги упасть?
Только Власу поклоны не всласть, ни к чему ему власть. Усадил он царя на колоду, зачерпнул ему ковшиком квас, угостил его коржиком из крупитчатой ржи и изрек вроде так:
– Ты, брат, царь Макс, не тужи, не снимай венца с темени раньше времени. Ходили ко мне и постарше. А как ты с дороги уставши, ложись-ка сюда поспать под ольху. Тут у нас не расставлена мебель. На своей бороде, что на птичьем пуху…
И растаял, как небыль.
Только пень посреди, весь во мху.
А сам – невидимкой стоит у сосны, насылает на Макса летучие сны. Зелье поваривает, заговаривает!
Вы летите, соничи,
на глаза на старичьи,
сонники, заспатаи,
крепкоспаи, снатаи,
азвевайте царичьи
худосны и суесны.
Сонири, соневичи,
навевайте любосны,
досыпа, до просыпа
сните сны-молодосны.
Снавься, Сонышко Всеснявин,
от уснявин до проснявин!
Сны-всеснаики, сонари,
соноумы, сонодумы,
усыпатели спросонья,
снитесь, сонные снири.
Спамо дело, снопыри,
вы подсоннечную сонню
спать успите до зари.
Красно-сон, зелено-сон,
желто-сон, голубо-сон!
Царь-сонница, дева-снарь
пусть тебе приснится, царь!
Дан сон,
сон дан!
Радужным сном одолен Макс, государь Емельян. Хорошо под ольхою. И занятие сон не плохое. Ах, как мягко!
Спит, ладонь под щеку подложа. И не дряхл! Ликом стал моложав, будто отрок в снежных кудрях, бородатый, хороший, другой.
А рядом – бугор, весь травою заросший.
Видит царский внутренний взор, как травинки в земле раскручиваются, учатся, как расти. Трутся о камешки корешками – воду, соль запасти. Выбрались в воздух зеленые прутьица. Глядь – надулся росток и расправился и уставился в ясный восток. И хотя у ростка невысокий росток, а статный на зависть!
Показалась из чашечки завязь. Там платочков сложено пять. Глядь – и пошел отгибать то один, то другой завиток, солнечен, желт, как бархат.
Солнце жжет, травы пахнут.
А цветок лепестками распахнут, весь раскрылся невестой к венцу, а к нему зажужжали шмелиные крыльца, вскопошилось глазастое жадное рыльце, сел цветочный жених на пыльцу. Ох ты бог! Да как всадит до дна хоботок!
Диковинно!
А стрекоз, а жуковин! Со всех слетелись лугов. Но бугор, он уже не бугор. Дышит, желтым подсолнухом вышит…
Эва – чья? Не шея ли девичья? И из ситца плечо. И еще – будто в печке выпеклась грудь, и такая прозрачная выпуклость – прямо грусть.
Точно! Девка лежит в сарафане цветочном, и лицом – точно солнце весной. Поросла колокольцами сверху и снизу, синевеется сизой фиалкой лесной. Ой, царь! Одолей, целина! Но уж больно лежит велика и сильна. Стан тяжелый, руки белые в тонком пушку, перепархивают от ушка к ушку полосатые пчелы – от серьги к серьге, от руки к ноге. Телом светится сквозь сарафан, так бы всю перерасцеловал! И под силу.
С жару, с пылу – сон не сон, голова от счастья кружна. Ох и сладко целует, притянешь как. И крепка, и нежна. В губы дышит она: «Хорошо, Максемьянушка, я твоя Анастасья, жена».
А мужик Фадей, нос тычком, волоса торчком, коней-лебедей запрягает, пару гнедых. Из ноздрей у них огненный дых, бьют копытами, свадьбу почуяли. Двойная дача овса! И карета цветами разубрана вся. Ну не чудо ли? Пара какая – царь и девка-подсолнух. На рессорах двойных, на колесах фасонных! Вихорьком завивается след.
С Анастасьей своей отдыхает царь, успокаивается.
А пустынник глядит, усмехаючись, вслед.
И чему это он усмехается?
В небе – синь, скачут версты.
А за сим – сказ четвертый.
Сказ четвертый
Шили Насте приданое, чтоб ходила прибранная. Набран тюль на фату, не видать на свету – так тонок.
Положили в сто картонок и парчу, и тафту, и цветного бархату, и на туфли сафьян, и сатин на сарафан, кружева к фартуку, ленты, гребни, всяческую сласть – девкам на деревне. И сейчас же слать!
Даже осерчала.
А сама – у зерцала. Приноравливается к царскому величию, к важности, к приличию.
Ресницами померцала – себе нравится.
Пять портних на полу златом вышиту полу сборили. Меж собою спорили – выше ту али ту? Сметывали рюши – поросячьи уши. Искололи пальцы все о парчовое плиссе. Выдернули ниточки на груди из вытачки. Пригляделись, – воротник требует поправок, а у них, у портних, полон рот булавок. Скалывают, колют, повернуться молят. Затянули груди в лиф на китовом усе, в венецейском вкусе…
Какова Настя! Вот царям счастье!
Платье вышло – диво див! Юбка в десять ярусов, вся горит стеклярусом, шлейф – парчовая верста, и на плечи два хвоста, жаркие, собольи.
Хороша собой ли?
Ну свадьба ж была!
Золотили купола,
горницы красили,
по коврам дубасили,
пыль выбивали,
сор выметали,
да выбивали
медные медали.
Перед банями
барабанили,
чтобы барыни
тело парили,
чтоб они
вышли —
сдобные,
пышные.
Столяры-мастера позабыли про сон – смастерили три стола на три тысячи персон,
с резьбами игривыми,
с крышками дубовыми,
с ножками тигриными,
львиными, слоновыми.
Били ночью в колокол,
ночь не ночевали,
золотым подсолнухом
скатерть вышивали.
А на кухне-то
в тесто ухнуто
сколько масла-то!
По махровым коврам
сам царь к поварам
вышел засветло.
Перцем перчили плов, салили, солили,
перья перепелов на плите палили.
На крюках мясники туши свесили,
пекаря в три руки тесто месили,
и ножи об ножи повара точили,
у костра вертела поворачивали,
зашивали, чтоб жарить на жарком огне,
глухаря в каплуне, каплуна в кабане,
кабана в быке…
Царь сказал: «Добре».
Посоветовал в муке
обвалять ребра.
Подошел к колбасе,
поглядел на лосей,
чуть отведал карасей,
похвалил лососей.
На слоеное тесто сметана текла,
сама Настя-невеста пирог испекла.
От начала стола до конца стола
она полной хозяйкой зацарствовала!
Зашипели в чаду
сковородочки,
и Фадею дадут
скоро водочки.
На двор холуи
выкатили бочки,
солоны валуи,
хороши грибочки.
Отомкнули погреба —
угощать по-царски:
каждому по полгриба,
каждому полчарки.
Каждому мужику
кинуто по медяку —
не ворованному,
а дарованному.
Налетай, кто рьян,
подбирай на счастье.
На орле – Макс-Емельян,
а на решке – Настя.
Вот и гости проходят под арками,
под венцами – с дарами, с подарками:
от барона Ван-Брона подушка для трона, от герцога Герцика ларчик для жемчуга, спальная ваза от князя Освиняся, поваренная книга от графа Агриппа, от отца Питирима средство для гриппа, от судьи Адьи с кандалами две бадьи, от графа Джерафа горжет из жирафа, от купцов первой гильдии шимпанзе из Индии, персики из Мексики, мокко из Марокко, настурции из Турции, специи из Греции, от народных старшин лиха тысяча аршин и сто возов недоимок за коров недоенных.
Граф Агрипп меж гостями похаживает,
он за стол по чинам их усаживает.
На руках гайдуки
понесли пироги.
Загремели трубы,
заходили желваки,
заскрипели зубы.
Вот стол так стол – аж гнется пол! Сиги, угри, пуды икры, в уксусе устрицы, в соусе лососи, филе в желе, крепки грибки, не плоха и уха, добрая вобла!
Вобла, говорите?
Вот благодать!
Собла-говолите
воблу подать!
Несут быка – в жиру бока. Какое жаркое! Пошел десерт– в сиропе рис! Царь милосерд – пирог «Сюрприз»! Рахат-лукум, шоколад «Лукулл», кавуны, грозди, – кабы мы гости!
По чинам сели,
«Отче наш» спели.
В зале знатные мужи
взяли вилки и ножи.
Шуты, горбы, щиты, гербы, бакенбарды, усы, аксельбанты, носы, из жабо – жабы, ничего бабы, животы, бороды, в позументе вороты, епанчи из парчи, сюртуки, старики, лысины, парики, чиновники, сановники, первые любовники, резвые барыни, цензоры, Булгарины, тайные советники, дипломаты, Меттернихи, вицмундиры, фраки, нагрудные знаки – чавкнули, чмякнули, чарками звяк-пули.
Кто кость гуся взасос сося, кто хвост леща в себя таща, посол впился в мосол лося, рыгает граф, быка сожрав, надрался дьяк, обняв коньяк, в зубах отца трещит овца —
вот жир так жир,
вот пир так пир,
вот царь так царь!
Царь ест, царь пьет, царь губы трет, – уж как царю пируется, с царицею целуется. Ему, царю, не до гостей – в опочивальне ждет постель – красуется, дубовая, принять чету готовая, —






