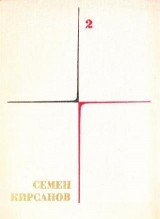
Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Фантастические поэмы и сказки"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Семен Кирсанов. ТОМ ВТОРОЙ.
Фантастические поэмы и сказки
Фантастические поэмы и сказки (1927–1964)
Волшебная комната
У меня, в волшебной комнате,
по соседству, за стеной,
есть колпак – звезда на конусе,
есть халат – обшит Луной.
Есть набор волшебных палочек,
банка духов и чертей,
и полдюжины – из прачечной —
самобранок-скатертей.
Рядом с кошкой в черном кителе
сидит вещая сова
и корректно – посетителям
говорит: «Comment ça va?»
Когда книжки и учебники
на ночь гасит абажур, —
я в ту комнату волшебную
с младшим сыном прихожу,
В этой комнате позволено
без оплаты никакой
сколько хочешь звезд из золота
брать из воздуха рукой;
можно голубя воркующего
мигом вынуть из плаща;
воздух в розы, воду в кружево
можно просто превращать.
Тут пластинки, могут делаться, —
под шарманку с тишиной
на столе танцует девочка
с незабудку вышиной.
Сыну я сказал: – Пожалуйста,
вот тебе заветный ключ,
вот тебе металл пронзающий
голубой волшебный луч.
Захотел алмаз – пожалуйста,
молви слово и добудь!
Только здесь нельзя из жадности
в сумку прятать что-нибудь.
Можешь вызвать духов сказочных,
научить работе их.
Только здесь нельзя заважничать
и кричать нельзя на них.
Видишь палочку – пожалуйста,
делай все из ничего.
Только здесь нельзя безжалостно
бить и мучить – никого!
А не так, – без возвращения,
без приметы, без следа, —
эта комната волшебная
вдруг исчезнет навсегда.
МОЯ ИМЕНИННАЯ (1927)
1
Вступление к повествованию,
составленное в тонких лирических тонах, соответствующих позднему часу.
Дети, дети, спать пора!
Вьюги воют в рупора,
санки с лыжами озябли.
Спрячьте куклы, книжки, сабли,
спать, спать, спать пора,
по кроватям, детвора!
Львиная лапа —
замигала лампа.
Запорошил снег порог.
Сеня кончил свой урок.
Ах, какой он маленький!
Этажерки ниже.
Отстегнул от талийки
короткие штанишки.
Ветер хлопья с крыши сдул,
задымил туманно.
Села мама на стул,
и запела мама:
«Месяц выплыл, юн и тонок,
и поплыл домой,
и на лапки, как котенок,
стал будильник мой.
Опускай скорей ресницы,
крепче засыпай,
пусть тебе, сынок, приснится
пограничный край.
Нелегко в пургу согреться,
снегом занесен,
твой отец залег в секрете,
сжал винтовку он.
Снег кружится. Ночь кренится.
Вертится буран.
Злой шпион ползет к границе,
затаив наган.
Но отец твой старый воин,
закален в бою.
Спи, малютка, будь спокоен,
баюшки-баю.
Скоро, скоро, после школы,
вырастешь большой,
и сожмешь приклад тяжелый
сильною рукой.
Провожу бойца Семена,
поцелую в ус,
положу в кошель ременный
хлеба теплый кус.
А пока я только песню,
песенку пою,
спи, сынок, в кроватке тесной,
баюшки-баю!»
Баю-баю, махонькой,
спи в кроватке мягонькой…
Темнота. Тишь.
Тени на полу…
– Спишь?
– Сплю…
2
Глава, для, расшифровки которой требуется, по крайней мере, сонник. [1]1
Пример схемы главы:

(Здесь и далее примечания сканериста.)
[Закрыть]
Сплю… сп-лю… В кухне кран закапал – сп-лю, сс-п-лю.
За сугробом сжал винтовку папа… Т-сс… с-плю…
Папа перед вором, в углу склад.
Делает шпион затвором: Ку-клукс-клан.
Одеяла драп свис.
В доме спят. Храп. Свист.
Папа падает, падает, пада… Испуг!
Сплю.
Поле. Синь. На заре
парусинный лазарет.
Раненый охает,
пуля села в легкое.
Из холодных палат
белый движется халат.
Это врач, это ясно —
облит струйками красными,
он кричит: – Одевайся
поскорей, за лекарствами! —
Ночь темна и густа.
До аптеки верста.
…Кальций, вата и йод…
Мама песню поет,
где-то каплет в углу…
Сплю.
3
Глава педагогическая
с замиранием под ложечкой, посвящаемая учителям и карцеру Одесской 2-й гимназии им. Николая II.
Грудой башен заморских
снег, сверкая, лепится.
Утренние заморозки,
гололедица…
Холод пальцы припекает,
вот бы если варежки!
Мимо Сени пробегают
школьные товарищи.
Закричали Митя с Колей:
– Сенька, ты чего не в школе?
– Я врачом в аптеку послан
и вернусь оттуда поздно.
– Раз, два, три, —
Сенечка, не ври.
Зажимайте живо рот!
Пацана – за шиворот,
влазь в класс!
Подтолкнули валенками,
посадили с маленькими.
Бел
мел.
Подтянись! —
За пюпитром латинист.
Руки что жерновы.
– Ну-ка, за латынь! —
Скрыты брови черные
пенсне золотым.
Раз, два, три, —
Сеня, повтори:
«Dantebe, mater Rossia, iscus, essentia quassa,
cicero, corpus, petit Isvesti, orator, tribuna,
radionositis centra declaratii: Urbi et orbi,
purpura parus namorae Respublica guetrus tremit».
Бледен мальчик, обмер мальчик,
в класс вступает математик:
§ 000. Шли четыре мужика, говорили про крупу,
про покупку, про крупу да про подкрупку.
У меня полпуда с граммом, у тебя кило и пуд,
у Антипа пуд и гарнец, у Ивана четверик.
Сколько было в метромерах всей крупы на
четверых?
Обмер Сеня, пьяный будто,
стал решать и перепутал,
и, издав военный крик,
через кафедру – прыг!
Прыгнул через падежи.
– Да держи его, держи! —
Тангенс, синус, плюс и минус,
взял разбег —
А + В….
Перепрыгнул Ваню и
Рисование,
Перепрыгнул Рафу и
Географию,
Перепрыгнул Саню и
Чистописание!
Надзиратель поднял вой,
прибежал городовой, —
в воду канул гимназист,
невысок и неказист!
Встал учитель на порог:
– Повтори, лентяй, урок!
Что мальчишке до урока?
Перед ним легла дорога
голуба и широка.
Сахарные берега…
4
Глава сладостная,
посвященная деликатности, полному собранию сочинений Л. С. Когана и зубоврачебному креслу.
Берег моря. Где я? Стоп!
Вкусный, сладкий запах сдоб…
Изменили мне силенки,
устаю, устаю!
В поле сахарной соломки
я стою.
Я ж не сладкого искал…
Сколько сахара-песка,
что за розовая ваза!
Ах, как пенится у скал
Море Клюквенного Кваса.
Золотятся пески —
самый лучший бисквит!
Горный тянется хребет —
чистый, радужный шербет!
А в долине, вдали,
но отсюда недалек —
разноцветный городок
в бонбоньерке залег.
Белосахарных палат
расцветают купола.
– Заходи, стар и млад,
хочешь, кушай мармелад,
хочешь, губы шеколадь,
наряжайся в маки, —
хорошо щеголять
в серебряной бумаге!
Посмотри на домик тот,
это – торт.
Ну, а это фортепьяно
сделано из марципана.
Гуляют ангелочки —
на плечах кулечки,
в обертках, как шейхи,
раковые шейки.
Прямо, прямо нет спасенья!
От соблазна плачет Сеня.
Ах, он бы съел
ну хотя бы монпансье.
Посредине города,
неширок и короток,
домик из печеньица,
а оттуда голосок,
словно ананасный сок:
– Мое вам почтеньице!
В райские кущи
заходите, скушайте
абрикоску, сливку,
вишневую наливку.
Не стесняйтесь, заходите!..
Сеня, слюни вытерши,
видит: Главный Кондитер с Главною Кондитершей.
Сколько, сколько сладостей!
Где ж это кончается?
У Сенечки от слабости
все в глазах качается.
Время клонится к восьми.
И весь мир просит Сеню:
– Слушай, скушай этих яств новизну!
Ну, возьми! – Не возьму…
А мальчиковы пятки
вязнут, вязнут в патоке.
Па-атока тяну-чая,
ги-бель неми-нучая,
тя-анутся сладкие
ли-ип-кие нити…
– На помощь, на помощь,
спасите, вытяните!
Тону! Тону! —
А хитрая Кондитерша
смеется: – Да нну?
Вот уже рубашка в патоке подмокла.
Но что это? Откуда это мчится подмога
Кем это выслано
соленое и кислое?
Армия столобая —
мчится соль столовая,
а за нею мчится
перец и горчица…
Как ударила соль
в сахарную антресоль!
Как повылетел хрен —
шоколады дали крен!
А горчица горячится:
– Эх! Не грех —
бей в мускатный орех!
Кондитерша кубарем,
блещет нижним бельем.
Ну-ка, уксус откупорим,
обольем, обольем!
Налетают, налетают
стаи перца на туман,
тают, тают, тают, тают
шоколадные дома…
И сахарная жижица
льется
и движется.
5
Глава, написанная к сведению библиотекаря. Что читали Пушкин и Чуковский?
Странной силою ведомый, я вошел в гусиный домик.
За столом и чашей пунша, в свете карточной игры,
под тик-так часов-кукушки ждали Андерсен и Пушкин,
Гофман, Киплинг и Чуковский, Кот Мурлыка, Буш и Гримм.
И сказал Чуковский: «Сядьте! Мальчик Сеня, ты – читатель,
и, конечно, как читатель, без завистливых затей,
ты рассудишь, ты научишь, кто из нас, сидящих, лучше
пишет сказки для детей!»
Тихо и нерадостно
начал сказку Андерсен —
маленький, ледащенький
седой старичок:
«Лежали вместе в ящике
Мяч и Волчок.
– Души я в вас не чаю,
люблю вас горячо…
Давайте повенчаемся…—
Мячу жужжит Волчок.
Но, гордостью наполненный,
Мячик говорит:
– Я с Соловьем помолвлена,
он – мой фаворит.
Ему отдам невинность я! —
Наутро Мяч исчез,
Волчок не в силах вынести…
Прощайте, жизнь и честь!
Прошло немало времени,
но жег любовный яд…
– Наверно, забеременел
Мяч от Соловья.
Я видел на „ex-librise“
Соловья в очках… —
Тут мальчик взял и выбросил
через окно Волчка.
Истерзанный, искусанный,
с обломанным плечом,
Волчок в клоаке мусорной
встретился с Мячом.
– Любимый мой! Согласна я
стать твоей женой!..
(Сама ж ужасно грязная,
с дыркой выжженной.)
Волчок ответил, сплюнувши:
– Я был когда-то юношей,
теперь же поостыл, —
иная ситуация…
К тому ж решил остаться я
навеки холостым!..»
Тих и нерадостен,
кончил сказку Андерсен,
и совсем иначе
Афанасьев начал:
«В дальнем государстве,
в тридесятом царстве,
у того царя Додона,
у Великого Дона,
что и моря синевей,
было трое сыновей.
Вот идет первый сын
мимо черных лесин,
а ему навстречу – ишь как! —
лезет мышка-норышка,
куковушка-кукушка,
и лягушка-квакушка
из озерных глубин:
ква-кум-бинь…
А за ними кыш —
По-Лугу-Поскокиш,
а за ними вишь? —
Я Всех-Вас-Давишь.
Лесиная царевна
Лиса Патрикевна,
из сосновых капищ —
Михаил Потапыч,
и фыркает кофейником
Кот Котофейников».
Тут промолвил Сеня нежно:
«Это ж длится бесконечно,
это старо, длинно, скучно, ну,
а я весьма спешу».
«Погодите! – крикнул Гофман.
– Пусть на миг утихнет гомон,
и прочту, что я пишу:
„В тысяча восемьсот (звездочки) году
в Городке Aachenwinde
жил Советник fon der Kinder,
ростом с Какаду.
Знали Жители давно:
был der Kinder Колдуном.
Ночью Дом стоял вверх Дном,
и стоял у Входа Гном.
И была у Колдуна
дочка малая одна —
Kleine Anchen, kleine Anchen,
kleine Tochter Колдуна.
И скажу я вам – она
в Виртуоза влюблена.
Herr Amandus Zappelbaum,
вами занята она.
Хочет Anchen под венец,
просит Папу наконец:
– Herr Коммерции Советник,
уважаемый Отец,
я люблю Amandus'a Zappalbaum'a.
Если я не выйду замуж, то лишу себя Ума!
Как завоет Fon der Kinder:
– Эти Глупости откинь ты,
Ты уже помолвлена
с грозным Духом молнийным
Choriambofax'oм!
Вытри Слезы, Плакса! —
И себя он хлопнул по Лбу,
взял, открыл большую Колбу,
вынул Пробку Дым пошел,
синий, складчатый, как Шелк“».
– Погоди, товарищ Гофман, не довольно ли стихов нам.
Нет ли здесь у вас «Известий»? Очень хочется прочесть.
Не о том, что вы соврете, а статей и сводок вроде:
«Рабселькор, возврат семссуды, резолюцию, протест…»
Врать постыдно и бестактно. Мы стоим на страже факта,
здесь наш пост и наша вахта (что рабочим до Камен?).
Пыль цветистой лжи рассейте, обоснуйтесь при газете,
где (хотите – поглазейте!) что ни слово – документ.
Лишь раздался звук «газету» – дым пошел по кабинету,
зашептали сказотворцы:
– Брик! Брик!
– Бог избавь! —
И во время речи Сени сквозь трубу исчезли тени,
стало ровным сновиденье и растаяла изба.
6
Глава хроматическая,
посвященная симфоническому воздуху консерватории и радиопередатчикам (-цам).
Зелено, сыро в тихой долине,
долине Лени,
и слабо звенит в голубом отдаленье
звон мандолиний.
В росной траве стоят пианино,
домры и скрипки,
и пролетают мимо и мимо
звоны и скрипы.
Все музыка занозила.
Сеня пьяный.
Заиграло сонатину
фортепиано.
Это ведь сентиментальность,
это ж Диккенс!
Я и слушать не останусь,
это ж дикость!
Ах, кончайся, ах, кончайся,
сонатина,
ты семейной скуки Чарльза
паутина.
Мышь летучая летает
в пелеринке,
где-то мерзнет, холодая,
Пирибингль.
Кринолиновые ангелы
за лампою —
замерзающая Англия
сомнамбула.
Тише, тише, тише, тише, – домовые на педалях, сонатину оборви,
оборви же, расплети же, вот завыли, напевая – Копперфи-и-и
Сон сам сел в сонм сов.
Синь.
До ре ми фа соль ля си.
Кринолиновые ангелы за лампою,
замерзающая Англия сомнамбула…
Ты семейной скуки Чарльза паутина.
Ах, кончайся, ах, кончайся, сонатина…
В этот тихий, в этот зыбкий ход музыки
нежной ленью наплывает утомленье.
Сеня спит, и, словно громы урагана,
набегает грохот пальцев барабана…
Зашумели долы свинцовой вьюгой,
выскользнула флейта тонкой гадюкой.
Пулемет татакает, то здесь, а то там он,
фортепьяно топчется гиппопотамом.
А медные трубы бросили игры —
желтые львы и когтистые тигры.
И снова долина, и Сеня в долине,
бредет по долине по колени в глине.
7
Молодым элегантам со складочкой эту неглаженую главу посвящает автор.
Щиплет, щиплет ноги снег
(башмаков у Сени нет!).
Сене слышен тихий смех.
В снеговой белизне
качаются со смеху
елочки и сосенки,
сдерживают колики:
– Голенький, голенький!
Как тебе не стыдно?
Все у тебя видно! —
Сеня сдерживает прыть
(Хоть листочками прикрыть!),
и мечты башку роят,
мыслями выласканы,
вся Петровка мимо в ряд
пролетает вывесками.
Вот на полках легкий ситец.
Покупайте и носите,
и колосья чесучи
жните, руки засучив.
Смотрит Сеня, рот разинув,
на сатин и парусину.
Издает восторга стон,
поглядевши на бостон.
А хозяин – чародей не чета Мосторгу:
никаких очередей и без торгу!
– Отдаю без интереса,
одевай, галантерейся,
шалью шелковой шаля,
соболь, котик, шиншиля.
Надевай, малыш, корсет,
надевай белье жерсе! —
Тащат ловкие гарсоны
две сорочки и кальсоны.
Неглиже, дезабилье.
Сеня в егерском белье,
на белье – четыре майки,
а на майке – две фуфайки.
– Мы сейчас увяжем вас
в файдешипный самовяз!
Денег нечего жалеть, —
сверху вязаный жилет,
цепь с брелоками на брюхе,
черный фрак, на шлейках брюки,
туфли лак, а сверху боты
изумительной работы. —
Тут хозяин лопнул – пафф!
Сеня стукнулся, упав.
Пуфф!.. – и магазин растаял,
в небесах платочков стая…
Сеня встал, едва дыша:
невозможно сделать шаг,
к тесноте суконных пут
несомненно десять пуд.
И рукав нельзя поднять…
– Западня! —
Хлоп! И стукнулся об камень…
– Я в капкане! —
Сеня в плач (хгы-хгы). Сеня в рёв:
– С горя лягу я в темный ров.
И во рву, и во рву
волосы изорву.
По каменьям кап-кап,
легонький и тощий,
на цыплячьих лапках
загулял дождик.
Расцепил кнопки
Сениной обновки,
тихо и без шуму
распустил шубу.
– Сеня, не пугайся:
пусть цилиндр взмокнет,
развяжу галстук,
отнесу смокинг. —
Стало легче Сене
бежать по шоссейной.
Сене сны стали
сниться яснее…
Голубы дали,
широки снеги.
8
Глава игральная,
доказывающая преимущества полезных и разумных развлечений.
«КТО НЕ РАБОТАЕТ
ТОТ НЕ ЕСТ!» —
Однако
встал швейцар, освещен подъезд
казино «Монако».
Сияющий зал. От ламп круги.
Шарик летит… Замирай…
Всю жизнь сумасшедшие игроки
записывают номера.
Ползут морщины по бледным лбам,
сидят, толстовки горбя…
«N'est pas la comme ça
a dout la va banque,
chemin de fer, ecarte, пур-буар».
Лицом на граненой люстры зенит
перевертывается взлет,
и секунду лежит и секунду звенит
баллада валетовых лет:
«Я должен видеть даму пик
в атласе и плюще,
которой знак сидеть привык
вороной на плече.
Вниз головой, вверх головой
в колоде голубой,
минувших лет эквивалент,
– Monsieur, так вы – валет?!
В цепи нагрудной блеск камней,
берет студента – синь.
О дама пик, приди ко мне
и сердце принеси.
Но в дом развееренных карт
идет, идет король
и на десяток черных карк
с плеча глядит орел.
В кустах пиковых путь тернист.
Сердца горят в лесу.
Удар – бубновой пятерни
бумажному лицу».
Посылка
– Спасенья… Дама!.. А!.. – И вот
игрок, входя в азарт,
меня в клочки с досадой рвет…
Прощай, Колода Карт!
Сеню обступили: – Сыграйте! Сыграйте! —
Мечется Семен в человечьей ограде.
В углу китаянки и англичанки
руки вымывают в звенящем ма-жанге:
никакой пользы от камня чужого —
выкинут бамбук, объявлено чжоу.
Китаец быстр, строит систр.
Янки – по-другому: льнет к дракону,
ветер забракован, поставит он к
дракону дракона, объявит конг.
Думает Сеня: вернуться назад?
Или окунуться в игру, в азарт?
Сам крупье по ковровой тропе
идет, предлагает место крупье.
– Не сметь уходить! Уходить не сметь!
Или играть, или смерть! —
Широк на крупье костюм леопардий,
лица звериные вокруг. (Убьют!)
Сеня предлагает шахматную партию.
– Можно шахматную. Ваш дебют! —
Черный крупье глаз отверз,
восьми пехотинцев желты контура:
Тура. Конь. Слон. Ферзь.
Король. Слон. Конь. Тура.
Друг на друга смотрят четы их:
Е2 – Е4.
Крупье дорога каждая пядь:
Е7 – Е5.
Сеня слоном. Двинул его
на С4 с F-одного.
Крупье – конем. Ход есть:
В8 – С6.
Сеня – ферзем. Крупье, смотри:
D1 —F3.
Крупье – слоном идет, озверев,
на С5 с 8F.

За шапку Семен взял ферзя,
с F-трех идет, форся.
Смотрят все, окурки дымят:
F7
+ и X [2]2
В шахматах – мат
[Закрыть]!
Побледнел крупье обличьем,
с языка течет слюна.
Слон в размере увеличен,
Сеня вполз на слона.
Игроки теснятся. – Боже!
слон все больше, больше, больше,
ширится, резиновый,
дым идет бензиновый…
Распирает стены слон,
стены рухнули – на слом.
И Семен, башкой к луне,
уезжает на слоне.
9
Глава, доказывающая пылкую любовь автора и вдохновенным и отечественным лирикам.
Семен себя торопит,
но вдруг – сверкнувший луч,
и поперек дороги
журчит Кастальский ключ.
Воды все больше прибыль,
волны – костяки,
плывут, плывут – не рыбы,
плывут, плывут стихи:
«Постой, останься, Сеня,
будет злой конец.
Проглотишь, без сомненья,
трагический свинец.
Отец твой кровью брызнет,
и должен он сгореть.
А, кроме права жизни,
есть право умереть.
Он не придет к низине,
поверь мне, так же вот,
как летний лебедь к зимним
озерам не придет».
– Никогда, никогда
я не думал, не гадал,
чтоб могла, как В. Качалов,
декламировать вода! —
А вода как закачала,
как пошла певать с начала:
«Эх, калина, эх, рябина,
комсомольская судьбина.
Комсомольцы на лугу,
я Марусеньку люблю.
Дай, любимая, мне губки,
поцелую заново,
у тебя ведь вместо юбки
пятый том Плеханова».
Ах, восторг, ах, восторг!
(Пролетела тыща строк.)
Ну, а Сеня не к потехе,
надо ж быть ему в аптеке.
Город блещет впереди,
надо ж речку перейти.
Но мертвых стихов плывут костяки,
плывут, проплывают трупы-стихи.
«Отлетай, пропащее детство,
Алкоголь осыпает года,
Пусть умрет, как собака, отец твой,
Не умру я, мой друг, никогда!»
Стихи не стихают… – Тут мне погибель,
Как мне пройти сквозь стиховную кипень?
Аптека вблизи и город вблизи,
а мне помереть в стихотворной грязи!
В то время я жил на Рождественке, 2.
И слабо услышал, как плачется Сеня,
вскочил на трамвай, не свалился едва,
под грохот колес, на булыжник весенний.
И где ужас Семена в оковы сковал,
через черные, мертвые водоросли
перекинул строку Маяковского:
«год от года расти нашей бодрости».
И канатным плясуном
по строке прошел Семен.
10
Глава эта посвящается ядам и людям, ядами управляющим.
В золотой блистают неге
над людскою массою —
буквы АРОТНЕКЕ,
буквы РНАЯМАСIЕ.
Тихий воздух – валерьянка,
Аптечное царство,
где живут, стоят по рангам разные лекарства,
Ни фокстрота, ни джаз-банда,
все живут в стеклянных банках,
белых, как перлы.
И страною правит царь, Государь Скипидар,
Скипидар Первый.
А премьер – царевый брат
граф Бутилхлоралгидрат, старый, слабый…
И глядят на них с боков
бюсты гипсовых богов, старых эскулапов.
Вечера – в старинных танцах
с фрейлинами-дурами,
шлейфы старых фрейлин тянутся сигнатурами.
Был у них домашний скот,
но и он не делал шкод,
на свободу плюнули
капсули с пилюлями.
– Кто идет? Кто идет? —
грозно спрашивает йод.
Разевая пробку-рот,
зашипел Нарзан-герольд.
– Царь! – орет нарзанный рот. —
Мальчик Сеня у ворот!
Рассердился Скипидар:
– Собирайтесь, господа!
Собирайтесь, антисепты!
Перепутайте рецепты!
Не госсиниум фератум —
вазогеиум йодатум,
вместо йоди и рицини —
лейте тинкти никотини!
Ого-го, ого-го,
будет страшная месть:
лейте вместо Н 2О
H 2S!
Тут выходит фармацевт:
– Покажи-ка мне рецепт!..
Не волнуйся, мальчик, даром —
тут проделки Скипидара!
Я ему сейчас воздам.
Марш по местам!
Банки стали тихими,
скрежеща от муки,
тут часы затикали,
зажужжали мухи.
Добрый дядя фармацевт
проверяет рецепт,
ходит, ищет, спину горбит,
там возьмет он снежный корпий,
там по баночке колотит,
выбирает йод, коллодий,
завернул в бумагу бинт,
ни упреков, ни обид,
и на дядю Сеня, глядя,
думал: «Настоящий дядя!
Старый, а не робкий…»
Вот так счастье! Вот веселье!
Фармацевт подносит Сене
две больших коробки…
11
Глава главная.
Может, утро проворонишь,
минет час восьмой,
и на лапки, как звереныш,
стал будильник мой.
Грудь часов пружинка давит,
ход колесный тих.
Сердце Рики-Тики-Тави
у часов моих.
На исходе сна и ночи
к утру и концу
с дорогой, пахучей ношей
Сеня мчит к отцу.
С синим звоном склянок дивных,
обгоняя тень,
но уже поет будильник,
бьет будильник день.
Но сквозь пальцы льется кальций,
льется, льется йод,
а будильник: – Просыпайся!
Сеня! День! – поет.
Пронести б коробки к дому!
(Льется йод из дыр.)
А будильник бьется громом,
дробью, дрожью – ддрррр!
Вот и завтра, вот и завтра,
Сеня, вот и явь!
Вот и чайник паром задран,
медью засияв.
Вот у примуса мамаша,
снегом двор одет,
и яичницы ромашка
на сковороде.
И звенит, звенит будильник,
и мяучит кот:
– Ты сегодня именинник,
Двадцать Первый Год! —
Видит Сеня – та же сырость
в комнатной тиши,
видит Сеня: – Я же вырос,
я же стал большим.
Все на том же, том же месте,
только я не тот,
стукнул мой красноармейский
Двадцать Первый Год. —
Сказка ложь, и ночь туманна,
ясен ствол ружья…
– Ну, пора! В дорогу, мама,
сына снаряжай!
Поцелуй бойца Семена
в моложавый ус,
положи в кошель ременный
хлеба теплый кус.
В хлопьях, в светлом снежном блеске —
ухожу в поход,
в молодой, красноармейский
Двадцать Первый Год!
ЗОЛУШКА (1984)
Глава первая
Золушка была бедна,
Золушка жила одна,
корка на воде горька…
Мачеха была карга,
отчим – скупой и злой.
Золушка была бледна,
платьице из рядна,
выпачканное золой.
Золушкины сестры сводные
жили веселые, жили свободные.
Вороными качали челками,
шили платья – пчелиный пух,
и на плечиках плюшем шелковым
лопухом раздувался пуф.
А у Золушки
ни ниточки,
ни кутка, ни лоскутка,
из протертого в сито ситчика
светит яблоко локотка.
Ничего,
кроме глаз тепло-карих да рук,
ни кольца, ни серьги даровой,
ни иголки заштопать дыру,
ни чулка, хотя бы с дырой!
Ничего у нее:
ни червонца в платке,
ничегосподи нет в ларце,
ничевоблы у ней в лотке,
ничевоспинки на лице…
Только золото тянется вдоль ушка,
из сиянья плетеное кружевце…
На дорогу выходит Золушка,
кличет уток – и утки слушаются.
Воробьи по-немецки кричат: «Цурюк!» —
и находками мелкими делятся,
черный уголь от ласк Замарашкиных рук
самородком горящим делается.
И в саду на шесте
деревянный ларец,
и в ларце
чистит клюв
оловянный скворец.
Он личинок ловец, говорун и певец
и недолго живет на шесте, на гвозде;
как махнет за моря Замарашкин скворец,
навезет новостей, новостей, новостей!
Нарасскажет того, чего глаз не видал:
где какая земля, где какая вода…
Размечтается Зойка над жестью ведра,
и слезинка у карего глаза видна.
А из комнат высоких доносится зов,
будто грохнулась об пол вьюшка:
– Да огло… да оглохла ты, что ли, Зо-о…
запропастилась, дрянь… лу-ушка!
У шкафа дубовосводчатого,
у зеркала семистворчатого
примеряют сестры лифчики,
мажут кремами свои личики.
И, как шуба, распахнут тяжелый шкаф,
где качаются платья-весы,
сестры злятся и топают:
– Золушка!
Шпильку дай, булавку неси!
Положи на личико
ланолинчика!
Входит отчим,
осанистый очень,
в сюртуке – английский товар,
он усами усат,
любит волос кусать —
черновязкий фиксатуар.
Отчим шубу берет из дубовых берлог,
и перчатками лапищи сужены,
раззвенелся на белом жилете брелок,
на жене – разблестелись жемчужины.
А у Золушки
ни корсажа,
ни цветка в волосах,
только траурным крепом сажа
по лицу – к полосе полоса.
Глянет мачеха – сразу в пятки душа
(провинилась, ну что ж, прибей-ка!).
Ущипнула за щеку подкидыша:
– Тоже хочешь на бал,
плебейка!
Ну, чего засмотрелась? —
Зубов перебор
клавиатурой на падчерицу:
– Марш на сундук, пшла в коридор.
Осторожно,
можно запачкаться…
Разбери, говорит, чечевицы мешок!
И пошла, волоча оплывающий шелк,
сестры, плюшем шурша, отчим, палкой стуча…
Стеариновым шлейфом оплывает свеча.
Глава вторая
Налетела копоть на волос,
тень
у щек,
а зерна и не убавилось —
туг
мешок.
Чечевицы – небо звездное,
в миске —
горсть,
прилетает ночью позднею
птица —
гость.
Тонкой струйкою крутится копоть свечи,
Замарашка устала – на корточках…
А скворец со двора осторожно стучит
коготком в кухонную форточку.
Он летал высоко в облаках дождевых
и обратно – дорогой привычной…
– Что за новости, скворка? – А он:
– Чив-чивик! —
Голосок у него чечевичный.
Не видала Золушка ничего:
ни сияющих гор, ни воды ключевой —
ничего! —
ничевод ключевых, ничеволков лесных,
ничевоздуха дальних морей,
ничевольности,
ничеВолхова,
ничевольтовых дуг фонарей!
Он к Золушке никнет,
садится на руку,
крылами повиснув,
головой ведет,
то флюгером скрипнет,
то мельницей стукнет,
то иволгой свистнет,
то речь заведет.
Картавит ласково
гортань скворца:
– Я летал до царского
дворца,
да не встретил царь
скворца.
Кипарис густой
в синь воздуха —
это будет твой
дом отдыха!
– Ты придумаешь, скворец,
сказки-странности,
от рассказа в горле резь,
сердце ранится…
– Я крылом лавировал,
видел
над страной
твоего
милого
на птице стальной.
– Эта выдумка, скворец,
в сказке скажется.
Если что со мною свяжется —
грязь да сажица…
А скворец в высоту
вновь торопится:
– Мне лететь на свету
по-над пропастью!
Коготком по плечу:
– Не забудь повести.
Ну, пора – лечу!
Привезу новости!
Через фортку прыгнул скворка
с песней-вымыслом…
Утомилась, – нету мыла
даже вымыться.
Два лица из рам недобрые —
это отчим и жена.
Сидит Золушка над ведрами,
чечевица вся разобрана
до последнего зерна.
Месяц выкатился мискою.
Ночь.
Черно.
Не разобрано бурмитское
звезд
зерно…
Глава третья
Чечевица скатилась – зернышко,
капля с крана упала в сон.
Ничего не видала Золушка,
а заснет и увидит все!
Вся забава у ней – руки в сон потянуть,
утомиться, уснуть и во сне утонуть.
Ноги сонные вытянуть
на простынке из ситца…
Что вчера не довидено —
то сегодня приснится.
Смотрят синие ведра,
веник с вьюшкой беседует.
Сны у Зойки с досмотром,
с «продолжением следует».
Кружка шепчется с хлебного коркой,
печь заглядывает под ресницы.
Все, что Зойке рассказано скворкой,
то и снится,
то и чудится,
то и кажется:
То Жар-птица, то карлик в дремлющей сказке,
то махнет самобранкой Шахразада-рассказчица.
Сны туманные, сны разноцветной раскраски!
Чудится Золушке: в красном камзолишке
принц! Шелестит шлейф, газ!
Лайковой лапою, перистой шляпою —
пусть закружит вальс вас!
Перьями павами, первыми парами…
Из-под бровей жар глаз!
Зала-то! Зала-то! Золотом залита.
Только с тобой весь вальс!
Кажется, светится, снится, мерещится…
В снег серпантином занесена
не просыпается;
и осыпаются,
сыплются,
сыплются,
блестки сна.
Возвращается с бала мачеха,
шубу меха морского сбрасывает,
лесным запахом руку смачивая.
– Кто понравился? – дочек спрашивает. —
Кто гляделся на вас?
Кто просился на вальс?
Как волны, взбегают по дочкам воланы.
– Нам нравится принц, загадали мечту.
– Ой, в ухе звенит! Исполненье желаний —
у принца мильон на текущем счету!
Сестры кружатся, а у отчима
вся манишка вином подмочена.
Много съедено ед,
расстегнулся жилет:
– Мне икается! – засутулился. —
Поскорее, жена,
мне пилюля нужна —
золочёная – доктора Юлиуса!
Пообвисли усы:
– Поскорее неси!
(Подбегает к аптечному улею.)
Нездоровится мне,
а пилюли-то нет!
Замарашку пошли за пилюлею!
Спится Золушке крепко
(а принц на пути
держит туфлю железными пальцами),
видит сон и боится, что будут будить,
так боится – не просыпается.
Спит,
упали на лоб золотинки,
улеглись ресницы в ряд,
прикорнули волосик к волосику,
на затылке спят.
Капля стукнуть боится,
а около мусора
сон тараканы обходят, ползя.
Струйка песчаная волоса русого
тихо,
часами течет на глаза.
Дверь гремит на петле,
половица скрипит,
злая мачеха туфлею хлопнула:
– Зойка, в город беги
да пилюлю купи! —
Ткнула грошик в ладошку теплую.
Поднялась, не поймет,
на щеке сонный шрам,
сном ресницы в наметку зашиты,
и в мурашках рука – не удержит гроша.
Смотрит, ищет у ведер защиты:
– Я не знаю, куда…
Не была никогда…
– Ну, иди!
(Подтолкнула и вытолкала.)
Опустилась и щелкнула щеколда,
синим снегом осыпалась притолока.
Стало щеки снежинками щекотать,
бить в ресницы осколочками стекла.
Стала вьюга над Золушкой хохотать.
Ледяным стеарином стена затекла.
Глава четвертая
Холодно. Холодно!
В небе – дыра!
Сахаром колотым
хлещет буран.
В уханье, в хохоте
кружится кольцами,
сахаром с копотью,
звездами колется.
Что это?
Чудится?
Страшное!
Снится?
Больно
на стужище
в легоньком ситце!
Снегу-то! Снегу-то!
Валится, стынется…
Некуда, некуда
броситься, кинуться.
В Золушку дышучи
тучами ужаса,
кружится, кружится
мачеха-стужища!
Почему коленка стала
медленно белеть?
И мизинец, весь в кристаллах,
перестал болеть!
В хохоте холода
волчье ауканье:
– Голодно! Голодно!
Ногу мне! Руку мне!
Блеском зубищей
скрипнет и лязгнет:
– Запахом пищи
кто меня дразнит?
Серый волчище, бедный волчище,
в шкуре-дерюге старый волчище
по снегу ходит, по лесу рыщет,
вкусного, теплого, свежего ищет.
Золушка к волку,
у ельника он.
Видно, что долго
не ел никого.
Просит у зверя
поласковей:
– Замер-мер-заю,
глотай скорей!
Зубом залязгав,
на цветики ситца
каторжным глазом
волчище косится.
Чем себя мучить
с мачехой злючей —
броситься лучше
в зубы колючие!
– Съешь меня, серенький! – волка зовет.
Как втянет волчище голодный живот:
– Какой с тебя толк?
Не такой уж я волк!
Сама ж голодна —
пушинка одна.
Что тебя есть?
Что в тебе есть?
Топнула тапочкой:
– Хуже тебе ж!
Красную Шапочку
съел же – ну, ешь!..
Скрипнул волчище,
зубы сцепя: —
Поищем почище,
не хочу тебя!
Жалостно что-то,
грызть неохота!
Иди подобру-поздорову
лесом, через дорогу!..
Хлопнул хвостищем да прыг через пень, —
самая синяя, сонная, санная
за полночь звездами тянется тень.
Увальнем в валенках, снег набекрень,
хлопьями, глыбами, пухлыми лапами
ночь обнимает края деревень.
Золотом брызнуло – луч на стекле!
Стало светлей, стало теплей.
Ветер махнул —
город пахнул,
в ворот жара —
город – гора!..
Уплыли верстовые колышки,
приплыли мостовые к Золушке.
Глава пятая
Заблудилась Замарашка в городе.
Горит золото на бычьей морде,
то часы сияют шире месяца,
то очки, стеклом синея, светятся,
то, прическами в окне увенчаны,
восковые парикмахерские женщины.
К окнам золото ползет сусальное,
завитые булки лезут на стены,
мостовые, как рукав, засаленные,
так колесами они заластены.
Башни к башням, стрелки циферблатятся.
Оборвали ей единственное платьице,
затолкали ее локти драповые,
автобусы напугали, всхрапывая!
К старичку бежит она, к прохожему:
на хорошего, на доброго похожему:
– Где тут, дяденька, такая улица,
где пилюля продается – Юлиуса?
Шляпу дяденька снимает с проседи
и на улицу показывает тростью:
– Проходите по прямой,
вправо улицей Хромой,
влево площадью Победой,
параллельно этой,
перпендикулярной той,
а там спросите…
Затолкала Золушку
улица,
наступила на пальцы сотней подошв —
не нырнешь, не пройдешь!
Шины вздула, гудя и освистывая,
табачищем дунула,
обернулась – плюнула
на плечо Замарашкино ситцевое.
А за шумным углом —
удивительный дом,
и, грозу водопадную ринув,
проливным, водяным
засияла стеклом,
как тропический ливень, – витрина!
Потонула в окне
Замарашка.
Стекло донебесной длины
волнуется, мир омывая,
а вещи плывут под стеклом проливным
в шатры габардина и фая.
Перед блеском год —
можно выстоять!
Книгой Сказок вход
перелистывается.
И с прозрачных дверных страниц
сходят дамы, как чудеса,
черный грум кричит: – Сторонись! —
их покупки горой неся.
В мех серебряный вкутан смех,
туфли ящерицами скользят,
Губы мачехины у всех,
злые мачехины глаза…
Носят чуда кружев и прошв,
а у Золушки – только грош,
только грошик, и то не свой,
хоть платочек бы носовой!
Духов дыханье близкое,
ангорский белый пух.
Стеклярусом обрызгивая,
бегут, спешат в толпу
брезгливо мимо Золушки
полою расшитой,
мимо намозолившей
глаза им нищетой.
«Фи! какая бедная,
Пфуй! какая бледная,
Тьфу! какая нищая.
Конечно, раса низшая.
Тоже ходят, разные,
в оспе, в тифу…
Наверное, заразная!
Фи! Пфуй! Тьфу!!»
Мордой соболя злится мех,
туфли ящерицами скользят…
Губы мачехины у всех,
злые мачехины глаза.
Глава шестая
А в витрине проливной, где батистом плещет,
зашуршали, замечтали, зашептались вещи.
Молоточком динькая, анкером затикав,
часики с будильником секретничают тихо.
Будто в детском чтении, перед пудрой робкой
снял флакон с почтением радужную пробку.
Вещи стали множиться, побежали ножницы,
лента шелка выползла и свилась в венок.
Стали реять запахи, стали прыгать запонки,
сросшеюся двойней подковылял бинокль.
Первым в этой публике было слово: туфельки.
– Видите ли Золушку там, у окна?
Пусть она без устали и возится с помоями —
красивая, по-моему, и славная она!..
– Да, да,
я это заметила! —
туфельке ответила
пахучая вода.
– Вы подумайте, сестры, —
сказал туалет, —
ведь на Золушке просто
ничего из нас нет!
– Это ясно, дорогие,
мы ж такие дорогие!
Как за нас платят? —
удивилось платье.
– Я вот стою, например,
двести сорок долларов!
– Да, – сказала парфюмерия, —
это очень дорого.
Туфля охнула всей грудью:
– Ох, быть может,
никогда у нас не будет
Золушкиных ножек…
Стеклянное озеро —
циферблат, —
часики Мозера
затикали в лад:
– Хорошо бы так это
часовой пружинкой
перетики-такиваться
с Золушкиной жилкой!
По корсет, шнуровку скривив,
заявил: – Я к худым не привык;
мне нужна пошире,
а эта – худа,
не в теле и не в жире,
куда, куда!
Вещи все, услышав это,
отвернулись от корсета.
Мы еще докажем, —
зашуршала шаль, —
не видать под сажей,
как она хороша!
И самое лучшее
банное мыло
обложку раскрыло
и заявило:
– А если я еще
смою сажицу, —
самой сияющей
она вам покажется.
Рисунок суживая,
заговорило кружево.
Стали в круг юнцы-флаконы
и меха поседелые
из почтенья к такому
тонкому изделию:
– Еще ниткой я была, помню – спицами звеня,
кружевница Сандрильона выплетала меня.
В избах Чехии зимой, за труды полушка,
вам узоры вышивала девка Попелюшка.
Мелкий бисер-чернозвёзд, чтобы шею обвить,
Чинерентола в углу нанизала на нить.
Ашенбредель лен ткала, вышила рубашку,
кожу туфелькам дубила Чиндрелл-Замарашка.
Все забеспокоилось,
все заволновалось,
туфелька расстроилась,
с чулком расцеловалась,
перчатки из замши,
ботик на резине:
– Как мы это раньше
не сообразили?!
Шелковое платье
шепнуло кольцу:
– Кольцо, как вы считаете,
я Золушке к лицу?
Сползают вещи с полочки
с шелестом, с гуденьем:
– Скорей бежимте к Золушке,
умоем и оденем!
И по витринной комнате пошло гудеть:
– Идемте! Идемте
ее приодеть!
Кружево – часы за ремешок берет:
– Товарищи! К Золушке!
В стекло! Вперед!
Но только тронулись – уже наготове
задвижки, замки, засов на засове,
крючками сцепились: – А ну, товар!
(Лязг зловещий.)
– Осади на тротуар!
В витрину, вещи!
Ключей американских лязг и визг:
– Назад, пальто! —
Волнистое железо упало вниз.
– Заперто!
На двери и вещи решетка налезла,
оттиснули туфельку – не стало стекла,
конец водопаду – висит из железа
гофрированная скала!
А улица туманом сглажена,
и небо все в замочных скважинах.
Все заперто ключами-звездами.
– Забыла, загляделась, поздно мне!
Полоска кровяная с запада.
– Что будет, если лавка заперта?
Глава седьмая
Микстурой синею шары наполнивши,
аптека, в инее, светла до полночи.
В облатке золота, на ватке – вот она! —
пилюля желтая, пилюля йодная.
Змея рисуется над чашей площади,
лежит Пилюлиуса ценою в грош один.
А у Золушки в ладошке
только дрожь…
Вспомнила о грошике.
Где же грош?
Стынет синим светом
стеклянный шар,
грошика-то… нету!
Нет гроша.
Где ты? грошик? грошик-хорошик! —
ищет грошик в снежной пороше,
Обтрогала платье,
за шагом шаг
шарит по асфальту —
нет гроша!
Был орел на гроше – гербовые крыла,
две змеиных главы, держит землю рука,
на ладошке оттиснулся след от орла,
побежала к реке, потемнела река.
Смахнула с ресницы соленую блестку.
Мост. А внизу
уносит река Замарашкину слезку
в море, в большую слезу.
Прибьют за грош, замучают,
вот так, ни за что…
– Домой ни в коем случае,
ни за что!
Как тилиснет плетки замах —
с глаз искра:
– Где пилюля? Сама
всю сгрызла?
– Я… шла… несла… вот… тут… в руках,
и вдруг… не зна… не знаю… как…
Вы не бейте меня,
не ругайте меня,
если я вам надоела,
так отдайте меня!
– Молчать, побирушка, глаз не мозоль,
в угол пошла! Становись на соль!
(Промерзлой коленкой на острую соль,
крупная соль —
соленая боль.)
– Читай «Отче наш»! – Солона слеза.
Кристаллы колючки подкладывают.
В колено вгрызается злая сольца,
вприкуску коленку обгладывает.
– За медную мелочь,
за крошечный грош…
Ой, что же мне делать? —
А мачеха: – Врешь!..
– Домой не годится,
нет, не домой!
Речная водица,
боль мою смой!
Не быть мне невестой,
не быть мне женой,
прощай ты, железный
мост кружевной!
Услышав, раскрылся
мост разводной
и в ситец вцепился
рукою одной.
Рукою вразмашку
раскрывшийся мост
поднял Замарашку,
на снег перенес.
– Я жить не хочу,
я жить не могу!
Разрежь меня сталью,
трамвай, на бегу.
Начнут из меня
веревки вить,
нет мочи на свете
у мачехи жить.
Рельсы гудят,
стонет земля,
под фонарями
четыре нуля.
Вздрогнули рельсы,
крикнула сталь,
трамвай раззвенелся:
– Встань, встань, встань!
Ручку на «стоп»!
Тормоз вбивай!
Задохся и как вкопанный
встал трамвай.
– Не хочется жить,
не можется жить,
за ядом в аптеку —
схватить, проглотить!
Аптечная улица,
шары стоят…
– Доктор!.. Юлиус!
Дайте… яд…
Сейчас глотну
щепотку одну…
(Глотнет, и конец!
Упадет, и конец!..)
Но с крыши, картавя, слетел скворец,
слетел и щепотку смахнул скворец:
– Чур, чуррр…
я тебя научу
заговору железному
против оборотней.
Скажешь —
кожу лягушка сбросит,
молодцем обернется.
Скажешь —
камни по-птичьему запоют.
Скажешь —
хлебами румяными спустятся тучи.
Скажешь —
порохом брызнешь,
мачеха склизкой гадюкой забьется,
сестры выскользнут змеями,
орлом-коршуном отчим взлетит.
Слово-заговор скажешь —
пули обратно уйдут
в руду.
Медные грошики
в грязь,
в янтари отольются
отравы…
Высыхают у Зойки слезинки у глаз,
трется об щеку скворка, картавит.
И у Зойки на сердце спокойно:
отошло, отлегло.
Небо месяцем светит, большое такое,
черным-светло.
Так спокойно
Снегуркой пошла не спеша,
ни зверюга, ни вьюга не встретятся,
а где заговор вышептал скворка с плеча —
светом месяца
плечико светится.
Все гуще светляки хрусталевые,
снежинки на плече оттаивают.
Выходит Замарашка за город,
и в памяти не тает заговор.
Глава восьмая
– Доведу ее до плача я! —
говорит сестрица младшая.
– Плеткой спину пощекочем! —
шевелит усами отчим.
– Уж замучаю, расспрашивая! —
говорит сестрица старшая.
– Я линейкой по рукам! —
шевелит губой карга.
– Без пилюли придет, уж мы-то ее – так и сяк!.. —
Неодеваные, немытые, ждут, глядят на дверной косяк.
Все нечесаные, ходят с оглядкою.
Утро в полный свет. —
Что-то долго нет…
А дорога хорошая, гладкая —
вьюги нет,
волка нет…
Как завидел Золушку
с крыши дым,
замахал платком дымовым.
Соскользнул в дымоход
до горящего дна,
сообщил огоньку:
– Замарашка видна!
Дым, как лифт, поднялся в дымовом ходу,
а зола сквозь решетку мигнула коту.
Страдиварием-скрипкою выгнулся кот,
вымыл личико кот для приличия
и, подсев у окошка на черный ход,
заиграл большое мурлыччио.
Воробьи построились в ряд,
утки вышли, как для парада,
флюгер вертится – страшно рад,
ходит форточка – просто рада!
Под босыми шагами расквасился лед,
ходит рядом весна с Замарашкой.
Замарашка пройдет – и ромашка цветет,
василек спешит за ромашкой.
Лишь в окне у карги два чертячьих рожка —
не цветы, а раки и крабы.
Кактус тянется к Золушке из горшка
бородавчатой лапою жабы.
Распахнулись настежь двери,
кошка выгнулась дугой,
зарычали, заревели
отчим с мачехой-каргой:
– Где лекарство?
Будешь бита, —
ждет посуда,
ждет корыто.
Стол не убран,
хлеб не спечен,
холст не соткан,
дочь не сыта,
пол не чищен,
грязь не смыта, —
бита будешь,
будешь бита!..
Лают болонки,
крысы теснятся…
Золушка стала
шагов за семнадцать,
взглядом окинула,
прядку откинула,
слово сказала,
как порохом кинула:
«Мачехи,
мучихи,
падайте
в муть!
Жилушки
Золушки
будя
тянуть!
Чур меня
чур —
оборочу
пулю в пыль,
муку в муху,
деньги в льдинки,
жадность в жабу.
Ягу в уголь,
зло в золу,
сестер…»
Глянула Золушка на сестер:
скулят жалостно, по-сиротски,
кулачок слезу по щеке растер,
обернулись платочками розги: —
А нас-то зачем?
За дело за чье? —
Укрылись одним полушалком,
дрожат, растрепались, и слезы ручьем —
и Золушке сестер жалко.
– Ты же добренькая, разве тронешь кого,
наша Золушка, наша сестреночка…
Жалко… Чего поминать, что было?
– Кто зло помянет… (Зола… зло…
дай памяти… щель… Кощей… позабыла!)
Тут руку арапником как обожгло,
как свистнет над Золушкой розга карги,
как ухнет обухом отчимов окрик,
и сестры как… хвать! за обе руки,
скрутили и Золушку – в погреб.
Втолкнули и замкнули в погребе,
веревки впились в руки до крови.
А скворка все услышал издали,
помчался – Замарашку вызволить.
Сзывает он, теряя перышки,
товарищей на помощь к Золушке.
Глава девятая
Темен погреб – ни окна,
плачет Золушка одна…
В сале вымазав усы,
засновали ноты «си»,
ноты «си» – рота крыс,
не свечное сало грызть —
шевелятся усики,
лапками сучат,
мачеха науськала
Золушку помучить.
Тяжело железо входа,
цокнул в стену клювом кто-то:
– Это я, скворец, тут, тут!
А со мною мой приятель,
золотой зеленый дятел,
долбит щелочку: тук-тук.
Вышла рота пауков,
лапа длинная – укол,
к Золушке идут они
стрелками минутными.
В полосатом кителе
поручик паучий.
Головогруди вытянули
Золушку помучить.
– Потерпи еще немного, —
летит дятлу на подмогу
с длинным клювом журавель…
Дятел щелку пробуравил,
а товарищ мой журавль
слово всовывает в щель.
Ногу вытянул паук.
Зажужжала стая мух.
Летят они, ползут они,
цеце и злыдни-зудни,
рыжие пуза, —
вылетели тучи,
завели игру —
Замарашку мучить.
Сыплют глиной кирпича на
клюв журавки перочинный,
слово лезет в щель стены.
– Ухвати за запятую,
тяни букву завитую,
слово-заговор тяни!
Ухватилась крепко
за слово ногтями,
буковку, как репку,
тянет-потянет.
Вспомнила, глаза горят:
– Чур меня, чур… —
Чудесный голос заговора:
– Оборочу!
Раскрылись двери погреба,
и только слово молвила —
прошла сквозь тело оборотней
судорога-молния.
Кощей орлом-стервятником
по окнам захлопал,
гадюкой скользкой мачеха
ударилась об пол,
выскользнули змеи, орел в окно,
лежит одна чешуйка, перо одно.
Глава десятая
Надо бросить пригоршню пороха.
Дверь открыта. Вокруг пи шороха,
Белой лестницей входит в комнаты.
Степы в сумраке, будто омуты.
Заклубился резьбою мачехин шкаф,
дунул снег нафталинного запашка,
крышка клепаная откидывается,
нараспашку душой прикидывается.
И из шкафа, бока покачивая,
как танцуя, походкой шуточною
вышло медленно платье мачехино,
золотистое, чешуйчатое!
То у ног зашумит, то подымется к лицу,
то на Золушку ложится, ластится,
звенит блестками зелеными, что дерево в лесу,
то русалкой изгибается платьице.
Расшуршалась чешуя,
старым золотом шумя:
– Будешь блестками сиять,
станешь мачехой сама,
будешь в злате-серебре
жить-поживать,
будут Золушки тебе
шить-нашивать!
Будут Золушки тебе
косы плести, будут Золушки тебе
подносы нести!..
Рожками залиловев,
к Золушке лепится
красный с дыркой в голове
Мефистофель-пепельница:
– Мы устроим шумный бал,
шумный бал!
Будут вина и металл,
и металл…
Шкаф понатужился, ящики выдвинул,
стал Замарашку вещами оплескивать:
брошками, иглами, блеском невиданным,
бусами, брызгами, лентами, блестками.
– Будь у нас мачехой! – Золушку просят,
шелк навалили, лентой обвили.
Зойка запуталась – порохом бросить?
Или?
Или ветер по окнам ударил, крутя,
или фортка в петлях заходила —
отчим мучает скворку в орлиных когтях,
клювом бьет в серебристый затылок.
Тяжесть сонных ресниц подняла Замара —
шкаф закрыл ей дорогу зеркалом,
слышит скворушкин хрип – поняла, замерла,
порох бросила – спальня померкла, —
в пух и в грохот подушки разрыв,
перемешал и подбросил взрыв!..
Дом упал. Сровнялся с землею.
Дымок от пороха.
Поводит крылами над серой золою
раненый скворка.
– Не умре… не умрешь!
– Не надеяться мне,
умирается мне…
– Милый Скворушка, не…
– Кровь на сером крыле…
– Я согрею в золе!..
– Холодеется мне,
леденеется, ле…
де-не…
На Оке… на Океане
на горе… горе Хрустальной,
на горю… горючем камне
золотой ларец поставлен.
Где мос… где мостов не ставили,
смерть Кощея в ларчик схована,
ты иди к горе Хрусталевой,
отомкни ларец окованный!
– Не умрешь, нет, нет… —
Но в глазах смерк свет,
он раскрыл клюв, клюв,
а во рту ключ, ключ…
Покатился ключик к рученькам:
– Отомкни железным ключиком!
Отомсти железным ключиком!
Грудка скворки холодна.
В мире Золушка одна.
Загадка одна
Ряску скользкую болота слоят,
перед Золушкой ворота стоят.
– Распахнуться мы хотим, да замки!
Не откроешь нас ключом никаким.
Не поверим ни глазам, ни слезам,
ни приказу, ни «откройся, Сезам!».
Как цепями и ключом ни греми,
заперты загадкою мы.
Если сможешь отгадать, не солгав, —
нас отгадкой отомкнешь по слогам.
Первый слог —
если ходишь по ломкому хворосту,
если пальцы ломаешь от хворости.
Слог второй
в землянике лесной затаен,
если палец уколешь – покажется он.
Третий слог —
если хлеба ковригу дают,
если эту ковригу на скатерть кладут.
А четвертым —
себя может каждый назвать.
Отгадаешь – вперед! Не сумеешь – назад!
Время Золушке теперь говорить: —
Я попробую шараду открыть!
Как до полночи поздней тянется грусть,
свои пальцы ломала от хворости – хруст…
Шьешь и шьешь, и уколешься, помню печаль,
из-под пальца кровинкой покажется – аль…
Третий слог, когда мачеха звала меня,
черствый ломоть бросала подкидышу – на…
Это я про себя: – Несчастливая я…
Распахнитесь, ворота, отгадка моя —
Хруст… аль… на… я…
Распахнулись широко ворота,
перед Золушкой – дорог широта.
Другая загадка
Мост железный через грохот реки,
перед Золушкой ворота крепки.
– Распахнуться мы хотим, да замки!
Не откроешь нас ключом никаким.
Ни цепями, ни ключом не греми —
заперты загадкою мы.
Если хочешь отпереть – отгадай,
а не сможешь – не пройдешь никуда:
Крылья есть, а не летит,
сам в зрачок, а не глядит.
Без него плохо,
а с ним не лучше.
Ростом кроха,
а может замучить.
Стар, а тебе новинка,
целый, а половинка.
Без колес, а в ходу.
Ни на что не гож,
а всюду вхож…
Думает Золушка,
думает, думает, думает, ду —
мает – грош!
Как сказала – ни реки, ни ворот,
только ровная дорога вперед…
И еще загадка
Цепи тяжкие на скрепах скрипят,
перед Золушкой ворота опять.
– Распахнуться мы хотим, да замки!
Не откроешь нас ключом никаким.
Ты диковинным ключом не греми —
тайной кованою заперты мы.
Если хочешь отпереть – отгадай,
а не сможешь – не пройдешь никуда!
Три буквы у меня,
а нас двое,
что такое?
В скалах ты нас найдешь,
скатертью развернешь,
будешь искать – и скок —
чудо-конь скакунок.
С каменных круч сойдем,
скатимся в каждый дом.
Живем мы в слове – тоска,
жить будем в слове – ласкать.
Жар-птицы – огней каскад,
гусли – игры раскат.
Велели нас не пускать,
шли ночью в земле искать,
мы вырастем из песка
ковром одного куска!
Три буквы во мне,
а нас двое —
что такое?
Загадка трудна-трудна,
двое, тайна одна.
Мне спилось это во сне,
нашептывал это снег.
Скворушка говорил
о чудах Хрусталь-горы.
Пальцем трет у виска.
– Скажем три буквы – ска,
а вдвое – ска и ска,
ах, поняла: ска-ска,
всякой петле развязка,
откройтесь, ворота, – Сказка!
Лишь сказала – что ключа оборот,
перед нею ни замка, ни ворот!
Берег каменный, и синей стеной,
синью высинено море синё.
А за сипим краем моря – скала,
белый-белый уголек хрусталя…
Волны пастями хватают песок
да отфыркивают пену с усов…
Запах свежей щелочи
прямо в губы Золушке.
– Там, наверно, крабики,
верно, рыбы в крапинку,
раки, клешни лаковые,
водоросли, раковины…
Но в волне —
ни признака рыбьего;
берег выбелен
сушью гибельной,
а по всему по берегу,
у темных гор-горынычей
на горючих камнях —
что ли, с горя
люди какие-то
сидят, пригорюнившись,
ждут погоды у моря.
Глава одиннадцатая
Первый Иванушка








