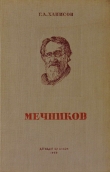Текст книги "Мечников"
Автор книги: Семен Резник
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Нобелевская премия. Конец дня в Ясной Поляне. Последняя поездка в Россию
1
Большой чести в том, что ему присуждена Нобелевская премия, Мечников не видел. Он считал, что комитет состоит из не вполне компетентных людей. К тому же Илья Ильич добивался присуждения премии Коху, полагая, что никто другой из бактериологов не заслуживает ее в такой степени, но жюри упорно обходило «тайного советника».
И все же телеграмма из Стокгольма обрадовала Мечникова.
Во-первых, опять появились деньги на обезьян.
Во-вторых, было приятно, что отмечены его работы по иммунитету; хотя широкой публике Мечников был больше известен как создатель каломелевой мази и лактобациллина, но он-то знал, каково его главное детище!..
И в-третьих, коль скоро комитет присудил ему только половину премии, то было приятно, что «солауреатом» его назван Пауль Эрлих.
Несмотря на значительные расхождения во взглядах, между ними давно уже сложились особенно теплые отношения. Впервые они встретились в 1900 году во время международного конгресса в Париже. Мечников дал тогда обед в честь немецкого гостя и настолько очаровал его, что Эрлих воскликнул:
– Какой характер! Какой великий человек!
У них было много общего. Увлекающийся, фонтанирующий идеями, яркий и остроумный собеседник, Эрлих был трогательно непосредственным человеком, начисто лишенным столь свойственной немцам холодности и педантичности. Нельзя сказать, чтобы они часто встречались. С Берингом, например, Мечников виделся куда чаще: охотно наезжал к нему в Марбург – познакомиться с новыми опытами или обсудить спорные вопросы.
Но когда в марте 1914 года состоялось сразу два юбилея (исполнилось 60 лет Берингу и Эрлиху), то Мечников (совместно с Ру) в приветствии Берингу смог отметить лишь его научные заслуги, а об Эрлихе написал:
«Идеи изобилуют на каждой странице его трудов и придают блеск содержанию. Живость воображения Эрлиха проявляется в его манере, в лучистости его взгляда, в богатстве его речи. Будучи не в состоянии выразить словами все свои мысли, он призывает на помощь словам химические формулы и фигуры, которые чертит постоянно на листе бумаги, который всегда с ним. Общее впечатление о личности столь же симпатично, как и интересно. Неисчерпаемый творец руководящих идей, Эрлих один из учителей, насчитывающих наибольшее число учеников, и все остаются привязанными к нему, так как он в то же время самый приветливый из людей».
2
В телеграмме Нобелевского комитета наряду с поздравлением содержались две просьбы: во-первых, поскорее прибыть в Стокгольм на официальную церемонию и, во-вторых, разрешить возникшее затруднение, ибо комитет не знает, представителя какой страны он удостоил наградой.
Мечников ответил, что приехать сможет только весной, когда закончит курс лекций в Пастеровском институте, и что он всегда был и остается подданным Российской империи.
Над выбором темы для нобелевской речи ломать голову ему не пришлось: согласно уставу лауреат обязан был говорить о предмете, за который присуждена премия.
Иммунитет!
Но Мечников не был бы самим собой, если бы ограничился только изложением сути своих исследований. В самом начале лекции, поблагодарив Нобелевский комитет за оказанную честь и воздав должное «моему другу профессору Эрлиху», Мечников без обиняков заявил, что решил показать «необходимость теоретических исследований». Илья Ильич вернулся, таким образом, к тому, что страстно проповедовал еще четверть века назад, в своем вступительном слове на VII съезде российских естествоиспытателей и врачей, когда только что открылась ему целебная роль подвижных клеток. Рассказав о нелегкой борьбе, какую вел все эти годы за свои воззрения, он заключил:
«Фагоцитарная теория, созданная более четверти века тому назад, в течение многих лет живо оспаривалась со всех сторон. Только в последнее время она была признана многими учеными всех стран, а практически ее начали применять, так сказать, со вчерашнего дня. Следовательно, можно надеяться, что в будущем в медицине изобретут еще не одно средство, чтобы использовать фагоцитоз в интересах здоровья».
Рыцарь науки, он не упускал случая выступить в ее защиту.
Похоже, читая свою лекцию, он прислушивался не столько к реакции переполненного зала, сколько к суровому голосу того, кто был за тысячи верст от благополучного Стокгольма, но с кем он вел заочный спор уже многие годы.
И, приняв все положенные нобелевскому лауреату почести, он отправился на родину, в Россию, чьим сыном оставался всегда.
Он поехал в Петербург. Потом – в Москву. Потом – в Ясную Поляну…
3
Когда возвратились из Телятинок, Толстого еще не было. Он сделал крюк по окрестностям и подъехал с другой стороны. Спешился, сам отвел лошадь на конюшню и вернулся к дому, поигрывая хлыстом. Видно было, что он утомлен…
У «дерева бедных» его поджидала группа крестьян. Им нужна была какая-то помощь. «Вскоре крестьяне потянулись гуськом от дерева и дальше от усадьбы с обнаженными головами, по-видимому, удовлетворенные в своей просьбе», – заметил все еще остававшийся в Ясной Поляне корреспондент «Раннего утра» Д. Н.
Толстой поднялся к себе отдохнуть, а гостями завладела Софья Андреевна. Она провела их по всему дому, и Ольга Николаевна отметила в письме подруге, что «дом Толстых похож на все помещичьи дома средней руки, но выделяется своей простотой. Мебель самая необходимая, старая, лишь бы на чем было сидеть. Никакого стремления ни к роскоши, ни даже к изяществу. Все – и стены, и полы, и обстановка, видимо, бесконечно давно не были возобновлены и стоят так, пока совсем перестанут быть годными. Как все это далеко от того, что рассказывают про роскошь и непоследовательность Толстого!»
Потом Софья Андреевна прочитала гостям вслух давно написанный, но так и не опубликованный при жизни Льва Николаевича рассказ «После бала» и первую часть «Отца Сергия».
Потом был обед.
После обеда сидели у дома на скамье, следили за игрой в городки. Толстой сказал, что сам охотно бы поиграл, но боится, что корреспонденты напишут об этом.
Лев Львович предложил погулять, и они замелькали втроем между деревьями – он, Лев Николаевич и Мечников. Мечников много говорил, оживленно жестикулируя, Толстой сосредоточенно слушал, заметно к вечеру сгорбившись.
Потом сидели на балконе у Льва Николаевича, потом пили чай. Мечников рассказывал о Пастере, Беринге, Ру. О Софье Ковалевской. Толстой – о том, как иногда, не подумавши, совершаешь дурной поступок. Он рассказал, как выслали Черткова, как приезжал от Столыпина чиновник расследовать это дело и как он, Толстой, хотел с этим чиновником поговорить, но, увидев его, разгневался и не подал ему руки, и как теперь раскаивается в этом. («Я мог сказать ему, – пояснил, – что считаю вредной и дурной его деятельность; но я должен был с ним, как с человеком, быть учтивым». В рукописи Гольденвейзера[44]44
Рукопись хранится в ГМТ.
[Закрыть] дальше следует почему-то опущенное при издании: «Л. Н-ча долго мучила совесть за его „нехристианский“ поступок. А все-таки, что он не подал жандарму руки, всем было приятно».)
Еще Толстой сообщил доверительно свой секрет: он сейчас пишет художественную вещь о революции пятого года, но боится, чтобы из этого не вышло что-нибудь беспомощное, вроде второй части «Фауста».
– Но в этом произведении глубокой старости есть высокохудожественные места, – возразил Мечников.
– Вряд ли, – ответил Толстой. – В нем много ненужных и туманных сцен.
Мечников поспешил изложить свою версию второй части «Фауста». Толстой оживился, сказал, что непременно перечитает «Фауста».
Однако «заинтересованность» трактовкой Мечникова он выказал, по всей видимости, только из вежливости. Почти через два месяца Гольденвейзер записал слова Льва Николаевича о Тургеневе:
– Мне его миросозерцание претило: какое-то отношение ко всему с эстетической точки зрения. Странно, мне Мечников напомнил это. Он говорил о «Фаусте» и о старческой любви Гёте. Все это и вообще мерзость, а старческое-то и вовсе. А здесь это выставляется как что-то необыкновенное.
Мечников пообещал прислать ему «Этюды оптимизма», где «Фаусту» и Гёте посвящена отдельная глава.
В наступивших уже поздних сумерках Гольденвейзер сел к роялю. Оказалось, что музыкальные вкусы хозяина и гостя почти совпадают. Оба любили Моцарта, Гайдна, Шопена. Оба не выносили новую музыку (Мечников сказал, что пришел в ужас, когда ему в Петербурге играли Скрябина). Правда, он любил Бетховена, а Толстому Бетховен казался слишком усложненным.
Все было пристойно и вежливо. Хозяин и гость всячески подчеркивали, что получают удовольствие от общения друг с другом. Только раз, когда они на какую-то минуту остались в кабинете Толстого одни, Лев Николаевич снял с лица маску любезности, пристально (как пишет Мечников, но, может быть, опять пронизывающе?) посмотрел гостю в глаза и спросил:
– Скажите мне, зачем вы, в сущности, приехали сюда?
Мечников признается, что смутился, да и кто бы не смутился на его месте!
Прощались сердечно.
Долго жали друг другу руки. Мечников уверял, что пережил один из лучших дней своей жизни и что его жена, хотя он еще не говорил с ней об этом, испытывает такое же чувство.
– Я знал, что свидание будет приятно, но не думал, что настолько, – отвечал Толстой и предложил изредка переписываться.
– Постараюсь прожить сто лет, чтобы вам доставить удовольствие, – добавил он, смеясь.
И опять серьезно:
– Не прощайте, а до свидания.
А когда экипаж, в который уселись гости, уже покатил вниз по «прешпекту», они вдруг услышали, что их окликают… Толстой стоял на балконе, махал обеими руками и кричал вдогонку:
– До свидания… до свидания…
На станции Мечникова опять увидел корреспондент «Раннего утра» Д. Н. Было уже больше одиннадцати. «Вся фигура И. И. была, так сказать, полна глубокой думы». Мечников протянул деньги кассиру и ушел на платформу; станционный сторож не сразу разыскал его в темноте, чтобы вручить билеты. «Характерный штрих», – замечает по этому поводу Д. Н., и действительно: столь свойственной ученым рассеянностью Мечников не особенно отличался.
На вопрос корреспондента о Толстом он сказал примерно то же, что говорил самому Толстому при прощании…
А на следующий день (Мечников провел его в Москве в кругу друзей – нигде не появлялся и никого не принимал, вечером же укатил в Париж), когда в Ясную Поляну приехал корреспондент «Русских ведомостей» С. Спиро, Толстой повторил ему то, что говорил при прощании Мечникову: «Я от этого свидания получил гораздо больше всего того хорошего, чего ожидал».
Еще он сказал: «Я не встретил в нем обычной черты узости специалистов, ученых людей. Напротив, широкий интерес ко всему и в особенности к эстетическим сторонам жизни». «Я был поражен его энергией: несмотря на ночь, проведенную в вагоне, он так был оживлен и бодр, что представлял прекрасное доказательство верности его гигиенического, отчасти даже нравственно-гигиенического режима, в котором, по-моему, важное значение имеет то, что он не пьет, не курит и ни в какие игры не играет».
Это интервью позднее было включено в приложение к сборнику воспоминаний Мечникова. По мысли составителя, оно, очевидно, передавало истинное отношение Толстого к гостю. Маковицкий, однако, записал 31 мая: «Л. Н. сказал: в дневник, как всегда, записал откровенно, как мне тяжело было говорить с Спиро».
В дневнике же читаем:
«Меч[ников] оказался оч[ень] легкомысленный[45]45
Зачеркнуто: односто(ронний).
[Закрыть] человек – арелигиозный. Я нарочно выбрал время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то состояние науки, оправдания к[оторо]го я требовал. О религии умолчание, очевидно, отрицание того, что считается религией, и непонимание и нежелание понять того, что такое религия. Нет внутренне[го] определения ни того, ни другого, ни науки, ни религии. Старая эстетич[ность] Гегелевско-Гётевско-Тургеневская. И оч[ень] болтлив. Я давал ему говорить и рад оч[ень], ч[то] не мешал ему. Как всегда, к вечеру стало тяжело от болтовни. Гольд[енвейзер] прекрасно играл».
4
В ответ на присланные Мечниковым книги – о Конго Эдуарда Фоа и «Этюды оптимизма» – Толстой написал:
«Уважаемый Илья Ильич,
Простите, пожалуйста, что долго не отвечал вам. Благодарю вас за ваше письмо и книги. Только поверхностно просмотрел их. Очень бы желал чем-нибудь со своей стороны быть вам полезным. Пожалуйста, если вам что-нибудь нужно будет в России, что я могу исполнить, не обойдите меня.
Дружески жму вам руку. Прошу передать мой привет вашей жене.
Лев Толстой.
27 июля 1909».
Вот так! Книги получил, благодарю за них покорно, но в долгу оставаться не хочу, так что рад буду, со своей стороны, услужить; привет супруге…
Продолжения переписки не последовало.
Ну а «Этюды оптимизма» Толстой, конечно, не «поверхностно просмотрел»; он «два дня читал понемногу Мечникова книгу и ужасался на его легкомыслие и прямо глупость». Он хотел написать Мечникову «не доброе», потом решил, что если напишет, то «любовно», но в конце концов ограничился приведенными строчками.
Мечников считал, что не подал повода для этой подчеркнутой сухости, и после выхода в свет записок Гусева опять пустил в ход свой ключ. У Гусева он прочитал:
«Вчера Л. Н. получил от Мечникова его книгу „Essais optimistes“. Прочитав из нее главу о морали, он сказал: „Это – та же самоуверенность, что у теперешней молодежи. Всех разносить. Старики никуда не годятся. Не то чтобы признавать в них известные недостатки, а ничего в них нет хорошего“».
«Я объясняю себе возмущение Толстого по поводу моей статьи о нравственности, – писал Мечников, – его чрезвычайной, сохранившейся до конца дней, почти болезненной впечатлительностью. Несмотря на то, что я развивал вопрос о противниках вивисекций на животных совершенно спокойно, но мое отрицательное отношение к ним, вероятно, очень задело чувствительную струну великого писателя, как и все то, что я говорил о вреде чересчур усиленного преобладания чувства над рассудком».
Однако ни Гусев, ни сам Толстой ни слова не говорят о вивисекциях. И пометки Толстого – их всего две – относятся к тому месту, где Мечников утверждает, что наука уже так много принесла людям пользы, что вера в нее – это не слепая вера, а вполне заслуженное ею доверие. Нечто более важное, чем судьба кроликов, гибнущих под скальпелями жестоких вивисекционистов, задело Толстого!
…О Мечникове он помнил до конца своих дней – говорил о нем часто и с неизменным раздражением. Иногда даже забывал фамилию своего оппонента.
«– Ну, этот, как его, знаменитый ученый!..» Близкие знали, кого он имеет в виду, и подсказывали: «Мечников?» – «Да! Так он говорит, что…»
5
12 июня (по старому стилю 31 мая) 1909 года Мечников отбыл в Париж из Москвы, а 22-го уже был в Кембридже, куда приехал на праздник по случаю столетия со дня рождения Дарвина и пятидесятилетия выхода в свет «Происхождения видов».
На праздник съехалось около полутора тысяч ученых из многих стран обоих полушарий, но Мечникова больше всего обрадовала встреча с Реем Ланкэстером, крупным английским ученым, с которым его связывала давняя дружба.
Рей Ланкастер один из первых признал фагоцитарную теорию, приветствовал ее как важнейшее завоевание дарвинизма, восхищался страстностью и энергией, с какими Мечников отстаивал свои взгляды. В 1906 году, после того, как Илья Ильич по приглашению совета Королевского института в Харбине прочитал три публичные лекции, Рей Ланкастер выпустил их отдельной книжицей. В предисловии он охарактеризовал Мечникова как «одного из величайших людей науки – истинного благодетеля своей расы, но прежде всего изыскателя, полного всепоглощающего рвения раскрыть тайны природы». Обрадованный не менее, чем Илья Ильич, Рей Ланкастер ни на шаг не отходил от него.
На следующее утро состоялось торжественное заседание. Хозяева – доктора Кембриджа – щеголяли в красных мантиях с розовыми обшлагами; мантии французских академиков были расшиты зелеными пальмовыми листьями; несколько португальских профессоров обратили на себя общее внимание многоэтажными шляпами, которые Мечникову показались похожими на пышные пирожные, а К. А. Тимирязеву, тоже участнику праздника, – на опрокинутые цветочные горшки; одеяния немецких профессоров были не столь яркими, но не менее впечатляющими.
Когда по проходу, высоко неся голову, прошел необычайно красивый старик с пышной седой бородой, в черной средневековой мантии и черном берете, сосед Мечникова толкнул его в бок и с восторгом спросил: кто это?
Илья Ильич (сам облаченный в алую мантию доктора Кембриджского университета), не задумываясь, ответил:
– Это сам доктор Фауст, увековеченный Гёте.
Образ Фауста, с которым в последние годы часто сравнивали Мечникова, похоже, постоянно жил в его сознании.
После торжественного шествия представители различных университетов, институтов и научных обществ стали подносить организаторам праздника адреса.
Среди прочих два адреса – от Московского университета и Московского общества испытателей природы – поднес К. А. Тимирязев, «наш известный симпатичный соотечественник», как назвал его Илья Ильич. Сам Мечников поднес адрес от Пастеровского института.
В промежутках и по окончании этой затянувшейся церемонии говорили речи. От имени немецких ученых выступил берлинский анатом Оскар Гертвиг. От имени американских – известный палеонтолог Осборг. От имени хозяев торжества – Рей Ланкэстер. От имени французских и русских ученых краткую речь сказал Мечников, подчеркнувший огромное значение дарвинизма в медицине.
По свидетельству Тимирязева, речь Мечникова, «прочитанная на прекрасном французском языке с уверенностью и умением опытного оратора, слышанная во всех концах громадной залы, была покрыта громкими рукоплесканиями».
Правда, к официальной части праздника Илья Ильич отнесся с известной долей иронии: «Торжества должны лишь производить впечатление на публику, жадную ко всякого рода зрелищам, выходящим из рамок обычного». Но разочарованным Мечников не был. Участник множества различных съездов, он знал, что самое важное происходит обычно не на официальных заседаниях, а в кулуарах, когда между представителями разных научных направлений вспыхивают импровизированные дискуссии, стычки, взаимные пикировки. Дарвиновские торжества оказались в этом отношении особенно поучительными. Потому что учение Дарвина, несмотря на приобретенный им за пятьдесят лет хрестоматийный глянец, оставалось живым, развивающимся учением, и проблем в нем было куда больше, чем признаваемых всеми безоговорочных истин.
Рей Ланкэстер не удержался и даже в официальной речи раскритиковал противников «ортодоксального» дарвинизма, хотя и, соблюдая этикет, не назвал их имен. Но в кулуарах этикет был отброшен, да и никто не сомневался в том, кого именно атакует Ланкэстер. Его соотечественник Вильям Бэтсон и голландец Гуго де Фриз уже несколько лет развивали новые взгляды на наследственность и изменчивость – эти важнейшие (наряду с отбором) факторы эволюции. Де Фриз выдвинул теорию мутаций – крупных скачкообразных изменений наследственности, и те, кто не соглашался с де Фризом, обвиняли его в ревизии основ эволюционного учения.
Илья Ильич сам в Амстердаме знакомился с опытами де Фриза, а во Франции – с работами его последователя Бларингема и, несмотря на свою дружбу с Ланкэстером, столь резких нападок на «неодарвинизм» не одобрял. «Если слушать ортодоксов, то наука совершенно не прогрессировала со времени работ Дарвина», – заметил он в одной из статей.
Правда, до конца отказаться от ошибок «ортодоксов» Мечников все же не смог. Во времена, когда теория Дарвина завоевывала умы, считалось, что изменения, вызванные приспособлением организма к условиям внешней среды, передаются по наследству. Позднее, в 80-х годах, эту теорию подверг резкой критике Август Вейсман. К взглядам Вейсмана Мечников относился с большим вниманием, во многом соглашался с ним, но не во всем. Он считал, что у микроорганизмов приобретенные признаки наследуются.
К счастью, это заблуждение не могло сильно влиять на его конкретные исследования.
6
Изучение кишечной флоры привело Мечникова к проблеме «детской холеры», то есть детских поносов. Борец за долголетие не мог остаться равнодушным к болезни, уносившей наибольшее число едва появившихся на свет жизней.
Ученые долго и тщетно искали возбудителя «детской холеры», пытались заражать ею лабораторных животных и, не добившись успеха, сделали заключение, что болезнь эта не инфекционная. Появилась теория, согласно которой «детская холера» возникает в результате нарушений пищеварения, вызванного летним зноем. Правоверный бактериолог, Мечников не соглашался с этим. Зная, как «капризны» кишечные инфекции, зная, что их протекание зависит не только от микроба-возбудителя, но и от других микроорганизмов, которыми населен желудочно-кишечный тракт, Мечников стал вести опыты на кроликах-сосунцах и на новорожденных шимпанзе. Он доказал, что «детскую холеру» вызывают микробы особой группы, называемой протеем.
Из других «человеческих» болезней он обратился к брюшному тифу.
Положение с брюшным тифом сложилось парадоксальное.
Уже больше тридцати лет прошло с того времени, как ученик Коха Эберт обнаружил брюшнотифозную палочку. Существовало более двух десятков вакцин против брюшного тифа, и все они считались эффективными, так как предохраняли свинок от смертельных доз бацилл Эберта, введенных в брюшину; а людей брюшной тиф косил почти так же, как и много лет назад. Эпидемии вспыхивали то там, то здесь, в больших городах и малых селениях. Тяжелая, изнуряющая болезнь тянулась по полтора-два месяца, и каждый десятый от нее умирал…
Разочаровавшись во всех предлагаемых предупредительных средствах, Роберт Кох заявил, что не в вакцинации видит путь борьбы с брюшным тифом. Он решил уничтожить всех тифозных бацилл на территории Германии и покрыл страну сетью станций, которые брали под контроль заболевших. Станции действовали уже больше десятка лет, принесли немало пользы, и все же брюшной тиф продолжал свирепствовать в Германии так же, как и в других странах.
…Первым принялся «кормить» шимпанзе бациллами брюшного тифа профессор Гринбаум из Ливерпуля. Результат у него получился отрицательный. Мечников тоже пытался давать шимпанзе чистую культуру бацилл Эберта, но обезьяны не заболевали.
Тогда Мечников решил «накормить» животное не культурой микробов, а выделениями больного человека.
На седьмой день температура у шимпанзе стала подниматься и достигла 40,5 градуса. В крови ее исследователи обнаружили бациллы Эберта. Все симптомы указывали, что у животного типичный брюшной тиф. Через несколько дней болезнь осложнилась, и вскоре шимпанзе погибла. То была первая обезьяна, принесенная в жертву ради избавления людей от брюшнотифозной инфекции.
Но является ли бацилла Эберта носителем инфекции или она лишь сопутствует истинному возбудителю? Известно ведь, что возбудители некоторых болезней настолько малы, что их не удается увидеть в самый мощный микроскоп и что их не задерживает обычный фильтр… Мечников и Безредка профильтровали испражнения тифозного больного и жидкость, в которой уже не было палочек, но должен был остаться невидимый вирус, дали двум молодым шимпанзе… Обе обезьяны остались здоровы.
Итак, все усилия надо направить на то, чтобы вызвать болезнь чистой культурой тифозной палочки. Мечников и Безредка решают использовать для этой цели бациллу, взятую не от человека, а от шимпанзе.
Теперь наконец дело пошло. «Виновность» бациллы Эберта была доказана.
Ученые стали испытывать различные вакцины, предохраняющие свинок от введенных в брюшную полость бацилл. И оказалось, что ни одна из них не дает на обезьянах надежного результата. Так вот в чем причина неудач в борьбе с брюшным тифом!
Исследователи настаивают на необходимости широко пропагандировать личные меры профилактики, которые «известны и не так трудны, как это принято считать».
«Победа над невежеством и небрежностью является важным фактором борьбы против брюшного тифа, часто способным сделать бесполезной вакцинацию в то время, как она не приносит надежных и постоянных результатов». Так Мечников и Безредка закончили свое первое большое сообщение о брюшном тифе, опубликованное в начале 1911 года.
Но на этом исследователи, конечно, не успокоились. Если применявшиеся до тех пор вакцины оказались неэффективны, надо создать новую. Не из убитых бактерий, а из живых! Ведь бациллы поражают кишечник. А что произойдет, если их вводить под кожу?
Первые же опыты дают совершенно ясный результат: живые вакцины вызывают у шимпанзе гарантированный иммунитет.
Но вводить в широкую практику живой неослабленный вирус – значит подвергать людей опасности заражения из-за какой-нибудь небрежности. Безредка разрабатывает метод обработки бацилл сывороткой, содержащей антитела – сенсибилизаторы. Бациллы при этом остаются живыми, но организму с ними справиться легче. А обеспечивает ли сенсибилизированная вакцина иммунитет? Опыты показывают: да, обеспечивает!
Отлично. Теперь можно испытать вакцину на человеке.
Первые опыты на людях – двух женщинах сорока и тридцати трех лет – были проделаны летом 1911 года, 7 июня и 15 июля. Эти эксперименты дерзнул предпринять Александр Михайлович Безредка. Мечникова в это время в Париже не было. Он был в экспедиции – в Астраханских степях.
7
В знойный полупустынный край, куда некогда, в годы своей мрачной молодости, он бежал от самоубийства и наркомании, от прелестей цивилизации и бездействия, вызванного болезнью глаз, на сей раз его привела чахотка, самая страшная из болезней, уносившая наибольшее число человеческих жизней; болезнь, в поисках средства против которой бились все крупнейшие лаборатории мира; болезнь, уничтожившая столько радужных надежд и беспощадная к самым выдающимся медицинским авторитетам.
После того как великий Кох потерпел фиаско со своим туберкулином, чахотка сыграла шутку и с его непокорным учеником Эмилем фон Берингом. В октябре 1905 года Беринг заявил на международном конгрессе в Берлине, что в ближайшие же месяцы подарит миру средство против туберкулеза.
Мечникову он тогда же сообщил все подробности своих опытов и просил их проверить. Вскоре после этого Беринг пригласил его в Марбург и детально ознакомил с работами.
Илья Ильич убедился, что немецкий ученый нашел средство против коровьего туберкулеза: введение ослабленных «человеческих» бацилл предохраняло крупный рогатый скот. Было вполне вероятно, что аналогичным путем можно получить вакцину и против туберкулеза человека. Илья Ильич стал экспериментировать в контакте с Берингом, но и совместными усилиями им едва лишь удалось сдвинуть воз с места.
Между тем исследования брюшного тифа убедили Мечникова в том, что природная невосприимчивость некоторых людей вызвана тем, что они переболели слабой формой тифа.
А не происходит ли нечто подобное и с туберкулезом? Почему, спрашивал себя Илья Ильич, в больших городах, наводненных чахоточными, значительная часть людей все же не заболевает? Почему в некоторых случаях туберкулез самоизлечивается? Почему он сам не заразился, проживя в молодости своей несколько лет бок о бок с чахоточной женой? Почему, например, негры, попав в Европу из Африки, заболевают туберкулезом почти наверняка и умирают очень быстро? Влияние непривычного климата?
Но известно, что в Калмыцкой степи чахотки практически нет; когда же калмыки переселяются в Астрахань (где климат такой же), то очень быстро ее схватывают. Может быть, причины в том, что жители мест, пораженных туберкулезом, незаметно вакцинируются и становятся менее восприимчивыми?
Чтобы проверить эту гипотезу, надо было выяснить, каково распространение туберкулеза в Калмыцкой степи, благо коховский туберкулин, обманувший надежды на его целебные свойства, стал отличным средством диагностики. Венский врач Пирке показал: если в царапину на руке внести немного туберкулина, то характер воспалительной реакции позволит точно определить, есть ли у данного человека туберкулезные очаги или нет.
Итак, чтобы ответить на поставленный себе вопрос, требовалось всего лишь одолеть пару тысяч верст и проверить на реакцию Пирке две-три тысячи калмыков. Мечникову ли останавливаться перед таким пустяковым препятствием!..
Правда, хоть Илья Ильич и держался наилучшего мнения о своей «моложавости», он все же понимал, что задуманное не совсем подходит для его шестидесяти шести лет. Предосторожности ради он счел нужным посоветоваться с врачом. Доктор Генц, тщательнейше его обследовав, не нашел веских причин отменить экспедицию, но заметил:
– Можно внезапно умереть с меньшей болезнью сердца, чем ваша.
Что и говорить, предупреждение серьезное, особенно для того, кто целью поставил прожить подольше, дабы на себе самом показать чудодействие избранного им режима.
Но благоразумного Илью Ильича уже охватил «психоз». Теперь он опасался лишь одного: вдруг русские власти почему-либо не разрешат экспедицию…
На свой запрос Мечников получил ответ от самого Столыпина. Российский премьер сообщал, что с радостью позволяет посетить Астраханскую губернию, что туда же отправляется группа врачей из Петербурга – исследовать причину чумы, из года в год появляющейся в Киргизской степи,[46]46
Калмыцкой степью называли прикаспийский район к западу от Волги, Киргизской – к востоку.
[Закрыть] и что он, Столыпин, просит уважаемого Илью Ильича возглавить и эту экспедицию.
Мечников решил, что если возьмет на себя руководство петербургскими врачами, то не сможет выполнить главную свою задачу; он согласился только составить план их работы и провести исследования в одном из чумных очагов.
14 мая вместе с Ольгой Николаевной и тремя сотрудниками Института Пастера – французом Бюрне, итальянцем Салимбени и японцем Яманучи – он выехал из Парижа. В Москве к ним присоединились еще два ученика Мечникова – Тарасевич и Шукевич.
В Астрахань плыли пароходом из Нижнего Новгорода, предаваясь в течение пяти суток «сладкому ничегонеделанию». Волга была еще в разливе, синяя гладь уходила почти к самому горизонту. Иногда мимо проплывали живописные островки; сонные рощи стояли «по пояс» в воде; на далеком берегу изредка появлялись деревушки.
Мечников почти не покидал палубы, жадно вглядывался в открывающиеся просторы. Чувствовал ли он, что видит все это в последний раз?..
В Астрахани городские власти сделали все, чтобы получше устроить участников экспедиции, но сильная жара, комары и невозможность соблюдать свой гигиенический режим угнетали Мечникова.
Участились перебои сердца; временами он чувствовал стеснение в груди, а иногда и острые боли.
В ставку Бек Мухаммеда – близ урочища Касай – Илью Ильича вместе с участниками чумной экспедиции Клодницким, Госсом и Кольцовым доставили на запряженных лошадьми таратайках. Ученые развернули походную лабораторию и приступили к исследованиям.