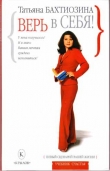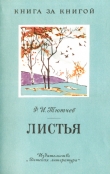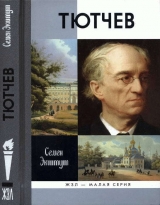
Текст книги "Тютчев: Тайный советник и камергер"
Автор книги: Семен Экштут
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
На карьере действительного статского советника это никак не отразилось и не помешало ему в этом же году получить очередную награду – звезду и ленту ордена Святого Станислава 1-й степени. Ирония истории заключалась в том, что убежденный противник папства был удостоен ордена, учрежденного в честь католического святого – краковского епископа, убитого своими политическими противниками за верность папскому престолу. Вероятно, и на сей раз Тютчев решил воздержаться от приобретения орденских знаков.
Прошел еще один год, заполненный необременительной службой, приятными светскими знакомствами и продолжающимся романом с Лелей Денисьевой. Зимой поэт блистал в великосветских салонах, отпуская свои знаменитые остроты, а лето провел за границей. В конце весны 1862 года он на три месяца был откомандирован в Европу от Министерства иностранных дел. Поездка за казенный счет могла оказаться последней, ибо в это время уже начались реформы и обсуждался вопрос о целесообразности дальнейшего существования Комитета цензуры иностранной. Тютчев легко мог лишиться своего места. Эрнестина Федоровна полагала, что в эпоху перемен чиновнику его ранга следовало бы оставаться в Петербурге, но он пренебрег грозящей опасностью и отправился за границу. В этой поездке его вновь сопровождала Елена Александровна Денисьева с детьми, а Эрнестина Федоровна вновь не знала, куда адресовать письма.
В Петербург Тютчев вернулся в середине августа и 30 августа – в день именин государя – отправился в Зимний дворец на церемонию торжественного выхода императора. Обычно наш герой игнорировал придворные церемонии, но на сей раз над его Комитетом сгустились тучи – и камергер Тютчев решил напомнить двору о своем существовании. Он прибыл во дворец «в полном параде и в золоченой карете, прокатившей его шагом по Невскому»{295}. 8 сентября камергер побывал в Новгороде и принял участие в торжествах, связанных с открытием памятника 1000-летию России. Ранее он никогда не уделял так много времени своим придворным обязанностям. Его жест был замечен и оценен.
Грозовое облако прошло мимо. Комитет избежал реформирования и сохранил свою независимость. После этого Федор Иванович попросил отпуск на десять дней и провел их в Москве с Лелей. В Петербурге он не позволял себе особых вольностей и избегал появляться с ней на людях. Лёля не имела собственного экипажа и почти всё время проводила дома, в душной атмосфере с вечно закрытыми окнами. А в это время Федор Иванович с Лёлей-маленькой отправлялся на Острова дышать свежим воздухом – то в коляске, то на одном из невских пароходов. Елена Александровна не могла сопровождать их в этих прогулках и очень сильно страдала от этого. Первопрестольная, в отличие от Петербурга, допускала известную свободу, но даже в Москве высокопоставленный чиновник никогда бы не посмел появиться с любовницей в публичном месте. Тютчева же с Денисьевой знакомые видели даже в Кремле. Всё это не способствовало миру в семье. Анна Тютчева писала сестре Екатерине: «Я хорошо понимаю все, что ты говоришь мне о нем <отце>. Ничего отрадного во всех наших семейных отношениях. При отсутствии какого бы то ни было настоящего, явного несчастия в них так много скрытого страдания и так мало радости, доверия, простоты, в них есть что-то такое натянутое, что подавляет душу»{296}.
* * *
Начало нового, 1863 года принесло Тютчеву новую награду: 17/29 января он был пожалован орденом Святой Анны 1-й степени. Мы видим, что наш герой с началом царствования Александра II стал получать награды один раз в два года. Эта периодичность требует комментариев. Император Николай I, борясь со злоупотреблениями в раздаче чинов и знаков отличия и желая повысить их престиж, повелел, чтобы чиновников даже за отличие по службе не представляли к очередной награде ранее истечения двух лет со времени получения последнего пожалования. Государь хотел сделать, как лучше, а получилось, как всегда. «…При Николае Павловиче нельзя было отличиться по службе больше одного раза через два года. Зато счастливцы через два года непременно отличались»{297}, – вспоминал современник. При покойном императоре Тютчев не принадлежал к их числу, но при новом государе стал таким счастливцем.
Однако 1863 год, несмотря на столь счастливое начало, выдался для Тютчева тяжелым. В ночь с 22 на 23 января в Царстве Польском вспыхнуло восстание. Одновременно в нескольких десятках пунктов Царства повстанцы неожиданно напали на военные гарнизоны и попытались их уничтожить. Хотя в большинстве случаев эти нападения были отбиты, военное командование, опасаясь возобновления подобных попыток, сочло целесообразным осуществить перегруппировку и концентрацию войск. Малочисленные гарнизоны были выведены из некоторых населенных пунктов, а восставшие их заняли без боя. Подавление восстания растянулось почти на полтора года. Общественное мнение Западной Европы сочувствовало восставшим полякам. Федор Иванович, убежденный в необходимости сохранить территориальную целостность Империи, испытывал чувство тревоги, вызываемое опасным положением России, которой грозила новая война с коалицией европейских держав.
И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова —
Всё поднялось и всё грозит тебе,
О край родной! – такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней…
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!{298}
(«Ужасный сон отяготел над нами…»)
Поэта беспокоило, что даже среди высших сановников отсутствовало единство по поводу польских дел. Министр внутренних дел Валуев и петербургский генерал-губернатор князь Суворов, внук знаменитого полководца, осуждали жесткие меры, направленные на подавление восстания и усмирение Польши силой оружия. «Что скажет на это Европа?» – вопрошал князь Суворов, этот «гуманный внук воинственного деда»{299}, как назвал его Тютчев.
Федор Иванович был исполнен беспокойства, волнения и тревоги. Его смятение было вызвано полнейшим отсутствием единомыслия в высших сферах по поводу того, как следует решать польский вопрос. Сталкивались противоположные взгляды, стремления, интересы, а объединяющая всех идея отсутствовала. Дневник министра внутренних дел зафиксировал это с предельной откровенностью:
«Мы все ищем моральной силы, на которую могли бы опереться, и ее не находим. А одною материальной силой побороть нравственных сил нельзя. Несмотря на все гнусности и ложь поляков, на их стороне есть идеи. На нашей – ни одной. В Западном крае и в Царстве повторяются теперь проскрипции древнего Рима времен Мария и Суллы. Это не идея. Мы говорим о владычестве России или православия. Эти идеи для нас, а не для поляков, и мы сами употребляем их название неискренно. Здесь собственно нет речи о России, а речь о самодержце русском, царе польском, конституционном вел. кн. финляндском. Это не идея, а аномалия. Нужна идея, которую мог бы усвоить себе хотя один поляк»{300}.
Именно такую идею и пытался предложить Тютчев. На протяжении своей жизни поэт дважды наблюдал подавление Польского восстания, и его позиция определилась еще в 1831 году, после взятия восставшей Варшавы русскими войсками. Город был взят штурмом в день Бородинской битвы – 26 августа. Штурм города был кровопролитным и унес много жизней с той и с другой стороны. Общественное мнение Запада осуждало жестокость победителей и не скрывало своего сочувствия побежденным полякам. За три недели до Варшавского штурма, когда исход кампании еще не был ясен и когда Европа грозила России «анафемой» и интервенцией, Пушкин, болезненно переживавший вмешательство Запада во внутренние дела России и убежденный в необходимости быстрых, решительных и жестких мер по отношению к повстанцам («Но всё-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна»{301}), в стихотворении с красноречивым названием «Клеветникам России» сформулировал вопросы, еще не получившие в то время однозначные ответы.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос{302}.
Для Тютчева в то время подобных проблем просто не существовало. Свое политическое кредо Федор Иванович, тогда еще молодой дипломат, изложил в стихотворении, которое никогда не печаталось при его жизни. Это большое стихотворение было не просто непосредственным откликом на взятие Варшавы, в нем с предельной четкостью были изложены историософские взгляды нашего героя, которые впоследствии лишь уточнялись и детализировались в его политических сочинениях. Это стихотворение многое объясняет, потому есть смысл процитировать его целиком.
Как дочь родную на закланье
Агамемнон богам принес,
Прося попутных бурь дыханья
У негодующих небес, -
Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!
Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет! нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!
Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди!
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.
Сие-то высшее сознанье
Вело наш доблестный народ —
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.
Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете!
Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем{303}.
(1831 г.)
Для Российской империи польский вопрос был исключительно болезненным. Поколение современников Тютчева унаследовало его от своих предшественников, десятилетиями решало, да так и не смогло разрешить – и нерешенным передало потомкам. Любой ход приводил к патовой ситуации. С одной стороны, Российская империя не могла признать независимость Польши, ибо подавляющее большинство образованного населения расценило бы подобную уступку как несомненную слабость верховной власти и пролог грядущего распада Империи: все знали о существовании сильных внутренних центробежных тенденций в Прибалтике, Финляндии и на Украине. Практическая реализация этих тенденций привела бы к неизбежным территориальным спорам.
Летом 1863 года Франция, Австрия и Англия направили в Петербург ноты с требованием созвать конференцию для решения польского вопроса, что было прямым вмешательством во внутренние дела России. После поражения в Крымской войне власть не могла позволить себе ни малейших проявлений мягкости и сговорчивости в международных вопросах. Согласиться с этими требованиями означало утратить статус великой державы. С другой стороны, подавление восстания было очень жестоким и сопровождалось массовыми казнями и ссылками восставших во внутренние губернии Империи. Людей здравомыслящих беспокоило, что ссыльные могут стать мощным катализатором революционного брожения. Федор Иванович не изменил себе и нашел повод отпустить остроту и по поводу сосланных поляков: «Это яд, который мы принимаем внутрь, чтобы от него избавиться»{304}. Правительство, борясь с повстанцами, не знало жалости и не проявляло сострадания, что очевидно противоречило принципам гуманности, уже получившим распространение в это время. Напряженность противостояния сторон была столь сильной, что любое снисхождение власти по отношению к мятежникам всеми было бы воспринято как ее бессилие. Тютчев считал польский вопрос «династическим роком» Романовых.
Тревожным летом 1863 года, когда полным ходом уже шла дипломатическая война между Российской империей и Европой, Тютчев появился в Москве. Правительство не исключало вероятность военного столкновения с европейской коалицией, и Федор Иванович должен был осуществить зондаж общественного мнения и установить личный контакт с издателями наиболее авторитетных московских газет. Ему предстояло стать «чем-то в роде официозного посредника между прессой и Министерством иностранных дел»{305}. Хотя с самого начала наш герой скептически оценивал перспективы своей миссии, его приезд в Первопрестольную был санкционирован министром иностранных дел. Это был всего лишь один из многочисленных шагов, сделанных князем Александром Михайловичем Горчаковым и направленных на бескровное разрешение европейского конфликта. Войны против объединенных сил Англии, Франции и Австрии Россия бы не выдержала.
К счастью, на этот раз вооруженного конфликта действительно удалось избежать. Европейские державы ограничились дипломатическими демаршами, произошел обмен нотами, и в конечном итоге дипломатическая война была выиграна князем Горчаковым, которого с той поры как в России, так и в Европе признали великим дипломатом. (Воспользуюсь удобным случаем, чтобы заметить: за долгие годы личного знакомства отношение Федора Ивановича к князю Горчакову и к проводимой им политике не оставалось неизменным. Тютчев нередко зло подшучивал над всем известной склонностью Горчакова, непревзойденного стилиста и оратора, к самолюбованию и называл его «Нарциссом собственной чернильницы». Салонные остроты Тютчева по поводу министра «доброжелатели» доводили до сведения адресата, но князь Александр Михайлович каждый раз оказывался выше светских сплетен. Всё это касалось лишь формы, однако между друзьями были расхождения и по сути. Нашего героя раздражало, что министр иностранных дел Российской империи не имел ясной и определенной программы деятельности и руководствовался всего лишь сиюминутными целями, встававшими перед ним в ходе текущей политики, – и тогда поэт уничижительно отзывался о «невероятной пустоте» князя. Но стоило «милейшему князю» в очередной раз удачно решить казавшуюся неразрешимой дипломатическую задачу и отстоять интересы Империи, как Тютчев публично с похвалой отзывался о своем «великом друге» и посвящал ему стихи.)
* * *
Это время непрекращающихся тревог пагубно отразилось на здоровье Тютчева. У него обострилась подагра. Приступ начался еще в конце весны 1863 года, в Петербурге, и продолжался более месяца. Федор Иванович оказался в городе совершенно один, вся его семья разъехалась кто куда. За больным ухаживала Елена Александровна Денисьева. Когда Тютчев отправился в Москву, она поехала вместе с ним. Дарья Ивановна Сушкова, сестра поэта, с нескрываемым раздражением писала племяннице Китти:
12/24 июля. «Дядя Николай побывал у твоего отца (который сегодня у нас обедал), однако я к Федору не поеду, поскольку известная особа сохраняет место, ею захваченное. Николай ее видел, но не говорит об этом ни слова, хотя создавшееся положение раздражает и сердит его»{306}.
15/27 июля. «Какое было бы счастье, если бы он смог прекратить этот ужасный образ жизни. Дай Бог, чтобы известная особа осуществила свое намерение уехать!»{307}
17/29 июля. «Федор получил наконец письмо от жены и оставил его у бабушки в ящике ее бюро. Ведь это у нее он обычно пишет Эрнестине, а я отправляю его письма в Овстуг; здесь же ее письма дожидаются его появления, и каждый раз, уходя, он отдает их мне. Бедный брат, по-видимому, он полностью подчинился этой особе, которой должно было бы жить в смирении и покаянии вместо того, чтобы распоряжаться чужим супругом. Все это возмущает меня сверх меры»{308}.
Примечательно, что негодование Дарьи Ивановны Сушковой было вызвано поведением Елены Александровны, но никак не поведением Федора Ивановича. У Сушковой никогда не было сострадания по отношению к безнадежно потерянной для «приличного» общества Денисьевой, но родной брат постоянно вызывал у нее сожаление и сочувствие.
Тютчев пробыл в Москве около двух месяцев, постоянно обещал Эрнестине Федоровне приехать в Овстуг, да так и не приехал и в конце лета вернулся в Петербург. Частная жизнь нашего героя шла своим чередом. Его связь с Лелей продолжалась уже 14 лет, и конца ей не предвиделось. В любовном треугольнике не было никаких изменений. Старшая дочь поэта Анна писала сестре Китти в Москву: «Я почти совсем не вижу папа. У меня он не бывает, а когда я прихожу обедать к мама, его никогда там нет. На свете нет другого семейства, столь же распущенного, как наше»{309}. 22 мая 1864 года у Федора Ивановича и Елены Александровны родился третий ребенок – сын Николай. Накануне Эрнестина Федоровна с дочерью Марией уехала на воды в Германию. Тютчев очень хотел поехать за границу, но этому помешала последовавшая за родами тяжелая болезнь Денисьевой. Он был исполнен столь сильного смятения, что даже не посчитал нужным скрыть свои чувства от Китти, приехавшей из Москвы в Петербург. Болезнь развивалась стремительно, и 4 августа Елена Александровна скончалась. Федор Иванович был раздавлен. Он писал родственнику ушедшей:
«Все кончено – вчера мы ее хоронили…
Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу—не знаю… Во мне все убито: мысль, чувство, память, все… Я чувствую себя совершенным идиотом.
Пустота, страшная пустота. И даже в смерти – не предвижу облегчения. Ах, она мне нужна на земле, не там где-то…
Сердце пусто – мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней – вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.
Страшно – невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?..»{310}
У Тютчева не было сил не только писать, но и жить. Ему казалось, что жизнь кончена и осталось только жалкое физическое существование. Он испытал запоздалое раскаяние и ощутил невозможность искупить собственные ошибочные или дурные поступки. Им всецело овладело чувство вины перед Лелей. По словам старшей дочери, сам он постарел на 15 лет, а тело его превратилось в скелет. Анне даже показалось, что отцу недолго осталось жить. «Он был в состоянии близком к помешательству. Какие дни нравственной пытки я пережила! Потом я встретилась с ним снова в Ницце, когда он был менее возбужден, но все еще повергнут в ту же мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему бы то ни было небесному. Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, все увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям религии и доводило его, по природе нежного, справедливого, до раздражения, колкостей и несправедливости в отношении к его жене и ко всем нам. Я увидела, что моя младшая сестра, которая теперь при нем, ужасно страдала. Сколько воспоминаний и тяжелых впечатлений прошлого воскресло во мне. Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растрачена в земной и незаконной страсти»{311}. Федор Иванович искал утешения, где только мог, но не находил его – и тогда поэт, к нескрываемой радости его дочерей, обратился к религии. Он решил говеть: стал готовиться к исповеди и причастию, постясь и посещая церковь, чего не делал более четверти века. «Отец причастился Св. Тайн, и это большое благо. Он раз писал ко мне, хотя очень грустное письмо, но он тут первый раз говорит о потребности души его молиться, и искать будущей, вечной жизни»{312}.
Его семья отнеслась к этому горю с поразительной человечностью. Все сплотились воедино и стали думать о том, как помочь отцу и мужу преодолеть душевные страдания. Надо было договориться и о дальнейшей судьбе внебрачных детей Федора Ивановича. Семья не стала устраняться от решения этой болезненной проблемы. Дарья Ивановна Сушкова написала Китти: «Я верю его раскаянию, его отчаянию, но при этом я, увы, убеждена, что он же первый будет пренебрегать этими тремя детьми, забывая о них. У него ум тонкий, сердце впечатлительное, но склонное к заблуждениям. Он пленит тебя своим красноречием, тебя и твоих сестер, которые действительно добры, – вы примете на себя любые обязательства»{313}.
Речь шла не только о материальных обязательствах, хотя обучение и воспитание троих детей было само по себе делом недешевым. Семью беспокоила нравственная ответственность за будущее детей, которые не имели никаких юридических прав ни на долю в родовом имуществе Тютчевых, ни на принадлежность к дворянскому сословию. Детям предстояла суровая жизненная борьба, и воспитание должно было к ней подготовить. Для предстоящей им жизни светский лоск был излишней роскошью. Так считали родные Федора Ивановича, убежденные в том, что именно тяга к светской жизни и тщеславие погубили Елену Денисьеву Вот почему они хотели поместить четырнадцатилетнюю Лёлю-маленькую на полный пансион в добропорядочную мещанскую немецкую семью: такое воспитание приучило бы девочку к порядку и экономии; «при ее приданом она с Божьей помощью вышла бы замуж в той же среде, где, вероятно, легче обрести счастье»{314}, – полагала Сушкова.
К сожалению, осуществиться этим разумным планам не было суждено. Дочь Тютчева и Денисьевой Елена была помещена в великосветский пансион госпожи Труба в Петербурге. Этот аристократический пансион находился под покровительством благоволившей к поэту великой княгини Елены Павловны, знавшей о незаконном происхождении девочки. Не исключено, что именно великая княгиня платила за ее обучение. Вот почему хозяйка пансиона допустила девочку в узкий круг своих восьми воспитанниц из высшего общества.
Сама Лёля-маленькая ничего не знала о своем незаконном происхождении и считала себя дочерью камергера Тютчева. Она носила траур. Это заметила одна великосветская дама, княгиня Софии Гагарина, мать ее близкой подруги, и поинтересовалась, по ком она носит траур. Услышав, что дочь камергера уже несколько месяцев носит траур по матери, дама искренне удивилась: совсем недавно она видела Эрнестину Федоровну живой и здоровой. Княгиня подробно расспросила девочку о ее родителях, прекрасно все поняла и отошла, не попрощавшись и уведя за руку свою дочь. Лёля была поражена и, вернувшись из пансиона домой к бабушке, стала настойчиво выспрашивать у Анны Дмитриевны Денисьевой то, что так долго от нее скрывали, и, «узнав всю правду, предалась чрезмерному горю, плакала и рыдала, проводила бессонные ночи и почти не принимала пищи, умоляла только о том, чтоб ее не посылали больше в пансион Труба. При таких условиях бывшая у нее в зародыше чахотка развилась с чрезвычайной быстротой и в начале мая 1865 г. ее не стало, а на другой день скончался от той же болезни и ее брат Коля, который незадолго пред тем вступил во второй год своей жизни»{315}.
Смерть девочки развязала запутанный узел серьезных проблем. При жизни Лёли-маленькой Китти по просьбе отца навестила ее в пансионе, а Анна, которая была воспитательницей дочери императора, посылала своей сводной сестре подарки, причем делала это якобы от имени великой княжны. Эти поступки дочерям поэта казались вполне естественными, «такими же естественными, как казались бы немыслимыми до смерти этой бедной женщины»{316}. После этого Лёля стала называть себя в пансионе сестрой двух фрейлин Тютчевых, Анны и Дарьи. Фрейлины были на виду, а расточаемые им милости вызывали нескрываемую зависть придворных.
Княгиня Гагарина посчитала нужным рассказать императору о своем знакомстве с девочкой и о ее честолюбивых притязаниях, и эта интрига увенчалась успехом. Александр II был крайне недоволен и в резкой форме выразил свое неудовольствие императрице. Мария Александровна была вынуждена потребовать от камергера Тютчева, чтобы до тех пор, пока Анна состоит при великой княжне, между ней и Лелей не было бы никаких отношений. Камергеру было официально заявлено, что подобные отношения ставят под угрозу придворную службу Анны. Анна была сильно удручена. «Я плачу свою часть долга за то немыслимое пренебрежение приличиями и стыдливостью, которое проявил папа: быть может, другие повинны в подобных вещах не менее, чем он, но никто не выставляет этого на всеобщее обозрение. Чувство стыда стало для меня привычным ощущением»{317}.
Старшая дочь поэта давно уже с трудом переносила душную придворную атмосферу и испытывала желание покинуть двор. Летом 1865 года состоялась ее помолвка, которую она долго держала в тайне даже от родных: они не имели представления о решении дочери. Анна несколько раз откладывала объяснение с ними, и ее сокровенные записки объясняют причину столь необычного поведения.
«Вчера я провела день в Петербурге, потому что папа очень страдает от подагры и вынужден оставаться в постели, что приводит его в очень дурное настроение. Он сделал мне ряд колких замечаний о девицах, которые не выходят замуж, и о невыносимости и глупости моего существования при дворе. Тем не менее, я не испытываю ни малейшей потребности поделиться с ним тем, что сейчас занимает меня. Наоборот, мне неприятно думать о минуте, когда я должна буду сказать ему об этом. Сперва он будет очень рад, потому что ему хочется видеть меня замужем и он очень досадует, что я столько лет запряжена в однообразное, тусклое, исполненное тяжелого труда существование. Но как только минет первая минута удовлетворения, он захочет применить к Аксакову и ко мне, к нашим взаимным чувствам, к нашим характерам, к нашим планам на будущее скальпель своего анализа, всегда тонкого и остроумного, но чрезвычайно тлетворного, потому что анализ этот зиждется на принципе исключительно человеческом, скептическом и негативном. О том, что составляет основу наших чувств и наших отношений, я никогда не смогу и не захочу ему сказать, так как он этому не поверил бы и не понял бы этого. В браке он видит только страсть и не допускает ничего, кроме страсти, и признает его приемлемость лишь пока страсть существует. Никогда он не признал бы, что можно поставить выше личного чувства долг и ответственность перед Богом в отношении мужа к жене и жены к мужу и что понятый таким образом брак освящен и способствует нравственному возвышению. Я никогда не могу говорить о своем сокровенном с отцом, и потому, несмотря на привязанность его ко мне и мою к нему, несмотря на все хорошее, что я признаю в нем, я чувствую себя так глубоко и непоправимо чуждой ему»{318}.
В конце 1865 года Анна приняла решение выйти замуж, что автоматически вынуждало ее покинуть службу. «Двор ей стал невыносим…»{319} – по словам графа Шереметева. В январе 1866 года Анна Федоровна Тютчева в возрасте тридцати шести лет стала женой известного славянофила, публициста и поэта Ивана Сергеевича Аксакова, с огромным облегчением рассталась с Петербургом и переехала в Москву. Это был союз единомышленников. Анна Федоровна не просто разделяла воззрения своего мужа, а давно уже имела репутацию воинствующей славянофилки.
Весьма характерна реакция Льва Николаевича Толстого на сообщение о предстоящей свадьбе: «Как их будут венчать? и где? В скиту? в Грановитой палате или в Софийском соборе в Царьграде? Прежде венчания они должны будут трижды надеть мурмолку и, протянув руки на сочинения Хомякова, при всех депутатах от славянских земель произнести клятву на славянском языке»{320}.
Федор Иванович очень хорошо относился к своему зятю, но и на сей раз остался верен себе и отпустил шутку в письме жене по поводу столь позднего замужества дочери. Свадебный убор невесты был украшен флердоранжем – белыми цветами померанцевого дерева, символом невинности: «…в волосах у нее уже была веточка флердоранжа, столь медлившего распуститься…»{321}.
Анна Федоровна ощущала себя подлинной главой большой семьи, и очень часто именно ее голос оказывался решающим. Ровно за год до своего собственного замужества она помогла устроить судьбу своей самой младшей сестры Марии. В конце осени 1864 года почти все семейство Тютчевых находилось в Ницце. Этот небольшой средиземноморский городок благодаря обилию русских путешественников на глазах превращался в модный курорт, который посещала даже царская фамилия. В связи с пребыванием царской семьи в Ницце там стояла на якоре русская эскадра. 18/30 ноября 1864 года камер-фрейлина императрицы графиня Антонина Дмитриевна Блудова представила Марии Тютчевой флотского офицера – флигель-адъютанта императора и командира фрегата «Олег» Николая Алексеевича Бирилева. Прошло меньше месяца. Накануне нового, 1865 года командующий эскадрой дал бал, после которого девушка объявила родителям о своем решении стать женой Бирилева.
Во время Крымской войны Бирилев в чине лейтенанта флота прославился своими десятью дерзкими вылазками в тыл врага и был тяжело контужен в голову. Он заслужил орден Святого Георгия 4-й степени и быстро дослужился до чина капитана первого ранга. О его решительном сватовстве, поддержанном самой императрицей, шутили: «Это его 11-я вылазка». Хотя Бирилев и стал флигель-адъютантом императора, в нем не было никакого светского лоска. Герой обороны Севастополя отличался добросердечием и бесхитростностью и говорил исключительно по-русски.
Окончившая Смольный институт Дарья Тютчева трактовала его как невоспитанное, необразованное, не умеющее держать себя в обществе дитя природы. Федор Иванович выражался еще более определенно и резко: «Что она нашла в нем? Он просто идиот – особливо к вечеру, – мозг его заметно потрясен контузией. Конечно, дочь моя любит его, но любит как дитя, за которым она должна ухаживать. Я не хотел этого брака, но впуталась императрица и дочь моя – Анна, – разумеется, из желания какого-то отвлеченного – помочь влюбленному герою, – тогда как всем это казалось просто непостижимым. Будет ли моя бедная Магу счастлива! Умственная несостоятельность Бирилева и жену мою сокрушает»{322}.
Родители и сестра Дарья устраивали Марии после ее помолвки самые настоящие сцены, но старшая сестра решительно приняла ее сторону – и только проявленная Анной твердость помогла состояться этой свадьбе. Бьющая в глаза простота бравого моряка оскорбляла аристократизм Тютчевых. По словам Анны, «они оба – мама в особенности – глубоко уязвлены в своем светском тщеславии и утверждают, что он дурак, что Мари покроет себя стыдом, решившись на это замужество. В самом деле, его нельзя назвать умным человеком в нашем представлении, однако, когда он находится в своей среде, когда его ничто не стесняет, он совсем не таков, каким видят его папа и мама»{323}. Прошло менее полутора лет, и жизнь все расставила по своим местам. В мае 1866 года Мария Федоровна Бирилева написала в своем дневнике печальные строки: «Мама была права, права, права!»{324}
Федор Иванович, в отчаянии покинувший Петербург в августе 1864 года, через несколько дней после похорон Денисьевой, пробыл за границей более семи месяцев. Эрнестина Федоровна встретила Любимчика с пылкой нежностью, но ожидаемого сближения не произошло, и супруги даже за границей продолжали жить на два дома. Только 3/15 марта 1865 года Тютчевы уехали из Ниццы. Хотя начальство всегда смотрело более чем снисходительно на ежегодные отлучки председателя Комитета цензуры иностранной от своей должности, но на этот раз столь продолжительное отсутствие едва не стоило ему потери места.