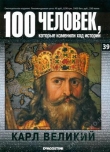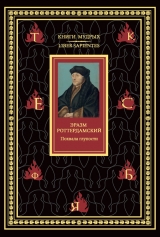
Текст книги "Корабль дураков. Похвала глупости. Разговоры запросто. "Письма темных людей". Диалоги"
Автор книги: Себастиан Брант
Соавторы: Эразм Роттердамский,Ульрих фон Гуттен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 87 страниц) [доступный отрывок для чтения: 31 страниц]
«Похвальное слово» имело у современников огромный успех. За двумя изданиями 1511 года потребовались три издания 1512 года – в Страсбурге, Антверпене и Париже. За несколько лет оно разошлось в количестве двадцати тысяч экземпляров – успех по тому времени и для книги, написанной на латинском языке, неслыханный.
Более, чем любое другое произведение кануна Реформации, «Похвальное слово» распространяло в широких кругах презрение к теологам и монахам и возмущение состоянием церкви. Но Эразм не оправдал надежд сторонников Лютера, хотя сам, безусловно, стоял за практические реформы, которые должны были возродить и укрепить христианство. Его гуманистический скепсис в вопросах религиозной догматики, его защита терпимости и снисходительности, его лукиановски непочтительная форма обращения со священными предметами оставляли слишком много места – даже с точки зрения протестантского богословия – для свободного исследования и были опасны для церкви как новой, так и старой. Противники Эразма недаром называли его «современным Протеем». Впоследствии католические и протестантские богословы старались – каждый на свой лад – доказать ортодоксальность его идей, но история расшифровала идеи автора «Похвального слова» в таком духе, который выводит их за пределы всякого вероисповедания.
Потомство не может упрекнуть Эразма за то, что он не примкнул ни к одной из борющихся религиозных партий. Его проницательность и здравый смысл помогли ему разгадать обскурантизм обоих лагерей. Но вместо того чтобы возвыситься над обеими односторонностями религиозного фанатизма и употребить огромное свое влияние на современников для разоблачения равно «папоманов» как и «папефигов» (подобно Рабле, Деперье и другим свободомыслящим) и для углубления освободительной борьбы, Эразм занял нейтральную позицию между партиями, выступая в неудачной роли примирителя непримиримых станов. Тем самым он уклонился от решительного ответа на религиозные и социальные вопросы, поставленные историей. Мир и покой ему казались дороже всего. «Я терпеть не могу столкновений, – писал он около 1522 года, – и до такой степени, что, если начнется борьба, я покину скорее партию истины, чем покой». Но ход истории показал, что этот покой уже не был возможен и катаклизм был неизбежен. У «главы европейской республики ученых» не было натуры борца и той цельности, отмечающей тип человека эпохи Возрождения, которая воплощена в благородном образе его друга Т.Мора, в борьбе за свои убеждения сложившего голову на эшафоте (за что Эразм его порицал!). Переоценка мирного распространения знаний и надежды, которые Эразм возлагал на реформы сверху, была его ограниченностью, которая доказывала, что он мог возглавить движение только на мирном, подготовительном этапе. Все его последующие наиболее значительные произведения (издание «Нового завета», «Христианский государь», «Домашние беседы») приходятся на второе десятилетие XVI века. В 20-30-х годах, в разгар религиозной и социальной борьбы его творчество уже не имеет прежней силы, его влияние на умы заметно падает.
Позиции Эразма в последний период его жизни оказались поэтому намного ниже пафоса его бессмертной сатиры. Вернее, он сделал из своей философии «удобный» вывод: мудрец, наблюдая «комедию жизни», не должен «быть мудрее, чем это подобает смертному», и лучше «вежливо заблуждаться заодно с толпой», чем быть сумасбродом и нарушать ее законы, рискуя покоем, если не самой жизнью (гл. XXIX). Он избегал «одностороннего» вмешательства, не желая принимать участив в распрях «глупцов»-фанатиков. Но «всесторонняя» мудрость этой наблюдательской позиции есть синоним ее ограниченной односторонности, ибо что может быть одностороннее точки зрения, исключающей из жизни действие, то есть участие в жизни? Эразм оказался в положении осмеянного им самим в первой части речи Мории бесстрастного мудреца-стоика, высокомерного по отношению ко всяким живым интересам. Выступления крестьянских масс и городских низов да арену истории «с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах» (Энгельс) [294]294
Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, М. -Л. 1931, стр. 475
[Закрыть] и были в этот период высшим выражением социальных «страстей» эпохи и тех принципов «природы» и «разума», которые с такой смелостью защищал Эразм в «Похвале Глупости», а его друг Т. Мор в «Утопии». Это была настоящая борьба народных масс за «всестороннее развитие», за право человека на радости жизни, против норм и предрассудков средневекового царства Глупости.
Однако между гуманистами (даже такими, как Т.Мор) и народными движениями эпохи, идейно им созвучными, практически лежала целая пропасть. Даже будучи прямыми защитниками народных интересов, гуманисты редко связывали спою судьбу с «плебейско-мюнцеровской» оппозицией, не доверяя «непросвещенным» массам и возлагая надежды на реформы сверху, хотя именно в этой оппозиции и выступала стихийная мудрость истории. Поэтому ограниченность их позиции сказывалась как раз в момент высшего подъема революционной волны. Эразм, например, порицал Лютера за его призывы «бить, душить, колоть» восставших крестьян, «как бешеных собак». Он одобрял попытку базельской буржуазии выступить в роли арбитра между князьями и крестьянами. Но дальше этого его мирный гуманизм не шел.
Независимо от личных позиций Эразма, его идеи исторически делали свое дело. «Эразмизм», как ересь «арианская» и «пелагианская», подвергается преследованию в эпоху контрреформации, но его влияние обнаруживается и в скептицизме «Опытов» Монтеня и в творчестве Шекспира, Бен-Джонсона и Сервантеса. Его внимательно читают французские вольнодумцы XVII века вплоть до П. Бейля (прожившего последний период своей жизни в родном городе Эразма – Роттердаме), автора статьи об Эразме и его последователя в рационалистическом подходе к богословским текстам. Эта эразмовская традиция приводит к французским и английским просветителям XVIII века, а также к Лессингу, Гердеру и Песталоцци. Один развивают критическое начало его теологии, другие – его педагогические идеи, его социальную сатиру пли этику.
Просветители XVIII века с новой, невиданной до того силой используют основное орудие Эразма – печатное слово. Лишь в XVIII веке семена эразмизма дают богатые всходы, и его сомнение, направленное против догматики и косности, его защита «природы» и «разума» расцветают в жизнерадостном свободомыслии Просвещения.
«Похвала Глупости» Эразма, «Утопия» Т. Мора и роман Рабле – три вершины мысли европейского гуманизма Возрождения периода его расцвета.
Современный обскурантизм вызывает тени прошлого из могил. Модные в наше время «семантическое направление» и неотомизм пытаются возродить спор средневекового номинализма и реализма, выродившийся уже в XVI веке в борьбу «скотистов» с «темнотами», над которыми насмехается Эразм. Можно подумать, что реакция намерена установить некий «закон сохранения глупости». На фоне модернизированной схоластики и воинствующего мракобесия всяческого толка сатира Эразма сохраняет силу старого, но меткого оружия.
Л. Е. Пинский
НАВОЗНИК ГОНИТСЯ ЗА ОРЛОМ
…Об этом повествует одна забавная греческая басня, которую Лукиан приписывает Эзопу: в «Икаромениппе» он упоминает, что у Эзопа была притча про то, как некогда навозные жуки и верблюды поднимались на небо. Что же до содержания рассказа об орле и жуке, то вот оно примерно какое. У орлиного рода со всем племенем навозников вражда с незапамятных времен, и война не на живот, а на смерть – ну, прямо-таки aaTiovSo; ttoXsjxо; как говорят греки. До такой степени ненавидят, они друг друга, что сам Юпитер, *****[295]295
чья сила необорима (греч.).
[Закрыть] и чье мановение приводит в трепет весь Олимп, не смог их примирить и утишить раздор,– если только можно дать веру притчам. Да, согласия меж ними не больше, чем в наши дни между придворными богами и презренною, темной черныо. Но найдется, наверное, человек, несведущий и *****[296]296
ненаслышанный (греч.).
[Закрыть] в Эзоповых баснях, который изумится: что за дела у навозника с орлом? Какое родство, какая близость или соседство могли возникнуть между столь несхожими существами (ведь именно подобного рода узы чаще всего служат началом и истоком вражды, особенно среди государей)? Что за причина такой жестокой ненависти? Откуда, наконец, у навозного жука столько отваги, чтобы не побояться войны с орлиным народом? А с другой стороны, чем это был так оскорблен и раздосадован возвышенный дух орла, чтобы не пренебречь врагом, столь ничтожным, недостойным даже ненависти? Долгая история, долгая ненависть, долгие козни; и вообще предмет слишком велик, а потому человеческому красноречию недоступен. Но если бы Музы, которые некогда не сочли за труд нашептать Гомеру «*****»[297]297
«Войну лягушек и мышей» (греч.).
[Закрыть] удостоили помощью и меня, покинувши ненадолго Геликон, я попытался бы в меру своих сил изобразить самую суть дела. Ведь не может быть на свете таких трудностей, чтобы люди не дерзали их одолеть, если путь указывают Музы! Однако прежде чем приступить к рассказу в собственном смысле слова, я, по возможности коротко, очерчу нравы, внешность и природные задатки обоих воителей,– тогда и самый рассказ будет понятнее.
Итак, во-первых, вот что бросается в глаза и вызывает изумление: древние римляне, люди, вообще-то говоря, мудрые, заявляя преимущественно против остальных народов притязания на символ этой птицы, считая, что он роднит их с богами, одержав под его водительством столько побед и справив столько триумфов, платят своему благодетелю черной неблагодарностью, наносят ему нестерпимое оскорбление. Действительно, пернатое самое мужественное и силы необоримой они лишают мужского достоинства и чуть ли не в Тиресия какого-то обращают, называя его «аквила» – именем женского рода! Сами они после этого не мужчины! Зато по-гречески орел бесспорно мужского рода, и это, по-моему, намного более подобает тому, кого вышний Юпитер, отец и государь богов и людей, пожаловал царскою властью над перелетными птицами, сведав его верность на русом Ганимеде; тому, кто один, когда все боги разбегаются, подносит гневному Юпитеру трезубые стрелы, нисколько не испугавшись пословицы: «*****»[298]298
«Подальше от Зевса и от [его] перуна» (греч.).
[Закрыть] . И не без веских оснований, на мой взгляд, среди столь многих птичьих племен и бесчисленных колен именно орла единодушно решили объявить самодержцем не только *****[299]299
Фратрии, колена (греч.).
[Закрыть] птиц, но сенат и народ стихотворцев. Что до птичьего постановления, то большинство склонялось к мысли вручить верховное владычество павлину: его краса, блеск, величие, гордость, поистине царские, казалось, прямо-таки требовали царства. Так бы и проголосовали, когда бы не иные птицы, умудренные долгим житейским опытом, вроде воронов и ворон: если во главе птичьего государства поставить павлина, рассудили они, выйдет то же, что уже много лет можно наблюдать на примере некоторых самодержцев, а именно, что царем он будет только по званию, на словах, власть же царскую все равно возьмет орел, хотя бы народ его и не выбирал.
Кроме того, я полагаю, поэты, мужи на диво мудрые, разглядели, что никакой другой образ не способен вернее передать характер и житейские правила царей. (Я говорю о большинстве, не обо всех: в любом роде вещей всегда было и будет доброе меньшинство, и новый век рождает новых людей.) Итак, если дозволите, сравним в немногих словах орлов с государями.
Во-первых, ежели само наименование в какой-то мере знаменательно (в чем я нимало не сомневаюсь), греки весьма удачно называют орла ***** – от *****) то есть примерно: «увлечен порывом» или «несусь напролом». Некоторые птицы от природы покойны и ласковы, другие дики, но искусством наставника приручаются и привыкают к людям. Лишь орел ни к какому учению не способен, и любые старания приручить его тщетны. Так неудержим природный порыв, который его уносит, что на всякое свое хотение требует немедленного дозволения. Не угодно ли поглядеть на птенца с истинно орлиною душою? Его, «стража при молнии», картинно описал Гораций:
«Когда-то младость и племенной задор
Его толкнули вон из гнезда скорей,
А ветр весенний, дождь прогнавши,
Робкого первым учил полетам.
Потом пыл жизни бросил врагом его
К стадам овечьим; скоро к жестокому
В борьбе дракону он помчался
В жажде добычи и ярой битвы».
Намек этот особенно хорошо понимают те земли, которые на себе испытали, скольких несчастий стоит подобного рода пеукротимый пыл юных государей. Философам свойственно сдерживать свои страсти и во всем следовать голосу рассудка, но, как гласит сатира,
нет ничего своевольней, чем ухо тирана.
У него всегда наготове одно:
«Так я хочу и велю! Рассудок уступит хотенью!»
Далее, хотя писатели различают шесть разновидностей орлов, у всех шестерых одинаково клюв круто загнут и когти такие же кривые, так что даже по наружности можно догадаться, какая перед тобою птица – плотоядная, враждебная покою и миру, рожденная для битв, грабежей и разбоев. И, точно мало быть плотоядным, есть орлы, которые зовутся «костедробительными»!…
Но тут, любезный читатель, ты решительно останавливаешь меня и безмолвно вопрошаешь: какое отношение имеет этот образ к государю, чья подлинная слава – в милосердии, в том, что он способен причинить зло чуть ли не каждому, но не хочет вредить никому, что он один чужд язвительной беспощадности и всего себя издерживает ради выгод своего народа; недаром же мудрый Филоксен на вопрос, что в мире самое полезное, отвечал: «Царь». Он имел в виду, что свойство истинного государя – никого не обижать и всем помогать (насколько достанет еил), быть скорее «всеблагим», нежели «всемогущим». Впрочем, и нельзя стать всемогущим иначе, как будучи всеблагим, то есть оказывая благодеяния всем и каждому.
Скажу напрямик: я хвалю образец, весьма искусно нарисованный философами, и, пожалуй, готов признать, что подобные государи будут править в Платоновом государстве. Но в летописях едва ли сыщется хоть один властитель, которого ты решился бы сопоставить с этим изображением. А если кто припомнит и оценит государей из новейших времен, он не встретит, боюсь, никого, кроме тех, что заслуживают самой позорной брани, какую у Гомера Ахилл бросает Агамемнону:
«*****…»[300]300
«Царь – пожиратель народа…» (греч.).
[Закрыть]
А Гесиод называет царей *****[301]301
дароядцами (греч.).
[Закрыть] , хотя правильнее было бы назвать их *****[302]302
всеядными (греч.).
[Закрыть]. И хотя Аристотель отличает царя от тирана по примете самоочевиднейшей: один заботится лишь о собственной выгоде, другой о благе народа,– все же иным людям царское звание, которое древним римским властителям (и каким властителям!) казалось непомерным и рождающим зависть, а потому безусловно нежелательным, иным людям, повторяю я, и царское звание не в радость, если не прицепить к нему длинный хвост блистательного лганья, чтобы именовались «Божественными» те, кому и человеческое-то имя не впору, «Непобедимыми» те, кто ни разу не одержал победы в бою, «Высокими» те, кто ниже всех, «Тишайшими» те, кто сотрясает землю военными бурями и безумными мятежами, «Светлейшими» те, кто погружен во мрак глубочайшего невежества, «Христианнейшими» те, у кого нет ничего общего со Христом. Ежели у этих божественных, прославленных, победоносных остается досуг от игры в кости, от пьянства, от охоты, от блуда, то весь целиком его посвящают царственным думам. При этом забота лишь одна: все законы и постановления, войны и мирные договоры, суды и советы, священное и мирское направлено к тому, чтобы все имущество всех граждан угодило в государеву казну, иными словами – в бездонную бочку. Так на орлиный лад они упитывают себя и своих птенцов, ощипывая невинных птичек.
Пусть-ка теперь толковый физиогномист вглядится повнимательнее в облик орла – в алчные и бесстыжие глаза, грозный зев, злобный взор, хмурый лоб, в горбатый нос наконец, который Киру, царю персидскому, представлялся драгоценным украшением государя,– разве не узнает он некоего царственного подобия, полного величия и великолепия? А самая окраска, скорбная, ужасная, зловещая, отливающая нечистою темнотою траура?! Ведь грязноватый, темный оттенок мы так и зовем «орлиным». А голос – неприятный, страшный, вселяющий ужас и в то же время гнусавый клекот! Нет такого существа, которое не испугалось бы, заслышав орлиный клекот… Символ этот узнает любой, кто испытал опасность сам или хотя бы видел, как опасны угрозы государя, даже произнесенные шутливым топом, и как все трепещет, когда зазвучит такой примерно орлиный глас:
«*****
*****
*****»[303]303
«Если ж откажут, предстану я сам и из кущи исторгну Или твою, иль Аяксову мзду, или мзду Одиссея; Сам я исторгну, и горе тому, пред кого я предстану!» (греч.)
[Закрыть].
Или же такой, не менее *****[304]304
царственный (греч.).
[Закрыть]
«*****
*****»[305]305
«Или тебе ие помогут ни все божества на Олимпе, Если, восстав, наложу на себя необорные руки.!» (греч.)
[Закрыть].
Заслышав этот клекот, повторяю я, дрожит чернь, съеживается сенат, рабствует знать, повинуются судьи, молчат богословы, поддакивают правоведы, отступают законы, отступают обычаи и порядки; перед ним все бессильно – и вышние веления, и благочестие, и справедливость, и человечность. И хотя столько есть птиц красноречивых, столько певчих, хотя так разнообразны голоса и напевы, способные растрогать даже ка
мень, надо всеми, однако же, берет верх этот противный п вовсе немузыкальный, скрипучий крик орла.
Существует среди орлов одна разновидность, которую очень хвалил Аристотель, потому, вероятно, что подобные черты желал видеть в своем птенце – в Александре. Эта порода почти так же, как прочие, хищна и прожорлива, но ле так нагла и криклива и, во всяком случае, более человечна, потому что воспитывает свое потомство, а прочие поступают так же, как нечестивые родители, которые подкидывают своих детей, тогда как даже тигры не отказываются от своих тигрят! По этой причине их называют *****, то есть как бы настоящей, чистокровною породой. Видал их и Гомер,– несмотря на слепоту,– потому что именует ***** и ***** – «черноспинными» и «ловчими»; оба эпитета как нельзя лучше подходят к таким государям, как Нерон, Калигула и слишком многие иные. Но насколько же некоторые среди них, клянусь Юпитером, еще более ***** и, я бы сказал, орлинее самих орлов! Это те, кто скипетром и изображениями предков приближены к богам, но не гнушаются лестью людишкам ничтожного происхождения и, я бы даже сказал, исполняют роль прихлебателей – была бы только надежда на щедрую поживу.
Писатели сообщают, что орлы долговечны. Но, достигнув глубокой старости, они жаждут только крови, которою и поддерживают свое ненавистное всем существование: верхняя половина клюва вырастает настолько, что клевать мясо орел более не может. Отсюда известная каждому пословица «*****»[306]306
«Орлиная старость» – (греч.).
[Закрыть]– насчет стариков, чрезмерно преданных хмельному питию. Вообще-то весь род птиц с кривыми когтями, если верить Аристотелю, либо не пьет вовсе, либо до крайности редко, а если когда и пьет, то одну лишь воду, и только орел жаждет крови. Выходит, что, загибая ему клюв, природа – далеко не всегда мачеха! – позаботилась об остальных существах и положила какой-то предел ненасытной прожорливости орла. Попечение природы обнаруживает себя еще и в том, что она не позволяет орлу снести более трех яиц, ни вывести более двух птенцов. А если верить стиху Мусея, на которого ссылается Аристотель,-
«Рождает трех, выводит двух, но жив один».
В течение всего времени, что орлы сидят на яйцах, а длится это около тридцати дней, промыслом природы им отказано в пище, и когти на этот срок повертываются в противоположную
сторону; а иначе все звери лишились бы своих детенышей. Итак, пока орел высиживает птенцов, от голода у него седеют перья. Отсюда пенависть к собственному потомству. (Впрочем, что до римских орлов, это скорее в области желаемого, нежели наблюдаемого: они вообще не ведают ни предела, ни меры, расхищая добро простолюдинов.) Страсть к стяжанию с годами все возрастает, и всего усерднее свирепствует орел, когда в гнезде запищат птенцы. В эту пору народ терзают все новые и новые повинности. Наконец, орлу природа противопоставила несметное множество врагов, о которых мы вскоре будем говорить. Заботливость природы не удивит того, кто поверит Плинию, который приводит доказательство ненасытной алчности орла,– доказательство совершенно сверхъестественное, которому я, пожалуй, не дал бы веры даже в том случае, если бы прочел у Демокрита, а между тем его повторяет Плутарх,– автор в высшей степени надежный,– как общепризнанное и бесспорное. А именно: даже перья орла пожирают перья других птиц, если их перемешать, так что те постепенно истаивают и исчезают. Такова сила врожденной хищности. А я полагаю, что то же самое произойдет, если смешать кости тиранов с костями людей из народа, и что кровь их способна смешаться не более, чем кровь эгифа и флора.
Теперь взгляни, насколько все это отвечает приметам иных государей. (Пожалуйста, читатель, не забывай, что, как уже было сказано однажды, не о добрых и праведных идет у нас речь.) Одна пара орлов нуждается для своих опустошительных набегов в большом просторе и не терпит другого разбойника в близком соседстве, а потому определяет рубежи и границы. Но разве есть такое владение, которое не было бы тесным для наших орлов? А какое стремление раздвигать свое царство до бесконечности! Какие распри с соседними орлами либо коршунами о пределах царства, то есть грабежа! Но вот в чем, пожалуй, заметно различие: эта птица, такая хищная и жадная, рядом с гнездом, однако же, не разбойничает – для того, разумеется, чтобы возмездие за обиды не пало однажды на ее голову,– но большею частью тащит добычу издалека, а тираны и закадычных приятелей не щадят, и к родным и домочадцам протягивают алчные когти. Более того: опасность тем вернее, чем ближе ты к тирану, словно бы к Юпитеру и его перуну.
Врожденную и унаследованную от родителей ненасытность в грабежах значительно умножает воспитание. Орел, как слышно, едва оперившихся птенцов выбрасывает из гнезда, чтобы они сразу же, от молодых когтей (почти по пословице!) приучались
жить грабежом и полагаться на собственные когти. Но у некоторых государей, боже бессмертный! какое множество дополнительных побуждений к хищности, помимо растленного воспитания! Какая свора льстецов, сколько продажных чиновников, сколько бесчестных советников, сколько безмозглых друзей, сколько ничтожных собутыльников, которые и бескорыстно радуются общественным тяготам. К этому прибавь чванство, наслаждения, изысканную роскошь, которые никакой добычею не насытишь. Прибавь глупость и невежество, упрямее которых, если они соединены с удачливостью, нет ничего на свете. Эта зараза способна испортить и самые счастливые натуры, так что же, по-твоему, будет, если она вползает в жадный и гнусный ум? Это все равно что плеснуть в печку масла!
Но недостаточно *****[307]307
по-царски (греч.).
[Закрыть] был бы снаряжен орел, если бы не было у него для разбоя иных орудий, кроме кривых когтей и кривого клюва, если бы не присоединялись к ним очи, зорче Линцеевых, способные глядеть, не щурясь, на полдневное солнце; говорят, что такое испытание устраивает он своему потомству, проверяя, законное ли оно. Поэтому орлы высмат^ ривают и выбирают добычу из самой дальней дали. Впрочем, у царя птиц только два глаза, один клюв, когтей всего десяток, утроба тоже одна. А у наших орлов, увы! сколько ушей-слуха– чей, сколько глаз-соглядатаев, сколько когтей-чиновников, сколько клювов-начальников, сколько утроб-адвокатов да судей, утроб положительно бездонных и ненасытных! Им всего мало, от них ничто не укроется и не спасется, даже содержимое самых заветных сундуков и шкатулок. Однако вред был бы, пожалуй, намного меньше, если бы к оружию и телесной мощи не присоединялся коварный ум, иными словами – если бы железо, и само по себе губительное, не увлажнялось ядом. Ступая по земле, орел втягивает когти, чтобы их не притупить и во всей остроте сберечь для разбоя; эта черта у него общая со львом. И нападает он не без разбора, но лишь тогда, когда уверен, что враг слабее. И на добычу падает не камнем, не вдруг, как прочие иные, но опускается потихоньку, чтобы не раздавить с маху свою жертву. И даже на зайца, которого ловит всего чаще, не налетит, пока тот не выйдет на ровное место. И лютует не во всякое время, чтобы самому не быть застигнутым в минуту усталости, но охотится от завтрака до полудня, в остальные же часы – до тех пор, пока рынки не заполнятся толпою,– сидит праздно. Далее: добычу он не пожирает на месте убийства, чтобы
какое-нибудь внезапное нападение не захватило его врасплох, но, отдохнувши и проверив свои силы, уносит ее в гнездо, словно в замок.
Каким образом берет он оленя, уступая ему в размерах, будет сказано немного дальше. Ибо если уж обращаться к свидетельствам его хитроумия, то первым делом надо припомнить, как, поднявши ввысь черепаху, он высматривает годное местечко и бросает ее на камень, чтобы разбить панцирь и добраться до мяса. (Правда, в случае с Эсхилом орлиной верности глаза он не обнаружил – когда лысую голову поэта принял за белый камень и, выпустив из когтей черепаху, зашиб беднягу насмерть; уже это одно дает всем поэтам законное основание ненавидеть орла.) Теперь он так расправляется с черепахою постоянно и точно по праву, но в первый раз заманил ее хитростью, пообещав, будто с его помощью она выучится летать. Внушив ей такую надежду, он взмыл в небо и метнул черепаху на скалу, чтобы – по обычаю всех тиранов – чужое горе обратить в свое удовольствие. Но если поразмыслить, как разнообразны приемы, как Многочисленны хитрости, обманы и уловки, при помощи которых государи обирают простой народ,– все эти прибыльные законы, пени, лживые звания, притворные войны, доносы, узы свойства – как бы не пришлось отказать орлу в царском имени.
Остается вкратце перечислить главных врагов этого высокородного разбойника. Ведь истинную правду гласит пословица: «Орел не ловит мух», и еще: «Орел не замечает древоточцев». Если добыча кажется недостойной царских когтей, орлы просто не замечают ее, разве что кто из них в родстве с Веспасианом, который считал благоуханной любую прибыль. Да, бывают и орлы-выродки, которые живут рыбною ловлей, или даже такие, которым не стыдно подбирать падаль. Но все, что духом повыше,– словно тираны, уступающие кое-что пиратам и грабителям, от которых (как объявил Александру Македонскому знаменитый пират) отличаются лишь тем, что владеют большим флотом, верховодят большими шайками и своим грабительством терзают большую часть земного круга,– мелкую добычу оставляют коршунам да ястребам, а сами воюют с четвероногими, не без опасности, разумеется, но и не без надежды на победу, как и подобает отважному полководцу. Главным образом, как я уже сказал, орел охотится на зайца, откуда и прозвище одной из орлиных пород – «зайчатники»; так же точно мы называем полководцев: одного «Африканским», другого «Ну– мантинским». Хоть враг этот и робок и невоинствен, зато съедобен, так что если славы от такой победы и немного, зато пользы немало. Но бывает иногда, что в разгар охоты на зайца охотник вдруг обращается в добычу, сраженный пернатою стрелкой и оправдывая пословицу: «*****»[308]308
«От собственных перьев погибаю» (греч.).
[Закрыть]
Отваживается он и на схватку с оленем,– совершенно, впрочем, безнадежную, если бы не лисье лукавство: недостаток силы он восполняет хитростью. Перед боем он как следует вываляется в пыли, а затем, усевшись врагу на рога, хлещет оленя крыльями по морде и засыпает ему глаза пылью, покуда тот не ослепнет и не ринется вниз головой на утесы. Еще жарче и намного опаснее битва с драконом, которая, к тому же, происходит в воздухе. Дракон коварно выслеживает орлиные яйца. Орел, в свою очередь, где ни завидит врага, разит мгновенно.
Непримиримая его вражда с лисицею не удивит никого из тех, кому известно, какой царский прием оказала ему некогда лисица. Сперва они подружились – водой не разлить, а после, сидя на яйцах, орел оголодал и утащил детенышей соседки к себе в гнездо. Лисица вернулась домой, поглядела на следы жалкой и мучительной кончины своих лисенят и – единственное, что было в ее власти! – призвала в свидетели богов и среди них первым Юпитера-*****[309]309
Покровителя дружбы (греч.).
[Закрыть], отмстителя за поруганную дружбу. И, по-видимому, кто-то из богов внял ее молитвам. Несколькими днями спустя случилось так, что орел похитил мясо с жертвенника и вместе с мясом, сам того не ведая, принес в гнездо уголек. Когда же орел снова отлучился, ветер понемногу раздул пламя, и гнездо загорелось. Птенцы в ужасе выпрыгнули, хотя еще и не оперившиеся. Лисица их подобрала, отнесла в нору и сожрала. С той поры нет ни малейшего согласия между орлами и лисами, к немалому, надобно заметить, ущербу для лисьего племени. А впрочем – и поделом, пожалуй: ведь зайцы в свое время просили у них *****[310]310
военного союза (греч.).
[Закрыть] против орла, а они отказали, как сообщают «Летописи четвероногих», из коих Гомер позаимствовал *****.
И с коршуном у орла жестокий раздор – как с товарищем по ремеслу и соперником по прожорству; однако ж орел и более жесток, и более благороден, потому что питается только тем, что сам и убьет, и никогда по лености не сядет на падаль. Поползня он ненавидит по заслугам: чего только поползень не выделывает, стараясь разбить орлиные яйца. Сражается он и с цаплями: эта птица, надеясь на силу своих когтей, отваживается
нападать на орла и бьется до того горячо, что погибает в стычке. Не удивительно и то, что он не ладите лебедем, птицею поэтов; удивительно другое – что существо столь воинственное нередко терпит поражение от лебедя. Поэтическое племя уже привыкло к монаршей немилости: у самодержцев совесть нечиста, а поэты своевольны и говорливы и нередко предпочитают отправиться вместе с Филоксеном в каменоломни, нежели промолчать. Если их что огорчило, свою горечь они изобразят чернилами на бумаге – и тайны царей разглашены во всеуслышание, даже перед потомство^.
Нет у него мира и с журавлями, потому, на мой взгляд, что журавли – неизменные приверженцы демократии, которая самодержцам ненавистна как смерть. Но журавли сильнее орлов: когда, покидая Киликию, они готовятся пролететь над горами Тавра., где полным-полно орлов, то берут в клюв большие камни и, таким образом лишив себя голоса, ночью, в молчании благополучно минуют опасное место.
А вот вражда с птицею по имени трохил совсем особая. Она возникла, как сообщает прославленный любитель прогулок, единственно по той причине, что трохила тоже называют «царем» и *****[311]311
советником (греч.).
[Закрыть], главным образом – у римлян. Орел преследует его непримиримою ненавистью, словно бы он и в самом деле заявлял притязания на царство. Впрочем, трохил не из тех врагов, которых следовало бы опасаться орлу: он бессилен и робок, но не лишен ума и хитрости и потому прячется в кустарнике и в пещерах, так что другим птицам, хотя бы и более сильным, поймать его непросто. Когда-то давным-давно он состязался с орлом в быстроте и выиграл не столько благодаря силе, сколько лукавству.
Наконец, истребительную войну ведет он с кибиндом, такую ожесточенную, что часто, сцепившись, попадают в плен оба. Кибинд – это ночной ястреб. И тираны ни к кому не питают большей ненависти, как к тем, кто решительно расходится во мнениях с толпою и чересчур зорко видит в потемках. Но было бы отчаянною глупостью с моей стороны продолжать список всех его врагов, потому что он воюет со всеми подряд! И в иных сословиях живых существ одни воюют с другими, но у каждого есть и друзья. Много врагов у лисицы., но ворон ей приятель, и с его помощью она обороняется от птицы эсалона, разрывающей в клочья ее лисенят. Ладит лисица и со змеями, хотя кроликов любит совершенно так же, как они. Крокодил