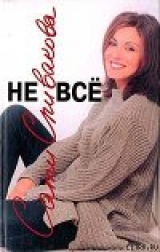
Текст книги "Не все"
Автор книги: Сати Спивакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
«Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ ГОРОД…»
Анатолий Александрович Собчак – тот человек, которого мне очень не хватает. После моего отца такого чувства утраты, пожалуй, еще не было. Я поняла, насколько я его любила, насколько глубоко мы были связаны, только когда его не стало. Мы познакомились давно, он не был мэром, только депутатом Верховного Совета. Чуть позже, в 1992 году, я познакомилась и сразу же подружилась с Людмилой. Я тогда училась в Сорбонне, а она как-то прилетела в Париж. В то время мы со Спиваковым купили маленькую квартиру в Париже, в кредит, ее нужно было срочно ремонтировать. Оставив детей на свою святую мать, я отправилась присматривать за ремонтом квартиры и совершенствовать свой французский, который знала с детства. Курсы, созданные специально для иностранцев, уже имеющих некоторое знание языка, назывались «Язык и цивилизация Франции». Я, тридцатилетняя, окунулась в студенческую среду. Пребывать в этой атмосфере было очень интересно. Жизнь в ремонтируемой квартире тоже напоминала студенческую – с раскладушкой и табуреткой вместо мебели. В Сорбонну может прийти любой человек в любом возрасте. Хочешь просто слушай лекции, хочешь – защищай диплом. За эти несколько месяцев я по-настоящему узнала Париж. Я без конца моталась в Испанию к детям, виделась с Володей между его поездками, но в основном жила в Париже одна. Исходила его пешком весь. Тогда я поняла, что это мой город – единственный, где я не ощущаю ностальгии по Москве. В Париже каждый может найти себе любимое место, квартал, угол и будет чувствовать себя так, как будто там родился.
В 1992 году открывалась выставка Бернара Бюффе, посвященная Санкт-Петербургу, и на вернисаж как раз приехала Людмила. Мой друг, советник Бернара Бюффе, попросил сопровождать его в аэропорт, чтобы встретить жену Собчака. Мы встретились с ней во второй раз и как-то сразу друг к другу «прикипели». Началась дружба семьями. Когда мы приезжали в Петербург на концерты, в семь утра на вокзале стоял мэр города, хватал и нес чемоданы.
Собчак был мужчина великолепный, блестящий, импозантный, обладающий необыкновенным умом, умением красиво говорить… настоящий харизматичный трибун. Понимаю, почему он всех так раздражал. Он резко отличался от серой массы депутатов-политиков. Дело было даже не в высоком росте и голубых глазах, а в бесконечном обаянии. Собчак был не мужиком, а именно мужчиной. Это огромная разница.
Среди депутатов он всегда оставался белой вороной. Анатолий Александрович был гораздо больше, чем просто политик, чем мэр. Ведь по существу его очень любили в городе. Когда он умер, это стало понятно. Не ценили, не понимали при жизни, но любили. Народ – это масса, поддающаяся влиянию. В 1996 году все были уверены в том, что он победит на выборах. И если бы многие его сторонники не поленились приехать в день выборов с дачи, если бы они только представили себе, что может получиться, Яковлев никогда бы не победил. Никто не мог представить, что Собчака обойдет его безликий зам.
С того момента Петербург для меня лично потерял свое лицо. Почему при Собчаке туда так вдруг хлынули иностранцы? Питер с его магией Эрмитажа, Павловска, каналов, дворцов всегда привлекал Европу. Если Горбачев вернул человеческое лицо Советскому Союзу, Собчак вернул городу, мэром которого являлся, европейское лицо и его настоящее имя – Санкт-Петербург. И сам стал его символом. Его упрекали за то, что он носит фрак, ходит на балы, знает иностранные языки, за то, что он обаятелен и красив, что его обожают Маргарет Тэтчер и Жак Ширак. Когда Собчака не стало, я видела, как реагировали на это люди на Западе.
Я знала, как он жил. Семья занимала маленькую трехкомнатную квартиру на Мойке. Вся эта раздутая история, когда его унизили и приписали злоупотребления, омерзительна. Его квартира: гостиная, выходящая на Мойку, заставленная мебелью, спальня, в которой стояли кровать и письменный стол, а все пространство между ними было завалено книгами (Собчак работал там же, где и спал), маленькая комната-пенал дочки Ксюши. Еще была небольшая кухня, заставленная гжелью, – всё! Это была квартира мэра Петербурга. Когда ему удалось обменять по всем правилам (не получить, не построить) квартиру за стенкой, в результате чего образовалась квартира не в 60 кв. м, а в 120, из этого раздули Бог весть что! А ведь даже после «расширения» любой мэр любого цивилизованного города, попади он в эту квартиру, был бы удивлен скромными ее размерами. И когда Собчака начали унижать и травить, для меня самым ценным было то, что он ни на секунду не потерял достоинства. Он ничего не оспаривал, ни перед кем не оправдывался, не пытался себя обелить. И никуда уезжать при новом мэре не собирался, продолжая ходить по этому городу с высоко поднятой головой. Правда, люди уже не расступались, как раньше.
Незадолго до выборов 1996 года Собчак написал книгу «Жила-была коммунистическая партия». Ее презентация была назначена в Париже через два дня после выборов. Выборы он проиграл. Когда они с Людмилой прибыли в Париж, мы первым делом побежали к ним в гостиницу, пытаясь его успокоить.
– Я не считаю это катастрофой. Я же боролся за демократию – вот и результат.
Презентация книги происходила в Русском центре на рю де Буасьер. Я приехала к Ростроповичам, не знавшим о презентации, и мы пришли вместе. Был Миша Шемякин. Тогда в Париже еще не было ощущения крушения.
Собчак стойко переносил поражение. Что же творилось в душе – известно только близким друзьям. Особенно обидно, что после поражения многие двери для него закрылись, многие телефоны перестали отвечать, люди, стоявшие в очереди, чтобы подойти к нему, когда он был у власти, вдруг оказались очень заняты, чтобы просто посмотреть в его сторону. Это было гадко и стыдно.
Помню, спустя несколько месяцев после того, как Собчак проиграл выборы, мы ехали на 70-летие Галины Павловны в тот дом, который был куплен Ростроповичем и Вишневской в Питере в эпоху Собчака. Из Москвы прилетело высокое начальство. Естественно, на праздник был приглашен и новый губернатор. Мы остановились в Питере у Собчаков, поэтому ехали на торжество вчетвером. За лето острота выборных страстей притупилась. Но я понимала, как ему трудно «держать спину». Торжественный, в смокинге, когда все расселись, он вскочил и произнес блистательный первый тост – красивый, длинный, качественный, с цитатами из Мандельштама и Маяковского. Никто не давал никакого знака. Но наперекор всему ему нужно было встать первым. В этом была его наивность и вызов. Не мэр, но хозяин в городе, Собчак запомнился очень ярко в тот момент. Только когда началась открытая страшная травля, он принял решение уехать. Не надо забывать, что если бы в момент путча 1991 года Питер скатился на сторону ГКЧП, как бы все могло обернуться для всей страны. Собчак повел себя так мудро, что в Петербурге не пролилось ни кровинки, никто не пострадал. Питер стоял насмерть, поддерживая Ельцина и демократию. Когда в Москву в октябре 1993 года ввели танки, я была в Петербурге. Мы сидели с Людмилой на кухне, у нее всегда чисто, уютно и очень вкусно.
– Видишь, мои именины – а муж даже не вспомнил, – пожаловалась она.
В час ночи вошел Толя – бледный как полотно. На завтра был назначен митинг, его вынуждали вызвать ОМОН. Люда умоляла его не поддаваться на провокации:
– Пусть коммунисты кричат «Долой Собчака!» – ты не должен отвечать. Отмени свое решение, не вызывай ОМОН. Завтра мы все пойдем на концерт.
И он все отменил. На другой день на концерте он сказал:
– Эти две женщины остановили меня от одного из самых необдуманных шагов, который я мог бы совершить.
Людмила его безумно любила.
Как-то раз в Питер приезжали «Виртуозы», на концерт которых Толя прибежал после какого-то заседания. «Как, ты без букета?» – изумилась Людмила. Послали за букетом.
– Ланичка, тебе нравится? – он всегда называл ее Ланей.
– Жуткий букет, я не понесу такой.
Тогда Анатолий пошел вручать букет сам. Тем временем привезли второй букет, но и его Ланичка забраковала. Мэр сам вынес и второй букет. Тогда уже на «бисах» Володя посадил Собчака прямо в оркестр и сказал в зал:
– Я хочу сыграть венский вальс, потому что с таким мэром, как Собчак, Петербург «обречен» по культурному уровню превзойти Вену.
Анатолий сидел в этот момент в оркестре и светился от радости.
Он не раз приезжал к нам на фестиваль в Кольмар, просто как гость. Относился к Володе как к другу. Володя очень это ценил и любил его. На фестивале он уже освобождался от груза всех своих забот, ходил в шикарных шелковых рубашках, в светлых бежевых штанах, у них с Людмилой просто был медовый месяц. Когда началась травля, она со свойственными ей энергией и здравым смыслом (многие обвиняют ее априори, как жену известного человека, осмелившуюся самой быть личностью) привезла его в Париж. Тогда фактически она спасла его. И оказалось, что в Париже в качестве беглеца он никому не нужен, кроме близкого друга Володи Рейна, еще нескольких человек и нас.
31 декабря 1997 года Людмила позвонила и сказала:
– Мы с Толей в Париже, хотим поздравить вас.
– Где вы встречаете Новый год? – поинтересовалась я.
– Мы посидим вдвоем.
– Никаких посидим. Немедленно к нам.
Они жили буквально напротив в квартире друга. Неженатый друг иногда заезжал туда со своей невестой, и тогда Анатолий Александрович надевал кепку, шел гулять по Парижу и заходил ко мне. Случалось это еженедельно. Три года, проведенные им в Париже в вынужденной ссылке, мы общались довольно часто. Итак, первый его Новый год в изгнании они оказались у нас. Я даже не ожидала, что для него это будет таким счастьем, не отдавала себе отчета, насколько они в Париже одиноки, насколько им вдруг некуда идти. Последние три Новых года в жизни Собчака мы встретили вместе.
Когда мы переезжали с одной квартиры на другую, он пытался мне помочь, потаскать вещи. Я говорила, что для этого есть грузчики. Тогда он очень забавно сторожил вещи, приглядывал за грузчиками, за детьми, за коробками. У него была, что называется, «зеленая рука» – очень любил растения, занимался садом на даче под Питером. У меня, как ни странно, ничего не растет дома, хоть я очень люблю цветы в горшках. Наверное, я не умею за ними ухаживать. Увидев длинный балкон в новой квартире, Толя точно решил, что нужно делать – посадить карликовые елочки. И каждый раз, приходя в гости, он появлялся на пороге с очередной туей в горшке.
Когда ему бывало одиноко, он звонил мне:
– Добрый вечер!
До сих пор я как будто слышу его голос с хрипотцой в телефонной трубке. Я приглашала его посмотреть русские программы по телевизору, поесть гречневой каши. Очень любил моих девочек, особенно Таню.
– Татьяна у тебя будет действительно смерть мужикам.
Катьку считал красивой, но «слишком умной и несколько надменной». Просто она держалась с ним серьезнее.
Он садился на кухне, долго рассуждал: его мучил вопрос, в чем же он неправ, в чем ошибся. Все разговоры сводились к России. Я называла его «отцом русской демократии».
– Какая вы, сударыня, недобрая, – смотрел он на меня.
Иногда мы ходили с ним в театр. Раньше всегда было ощущение, что он куда-то несется – стремительный, нетерпеливый, в полете. А после, в его опальные годы в Париже, я понимала, что времени у него навалом. Он старался загрузить себя делами, гулял пешком километры. Мне казалось, что ему самому обидно от того, что время проходит попусту. Ощущение невостребованности было мучительно.
Помню, как летом 1999-го он сообщил, что уезжает в Россию:
– Мне можно возвращаться.
И был необыкновенно счастлив, был уверен, что его ждет новый взлет. Свеженький экземпляр последней книжки «Двенадцать ножей в спину» он подарил мне в Москве. А потом был Новый год, с 1999 на 2000, когда Ельцин объявил о своей отставке. Анатолий Александрович позвонил:
– Мы с Ланичкой прилетели в Париж, потому что наша дочка с друзьями решила встречать Новый год здесь и сагитировала нас.
У Людмилы традиция: заранее готовит записочку, карандаш, спички, бокал шампанского. Надо в полночь написать желание, сжечь, кинуть в шампанское и выпить залпом. Они пришли оба сияющие, блестящие в прямом смысле. На нем были серый с блеском пиджак и серебряная бабочка, на Людмиле – неимоверно блестящая блузка. Сообщили, что идет год железного Дракона, надо быть во всем серебряно-металлическом. Все были счастливы, Собчак не отрываясь сидел у телевизора. В тот момент ему подарено было второе дыхание в его политической судьбе. Это стало для него – человека, чувствовавшего себя невинно ошельмованным, – главным, хотелось взять реванш. Собчак в тот вечер буквально светился от гордости за Путина: «Володя никогда, ни в чем меня не предал. Я в него верю». Никто не подозревал, что ему оставалось меньше двух месяцев жизни.
Смерть Собчака была страшным шоком, хотя многие быстро оправились. В том числе город. Разве можно забыть всенародное покаяние на похоронах, речи, специально выпущенный в день его смерти номер газеты «Петербуржец» с его портретом. И это море людей на панихиде на кладбище.
Осталось много вещей и воспоминаний, с ним связанных. Даже маленький шрамик на лбу моей Таньки, которая однажды от восторга по поводу его прихода так скакала в кровати, что упала и разбила себе лоб. Иконка, с которой он не расставался в Париже, – мне ее отдала Людмила. И последний подарок на Новый год – очаровательная шкатулочка из тисненой кожи для украшений. И календарь, который он повесил на стенку, так и провисел у меня весь 2000 год. Мы с ним выпили на брудершафт в новогоднюю ночь, но он все равно продолжал церемонно называть меня на «вы». У меня тоже язык не поворачивался сказать ему «ты».
Смерть Собчака – естественная и неестественная, в чем-то я воспринимаю ее как убийство. И мысль эта меня не покидает. Он похоронен рядом с Галиной Старовойтовой. Когда случилась трагедия с ней, Анатолий сходил с ума – они очень дружили. В тот момент у него в Париже брали бесконечные интервью, он оказался очень востребованным. По возвращении в Петербург Толя отказался сразу ехать домой из аэропорта.
– Сначала я поеду к другой даме, – сказал он Людмиле, пояснив: – Мы едем к Галине.
Он стоял над могилой Старовойтовой, глядел в пространство и вдруг произнес:
– Какое чудное место!
Людмила одернула его:
– Толя, что ты говоришь, что здесь может быть чудного – это же кладбище!
Но он, будто не слыша, опять повторил:
– Какое место!
Как будто сам себе его выбрал.
«УЧИСЬ КРАСОТЕ»
Валентина Голод была очень большим моим другом, несмотря на огромную разницу в возрасте. По силе и самобытности характера эту женщину можно сравнить с Лилей Брик или Мурой Будберг, «железной женщиной». В ней удивительно сочетались эксцентричность, аристократизм, тонкость, широта, энергия и авантюризм. Если прибавить к этому собственные ее фантастические рассказы о прожитой жизни, получился бы увлекательнейший роман. Она была одним из самых известных коллекционеров в Ленинграде, своеобразным питерским достоянием. В свое время у городских властей даже родилась идея сделать из ее квартиры музей быта Петербурга XVIII века. Идея не осуществилась, и это, по-моему, к лучшему, ибо главной достопримечательностью квартиры была сама хозяйка, без нее все показалось бы лишь жалкой декорацией.
Хотя о светской жизни в советские годы речи быть не могло, по сути своей Валентина была именно светской женщиной. Происходила она из боярского рода Сомовых, с детства свободно говорила по-французски, по-немецки. Родственники ее жили и живут во Франции. Она так много придумывала о своей юности, что ее образ был окружен мифами. В паспорте стоял год рождения 1905-й, но мне она рассказывала:
– Ты же понимаешь, ребенок, что меня специально папа состарил, чтобы меня не забрали в лицей.
Многие считали, что лет ей гораздо больше. Но по мне даже 1905 года было вполне достаточно. Когда Валентина родилась – никому точно не известно, умерла в 1999 году. Факты ее биографии путаются: в рассказах ее присутствовали и Железноводск, и Баку, и Ленинград, и Париж. После ее смерти в бумагах была найдена фотография малышки с надписью: «Вале – 1 годик. 1899 годик». А на Серафимовском кладбище обнаружили удивительную деталь: рядом с памятником мужа – плита, на которой выбито: «Валентина Голод. Родилась в 1916 году, умерла – …». Плиту Валя заготовила заранее. Валюша вообще обожала мистификации, густо опутывая ими всю свою биографию.
Володя знал ее задолго до нашего знакомства и, приезжая в Питер, часто к ней заходил. В частности, всегда советовался с ней, прежде чем купить какую-нибудь антикварную вещь. Особенно хорошо она разбиралась в бронзе, стекле, меньше – в живописи. Когда мы познакомились с Володей, он пригласил меня на свой концерт в Ленинград, предупредив, что накануне концерта мы пойдем в гости к одной его подруге. «Ты увидишь, какой это дом». Привел меня в дом на углу Некрасова и Восстания, в совершенно разбитый ленинградский двор, где полностью сохранилось ощущение, что бомбежки были вчера. По обваливающейся лестнице поднялись на второй этаж. Дверь открыла женщина. Мне даже не пришло в голову тогда гадать о ее возрасте. Прямая, как струна, высокая, с очень короткой стрижкой (волосы рыжие), на высоких каблуках, в длинном бордовом платье марокканского силуэта. Когда мы вошли в прихожую, она приблизилась ко мне, чтобы рассмотреть. Лукаво взглянула на Володю:
– Боже мой, какой «угод», – она очень смешно картавила. В этой интонации слово «урод» было взято в очень жирные кавычки.
Я совершенно обомлела от убранства гостиной. Павловская мебель красного дерева, коллекция изумительных миниатюр на стене, бесподобная дворцовая люстра рубинового стекла с перьями из жемчужного бисера. Много позже я знала квартиру наизусть и могла сама водить по ней экскурсии. У Вали было две комнаты, коридор, тамбур перед спальней, который она называла «переходик», и кухня. Все сделано ею «от» и «до»: цвет стен, обоев, шторы, подбор ткани. Как она умела создавать нечто из ничего – отдельная история. Она стала накрывать на стол: красное богемское стекло, нарядная скатерть, серебряные приборы. Володя сказал:
– Смотри и учись красоте.
Мне был 21 год.
Хозяйка дала мне разложить вилки, и когда они вдвоем с Володей удалились на кухню, я услышала ее заговорщицкий шепот: «Немедленно женись, говорю тебе». Тут я поняла, что меня привезли на смотрины. Я потом шутила, что Володя привел меня на экспертизу, как раньше, прежде чем купить, приносил скульптуру или вазочку, чтобы Валентина сказала – стоит брать или нет. Так это и происходило: ей приносили вещь, она внимательно ее рассматривала и говорила: «Берем».
Мы сразу подружились. Настолько, что в день нашей свадьбы Володина мама, верная себе, не присутствовала на бракосочетании, но Валентина прилетела из Петербурга в юбке выше колена, на очень высоких каблуках, в идеальных капроновых чулках. На свадьбу она привезла мне шесть бокалов рубинового стекла. К сожалению, все уже давно разбились – она сама учила меня, что вещами надо обязательно пользоваться. Тетка-регистраторша в ЗАГСе решила, что одна мама – моя (мы очень похожи), а Валентина – мать Спивакова. Все к ней кинулись с восторгом и криками: «Какой у вас сын! Спасибо вам за вашего сына!» И она согласилась считать нас своими детьми. Мы так и называли ее – нашей петербургской мамой.
Валентина была трижды замужем, часто говорила мне:
– Ребенок, у меня было три мужа и куча любовников.
Еще она говорила, что долгие годы нанизывала мужчин, как бусы на нитку. Произносила это легко, так что звучало не вульгарно! Я никогда не задумывалась, сколько ей было лет, потому что она казалась моложе многих моих подруг – по образу мышления, по взглядам на жизнь. У нас была одна знакомая, юная женщина замужем за пожилым человеком. Она была так внешне старомодна и придерживалась настолько устаревшего стиля, что Валя, старше ее лет на тридцать, безуспешно призывала:
– Ниночка, душечка, да срежьте вы наконец эти букли к чертовой матери.
Незадолго до ее кончины друг Валентины Сергей Осинцев устроил в ее честь бал в Юсуповском дворце. Мы как раз оказались в Питере, но на бал не попали в тот вечер у Володи был концерт. Валюша же сообщила мне по телефону:
– Доча, представляешь, какая чушь! Чтоб устроить побольше шуму, по городу распространили слух, что мне 100 лет и бал – в честь этой даты. Чушь какая! К тому же там будет показ мехов, и я должна пройтись в шубе. Неудобно отказать, но предлагают демонстрировать шиншиллу, а я всю жизнь ненавижу этот мех!
Валентина учила меня, как накрывать стол, как одеваться. У нее были невероятные украшения – все считали, что это драгоценности от Фаберже, а они были сделаны по ее собственным эскизам. Часто к старому бриллиантовому кольцу она подбирала гарнитуры из фианитов или к старинному натуральному сапфиру сапфиры, искусственно выращенные. Все на ней смотрелось будто из Эрмитажа.
Последний муж Валентины Наум Голод был знаменитым художником Театра Ленинского комсомола. Говорят, у него были золотые руки. Она находила остов от люстры, рисовала ему эскиз, а он подбирал детали – и люстра готова. Сама она чем только не занималась: во время блокады снимала кинохронику, работала художником-оформителем витрин в Гостином дворе.
Часто Валюша хитрила. Она была настолько креативна, что отрыв на какой-то барахолке перламутровую коробочку на ножках без крышки, она вначале обтягивала ее изнутри голубым шелком, затем находила в своих запасах (у нее было множество запасов – накладочек, пуговиц, вышивок) накладочку, расчихвостив перламутровый кошелечек, делала из него крышку, которую мастера в Эрмитаже обрамляли бронзой с тем же рисунком, какой был на ножках, из какой-то запонки делала замок. И в итальянскую книгу о ее коллекции эта шкатулка попала как подлинная вещь XVIII века. А создавался раритет при мне. И был не единственным «воссозданным» шедевром. У нее была пара каменных зверушек от Фаберже. Потом она накупала к ним явного новодела. Чтобы подколоть, кто-нибудь спрашивал ее, старинные ли это вещи.
– Какая разница, – отвечала Валентина, – главное, чтобы было красиво.
Она всегда покупала по принципу «нравится – не нравится». Коллекция миниатюр, развешенная по стенам, у нее была самая крупная, совершенно фантастическая. Она была председателем Общества ленинградских коллекционеров.
Я думала: неужели ей не страшно жить в одиночестве? А она перед сном подходила к камину и гладила, целовала мраморного пупса на каминной полке. В этих предметах заключалась ее душа. Она всегда учила меня определять вещи. Например: как узнать, хорошая бронза или плохая? Погладить ладонью: если мягкая, ласковая – хороша, если колется – гадость!
При Валиной любви к старине она открыла немало молодых художников, ходила по мастерским, откапывала таланты, начинала их пропагандировать. Она первой увлеклась стеклянными яйцами, которые делали петербургские мастера. У меня благодаря ей собралась немалая коллекция. Представители аукциона «Сотбис» как-то приехали в Ленин-град и увидели в ее квартире эти яйца всех цветов (а она еще умела все расставить так, что каждая вещь выглядела уникально, коллекционно). Валя открыла прекрасного резчика камей Петра Зальцмана. Сейчас он живет в Лондоне, и у него покупают изделия королева и фирма «Cartier». Тогда он был никому не известен и Валя, взяв его камею «Летний сад», побежала к Б. Б. Пиотровскому в Эрмитаж и убедила, что надо немедленно купить у художника его уникальную работу. Ее слушались. Она была авторитетным нештатным консультантом самых солидных музеев.
Дружба ее была властной и ревностной. Иногда меня это тяготило. Однажды Валентина не на шутку обиделась на меня, узнав, что я собираюсь родить второго ребенка. Как же так, терять свою жизнь ради детей. Для нее детей не существовало – это был здоровый эгоизм. Сама была счастлива, что у нее нет детей! Хотя меня всегда называла дочкой.
У нее на кухне на ярко-красных стенах были развешены картины современных художников – Овчинникова, Белкина. От одной работы Белкина, «Маскарад», я сходила с ума. Увидев написанный им портрет одной своей приятельницы, я стала специально приезжать из Москвы позировать. Помню, как происходили сеансы: Валя не оставляла нас ни на секунду. Как заказчик, она восседала рядом с мольбертом, первой смотрела на холст. Дыма она не выносила, и художнику каждые десять минут приходилось выбегать покурить на лестничную клетку. Она диктовала все: глаз не такой, нос не этот. Портрет получился именно таким, каким должен был быть, поскольку художника все время отвлекали. Мне вообще не везет с портретами. Очень хороший армянский художник рисовал мой портрет, и в ночь перед тем, как он должен был его закончить (оставалось нарисовать только глаза), мой папа получил первый инфаркт. Я так и не пошла больше в мастерскую, мне было страшно: на мольберте стоял портрет, где было все мое – волосы, овал лица, брови, красное платье, а вместо глаз – провалы.
Валентина относилась ко мне с ревнивым вниманием:
– Что ты наденешь? А что я надену? Накрась мне глаза, научи, как это делается.
Когда долго не выезжала за рубеж, говорила:
– Ребенок, что-то я поизносилась, мне пора в Париж.
Когда кончались духи «Опиум», начиналась трагедия.
От нее исходил поразительный заряд молодой энергии. С ней можно было говорить обо всем. Однажды мы с ней находились вдвоем в нашей парижской квартире, когда один поклонник прислал мне огромный букет, штук пятьдесят, темно-вишневых роз. Я довольно холодно отреагировала – ну прислал и прислал. Но что творилось с Валей! Она ликовала, расценивала это как свою собственную победу. Расставляла цветы по вазам, восхищалась:
– Посмотри, какая красота! Как я люблю, когда ЗА НАМИ ухаживают!
Как-то раз в Ленинград приехал Морис Дрюон с женой. Получилось, что два дня я была их гидом. Обаяла я его рассказом о тех килограммах макулатуры, трудов Брежнева и Ленина, которые я сдала, чтобы прочитать его «Проклятых королей». Валя Голод устраивала у себя прием в его честь и пригласила Собчака, который сказал, что, если будет Сати, он обязательно приедет. К тому моменту мы уже подружились и питали друг к другу нежные чувства. После спектакля в Мариинском театре мы отправились к Валентине, а он появился со своими заместителями после какого-то телеэфира. Все ели блины с икрой, я переводила, и Анатолий Александрович вдруг сказал Валентине:
– Правда, Сати прелесть?
И Валя, обычно мной восхищавшаяся, промолчала. Когда Собчак уехал, я поняла, в чем дело:
– Тебе не кажется, что это хамство, когда за столом сидят три женщины, делать комплименты одной?
В этом была вся Валя.
Валентина умирала несколько раз, и каждый раз воскресала, как птица Феникс. Однажды пришли ее грабить. Она никому не открывала, а тут вдруг открыла какой-то юной девочке, которая якобы производила перепись населения, пережившего блокаду. А за дверью кроме девушки был еще молодой человек, ударивший Валю по голове. Неопытные грабители не учли, что в дальней комнате находилась домработница, а Валя, падая, схватилась за кнопку сигнализации, связанную с милицией. Их взяли сразу.
Лет за десять до смерти у нее обнаружили раковую опухоль, она лежала в больнице, где к ней пришел врач с «предложением»:
– Вы смертельно больны. Хотите умереть без боли и мучений? Завещайте мне картину Рокотова – и я сделаю для вас все.
У нее действительно был уникальный Рокотов. Валентина обещала:
– Я подумаю, голубчик.
Сама же быстро умудрилась связаться с другом, созвонившимся с ее родственниками во Франции, сделала – в те годы, лежа в больнице! – себе визу, ее на носилках довезли до самолета, вывезли в Париж, прооперировали, и оказалось, что огромная опухоль была доброкачественной. Она прожила еще десять лет. Врач в Петербурге намеревался ее просто убить.
Что касается наследства, Валентина немножко сама себя перехитрила. Вокруг нее ходили хороводом все музеи – Павловск, Петергоф, Гатчина, Эрмитаж. Все надеялись, что она завещает коллекцию одному из музеев. Она же без конца переписывала завещание. На ее вопрос: «Ведь мое последнее завещание действительно, а предпоследнее нет?» – ее нотариус отвечал: «Валентина Михайловна, в вашем случае я бы ставил на документах час». Как-то я приехала в Питер, ей было так плохо, что мне казалось, я с ней прощаюсь.
– Ребенок, принеси мне верхний ящик моего комода, – попросила она.
Там хранились все ее драгоценности. Тяжеленный ящик красного дерева лежал у нее на коленях, и Валя, взяв в постель зеркало, примеряла серьги. Обсуждала, с чем сочетается то или иное колье, как надо бы подправить третье. Мне показалось, что и на этот раз она выкарабкается. Потом она позвонила мне в Москву с просьбой забрать ее портрет в овальной раме. На этом портрете она изображена молодой с голыми плечами и недописанной рукой. Художник умер, не закончив портрета. Она всегда говорила, что хочет завещать нам этот портрет, потому что знала, что коллекцию растащат, а портрет за ненадобностью выкинут. В результате она умерла, когда нас не было в России. Несмотря на то что все знали о нашей ближайшей дружбе с Валентиной Михайловной, о ее кончине нам никто не сообщил. Может, боялись, что на правах ближайших друзей мы станем претендовать на что-то из ее коллекции. Кроме пары мелочей, подаренных при жизни, у меня не осталось ничего. Жаль только тот портрет.
Ленинградские чиновники предлагали устроить аукцион из тех вещей, которые не являлись музейной ценностью – стилизованных драгоценностей, безделушек, то есть оценить их в комиссионном магазине и выставить на продажу. Тот, кому это дорого, пусть покупает. Но я отказалась покупать вещи Валентины Михайловны за ту цену, которую назначит комиссионный магазин. Кому досталась вся ее уникальная коллекция – неважно. Говорят, что все по описи сдано в хранилище.
Теперь, когда ее не стало, Петербург без Валентины для меня опустел. Я приезжаю и понимаю, что нет больше моей маленькой квартиры на Восстания.
Для меня так странно, что я больше не наберу ее телефон и не услышу:
– Доча, ты где, когда ты приедешь?
В последние годы она очень сдала, но по-прежнему держалась. Плохо видела, поэтому пудрила нос в три раза больше, чем надо, все равно оставаясь женщиной.
– Говорят, что жемчуг оживает на коже молодых девушек. Какая чушь. Посмотри, у меня за два месяца он уже сияет, – говорила она, встречая меня в ночной рубашке с ниткой жемчуга на шее.
Я так и вижу ее сидящей у стола красного дерева, раскладывающей свой пасьянс.
В последний раз, когда я позвонила ей, трубку поднял участковый, охранявший квартиру:








