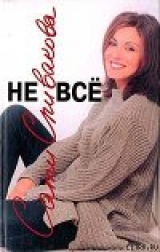
Текст книги "Не все"
Автор книги: Сати Спивакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ
Певец Томас Квастхоф – явление уникальное. Само существование этого человека, вся его жизнь – действительно пример того, как человек живет, а не выживает. На его долю Богом ниспослано тяжелейшее испытание, но он не проклинает судьбу, а благодарит ее за то, что жизнь просто дарована
Томас Квастхоф – жертва болезни, фактически созданной человечеством, точнее – научной ошибкой человечества. Болезни этой, к счастью, больше не существует, потому что прекращено производство жуткого лекарства, провоцирующего ее, – «таледомида». Этот препарат, созданный в 50-х годах в Германии, назначался женщинам для понижения нервного фона во время беременности. Очень скоро было обнаружено чудовищное побочное действие «лекарство» пагубно влияло на те нервные центры позвоночника, которые отвечают за нормальное развитие рук и ног ребенка. Родители Томаса – здоровые люди, с братом тоже все в порядке. Думаю, и сам Томас мог быть высоким красивым мужиком – у него прекрасной лепки голова, выразительные черты лица, высокий лоб и невероятно умные и лукавые глаза, но…
У каждого из нас есть свои детские обиды, но когда думаешь о том, что мог испытать в детстве этот человек, понимаешь, что наши обиды… ничто. Томаса сразу же отдали в школу для психически больных – считалось, что такой ребенок, как он, не должен находиться в школе с другими «полноценными» детьми. Как-то раз он сказал мне:
– Я ужасно боюсь собак. Они меня не любят, они меня боятся.
Я удивилась:
– Почему?
– Потому что я не похож на человека и походка моя напоминает скорее походку не человека, а существа, по разумению собаки, в чем-то ей подобного.
Его взаимная неприязнь с собаками – с детства. В школе-пансионате, куда его определили учиться, – и это была уже школа для нормальных детей – была странная воспитательница (видимо, с садистскими наклонностями). Детей выводят на прогулку – и она специально выпускает собаку во двор. Здоровенная псина бросается на мальчика с короткими ручками и ножками, а ему и убежать-то от нее сложно.
У отца Томаса был совершенно изумительный бас-баритон, и сын его унаследовал. Он учился музыке в небольшом городке, еще юношей стал работать на радио – вначале диктором, потом пробовал что-то петь. Никто не видел, какой он, но все слышали его голос. А потом Томас выиграл радиоконкурс.
Как-то раз ему пришлось выступить в открытом концерте. Когда он впервые появился и спел перед большой аудиторией с абсолютно невообразимым успехом, он сказал себе:
– Мне аплодируют только за то, что человек с моей внешностью может петь.
…Может быть, сначала Томасу подспудно хотелось доказать, что и человеку с физическими недостатками есть место в мире артистов. И это его даже подстегивало, стимулируя двигаться вперед. Но постепенно его «образ» и его голос стали неотделимы для слушателей, в этом таился секрет его уникальности. И теперь, думаю, у него уже нет необходимости что-либо доказывать. Он победил свой недуг силой своего таланта. Он победил судьбу.
Я помню тот день, когда Томас впервые приехал к нам на фестиваль в Кольмар. Моя старшая дочь Катя (тогда ей было девять лет, гораздо меньше, чем теперь) смотрела на него совершенно завороженно. А он, ехидно улыбаясь, спросил:
– Я, наверное, тебя жутко напугал, я такой страшный.
– Ну что вы, вы такой красивый, такой замечательный. Вообще, сегодня был лучший концерт в моей жизни.
И после этого между ними возникла невероятная любовь. Он все время говорил, что Катя – его главная невеста. Кстати, по части женского пола Томас вообще-то большой охотник. Он влюбляется быстро, легко, начинает ухаживать за дамами, причем безумно влюбляется в дам очень высокого роста. Смотрит на даму, произносит что-то вроде: «О!» – и тут же любовь.
Никто никогда не сможет заглянуть в душу к Томасу и понять, что в ней происходит. Он так ценит красоту мира. Когда Томас видит красивую женщину, в его глазах отражается бесконечная гамма чувств, которую трудно описать. Нормальный здоровый мужчина может и не заметить красавицу, будет занят чем-то другим. А Томас видит все обостренно, он не оброс толстой кожей, у него глаза распахнуты и сердце открыто на все прекрасное, происходящее вокруг.
По натуре он человек не пафосный. Очень земной. Может растрогать вас до слез каким-то нюансом или жестом, только ему одному присущим. Он говорит просто, не любит метафор, высокопарных высказываний о вечности, о судьбе артиста. Томас – просто милый парень невероятного жизнелюбия.
Выпив пару бокалов вина после концерта, он, например, может исполнить романсы. И «Очи черные» споет, и что-нибудь из Фрэнка Синатры – так что просто слезы катятся. И шутки Томаса, и то, как он способен заводить окружающих, неподражаемо. Наверное, из него мог бы получиться замечательный лирический или трагикомический артист.
Понятно, что Томас из-за своего недуга – человек, очень неприспособленный к быту. Он вынужден везде ездить с кем-то – близким другом, братом или матерью. Какие-то элементарные физические действия, которые мы выполняем тысячу раз в день не задумываясь, – сесть на стул, открыть дверь, подняться по лестнице – ему даются с невероятным усилием. Но он никогда не позволяет себе фиксировать внимание окружающих на своих проблемах, наоборот, покоряет всех своим обаянием.
У многих возникает вопрос: а что было бы, если бы этим голосом обладал певец с обычным ростом? Возникало бы тогда это чувство мистики, чуда? Может, не будь этого испытания в его жизни, Томас просто не стал бы певцом, не было бы потребности так фиксироваться на своих вокальных возможностях, проявилось бы что-то другое.
В Томасе, безусловно, заключена невероятная внутренняя сила. Все, что вложила в него природа, сконцентрировано в той невидимой материи, которая именуется талантом. От этого человека идет мощнейшая энергия, и я думаю, что это, наверное, таинство Божье.
Слава – это терпение, талант, труд и жизнь скитальца. Сейчас жизнь Томаса расписана на пять лет вперед по дням и часам, он постепенно приспособился к постоянным перемещениям и даже получает от них наслаждение. Странствуя, везде находит себе друзей, а когда удается некоторое время побыть дома в Германии, в Ольденбурге, преподает вокал каким-то очаровательным юным леди (у него собственная небольшая школа). Как они поют, мне слышать не доводилось (по-моему, на этих уроках большей частью поет для них он, а они, открыв рот, слушают), но они чаще всего недурны собой, смотрят на него абсолютно влюбленными глазами, ходят за ним, как гусыни, очень гордые. И он их всегда представляет: вот, знакомьтесь, такая-то, моя ученица.
Как любую вокальную звезду, Томаса часто окружают поклонники, имеющие к музыке весьма косвенное отношение. За ним, особенно последнее время, перемещается небольшая свита. В основном это люди, обладающие временем и средствами, которым очень хочется искупаться в лучах его славы, сказать при случае: «Я друг Томаса Квастхофа».
Томас всегда рассказывает о своем заболевании абсолютно без горечи, с легкой иронией и в то же самое время с невероятным чувством грусти и нежности по отношению к своей маме, пожилой скромной немке, у которой в глазах можно прочитать всю ее жизнь: что она чувствовала, ожидая ребенка, какое смятение ощутила, поняв, что ее вина в том, что сын родился таким. Томас говорит:
– Вы можете себе представить, что испытывает моя мать все эти сорок пять лет? Как она корит себя за то, что принимала те лекарства, которые, возможно, могла бы и не принимать? Я всегда безумно жалел маму и страдал из-за того, что она страдала. И мне хочется думать, что, когда я выхожу на величайшие сцены мира и мне аплодируют восторженные зрители, она все-таки испытывает что-то вроде счастья.
С таким баритоном, как у Томаса, конечно, нужно петь и в «Евгении Онегине», и в «Дон Карлосе». Петь – да, спеть он мог бы все, однако Томас по понятным причинам не решается выйти на оперную сцену в ролях Дона Филиппа или Онегина. Я знаю, ему предлагают спеть Риголетто. Он пока сомневается, потому что понимает: ему не придется ничего играть в этой роли.
Он поет оратории и кантаты, реквиемы, очень хочет спеть «Песни об умерших детях» Малера. На его век хватит. Шуберт в исполнении Квастхофа – это что-то необыкновенное, именно там голос попадает в «десятку». Когда он поет Шуберта это боль его души, неизлечимая, которую каждый раз он приоткрывает больше и больше, так что не плакать невозможно. Мне кажется, о таком исполнении Шуберт и мечтал.
Вот он поет – и все затихает. Будто ангел пролетел…
О ЧЕРНОМ СВИТЕРЕ И ЯРКИХ ВСТРЕЧАХ
Великая Габриэль Шанель говорила: «Мода – это то, что выходит из моды». Точно подмечено, правда? Кстати, касается это не только моды на одежду, но всего искусства в целом. Есть феномены-однодневки, а есть вечные ценности, будь то явления в музыке, живописи или моде. Так что трепета при слове «мода» я не испытываю. Думаю, главное – это стиль, великое, непреходящее понятие. Стиль – это ключ к разрешению любой проблемы, страховка от любой ошибки. Стоит его ощутить – и наступает избавление от модных диктатов. Мне кажется, что стильный человек тот, кто не боится быть самим собой, тот, кому с собой комфортно. Только и всего.
Первая женщина, которой хотелось подражать, конечно, была моя мама. В годы моего детства в Армении одевались так же, как и во всем Союзе. То есть кто как мог. У мамы были прекрасный вкус и замечательная портниха. Мама умела носить вещи. Выступая с папой в концертах, мамочка часто позволяла себе «вольность» по тем временам: выходила к роялю с совершенно оголенными плечами и глубоким вырезом на спине. Надо признать, что плечи и руки были точно мраморные, спина – восхитительная, но в целом эти появления считались в 60-е годы более чем смелыми. Помню, попав в Париж в 1970 году, родители на жалкие суточные умудрились привезти всем подарки. Мне был куплен волшебный красный костюм с брюками, расклешенными от колена. Но толстопопая армянская девочка в него не поместилась! Пожалуй, это было первое чувство большого «женского» унижения, которое до сих пор хранит память: ощущение не сходящейся на бедре застежки молнии. Маме же была куплена шубка из искусственного меха: черного в белую крапинку, что-то вроде лошадки, но она с таким шиком носила эту шубу, что все были убеждены: Саакянц позволил себе невиданную роскошь!
Еще помню маму в белом кожаном пальто и белых брюках. Так и вижу ее, стройную, в белом пальто, затянутом по талии поясом с большой металлической пряжкой.
Так сложилось, что мне довелось встречаться, а порой и дружить с многочисленными творцами моды, ставшими уже легендой. Их имена: Ив Сен-Лоран, Ирэн Голицына, Джон Гальяно, Кристиан Лакруа, Слава Зайцев, Валентин Юдашкин. Характерно, что все они, кому подвластно несколькими росчерками карандаша устанавливать или отменять диктат моды, укорачивать или удлинять юбки, изменять силуэты, в общем, баламутить играючи умы модниц, сами остаются всегда постоянны и верны себе, больше обращая внимание на аллюр проходящих мимо женщин, нежели на «упаковку».
Первый модельер, с которым мне довелось познакомиться, был экзотический дядя из Филиппин, личный портной Имельды Маркос. Большой меломан, он посетил Володин концерт в Маниле и пришел в восторг. Приехав вскоре в Москву, он разыскал Спивакова и «напросился» на ужин. Было это незадолго до нашей свадьбы в 1984 году. Я постаралась, как могла, принять его в нашей крошечной квартирке на Юго-Западе. Маленький, средних лет человек по имени Аурео Алонсо. Весь вечер они говорили с Володей, уже не вспомню о чем. Напоследок мой будущий муж попросил его сшить мне свадебный наряд. Аурео извлек из кармана маленькую рулетку и, ловко орудуя пальцами, сплошь усеянными колечками с драгоценными камнями, принялся обмерять меня с головы до пят. Спустя месяц, уж не помню, с какой оказией, мне привезли загадочную огромную коробку. Не знаю, то ли Спиваков плохо объяснил, к какому событию требовался наряд, то ли Аурео «оплакивал» решение его русского друга жениться, но в коробке, утопая в цветной шелковой бумаге, лежали пленительное платье и длиннющий, широченный шелковый шарф черного цвета. До сих пор не удалось выяснить, может, на Филиппинах выходят замуж в черном? Платьице, впрочем, было настолько уникальным, сделанным вручную до мельчайшей кнопочки, что я с великим удовольствием надевала его множество раз. До сих пор оно переезжает со мной из страны в страну, живет то в Испании, то во Франции. И думаю, будет еще носиться одной из моих дочек (или внучек!). Еще на дне коробки от Алонсо лежала бледно-желтая мужская рубашка для Володи, с виду обычная, но когда мы ее развернули, оказалось, что во всю спину вышита на ней огромная цветная бабочка! Вот так наш филиппинский «Диор» увидел русского скрипача. К сожалению, больше мы не встречались, и я даже не знаю, где он теперь.
В 80-х годах у меня был в Париже друг, работавший советником у Ива Сен-Лорана. Саша (француз с очень интернациональным именем Александр) был тем, кто в 1986 году привез в Москву выставку Сен-Лорана. Благодаря ему я впервые попала в волшебную страну моды со стороны кулис. Как-то Саша привел меня в ателье, где сам Сен-Лоран готовил очередную коллекцию к показу. Это было сеансом магии: почти неподвижно стоящая манекенщица-мулатка, вокруг которой в напряженной звенящей тишине передвигался движениями пантеры великий мастер. В огромных очках, в черном костюме, нервно закуривая и всякий раз не докуривая, он то подкалывал булавками, то подрезал длинное платье из ярко-синего крепа. Тишина нарушалась изредка лишь храпом его любимого бульдога по кличке Мужик и шепотом закройщиц-ассистенток. Но на моих глазах из бесформенно висящей материи буквально рождался структурно четкий силуэт без единой лишней, случайной складки! Потом мы пили чай, и Сен-Лоран, говоря о парижских показах, как-то лениво и тихо заметил:
– Я ни за кем не слежу и ничего не вижу. К чему? Всё, что делают сегодня, я придумал уже давно.
Я же обожаю его знаменитую формулу:
– Элегантная женщина – это женщина в черной юбке и черном свитере, идущая под руку с влюбленным в нее мужчиной.
Правда, где-то он хитро добавил:
– Но, конечно, аксессуары не возбраняются!
Мне нравится мода с точки зрения творческих идей. Я хорошо знаю Кристиана Лакруа. Его талант настолько шире и глубже моды как таковой, что его вещи плохо продаются. Кроме актрис, которые любят появляться в его вечерних платьях на пышных церемониях «Сезара» и «Оскара», кроме богатых невест, которые могут позволить себе заказать у него свадебный туалет, его мало покупают. Глядя на свадебные платья от Лакруа, я понимаю, что они ко многому обязывают: либо прожить долгую счастливую жизнь с одним человеком, либо сбежать в этом платье из-под венца в последнюю секунду. Это платье героини. Все, что шьет Кристиан, рассчитано на сильную индивидуальность. Его вещи настолько ярки, что заслоняют женщину, если у нее недостаточно сильный характер. Их надо уметь носить.
Лакруа – ужасно смешной, лопоухий мишка, которому, говорят, мама в детстве приклеивала уши скотчем. Женат на Франсуазе, которая его и «сделала», – типичной парижанке, очень космополитичной, интересной журналистке. Он встретил ее у друзей на чаепитии, и с тех пор они не расстаются вот уже тридцать лет. Его мама сказала, что в детстве он всегда описывал женщину, на которой женится, – белокожую, рыжую, маленькую. Это портрет Франсуазы. Лакруа приехал в Париж и собирался стать музейным работником, изучал историю костюма XVIII века. Она резко переориентировала его, как только увидела рисунки костюмов и декораций, которые делал Кристиан. Франсуаза работала пресс-агентом. Она и пристроила его сначала стилистом в Дом «Hermes», потом в «Jean Patou», ныне исчезнувший. А потом они встретились с Бернаром Арно, который поверил в него. И в 1983 году возник Дом моды Кристиана Лакруа, практически единственный за последние годы, созданный «с нуля». То есть он не пришел молодым дизайнером для обновления крови в старый Дом, а создал свой собственный. Несчастье (а может, наоборот, счастье?) Лакруа в том, что он – артист, не задумывающийся о том, чтобы сделать что-то коммерчески успешное.
Мы провели с Лакруа безумно интересных два дня, когда я снимала о нем передачу. Он заявил, что интервью будет давать только в своем любимом ресторане «Петрель» в IX районе Парижа. Хозяин Жан-Люк – добряк, специально открывший свое заведение в понедельник утром для нашей съемочной группы. Мы поменяли скатерти, переставили всю мебель, подсвечники, аксессуары. Он все снес кротко. Ресторанчик смешной, стены обиты тканью эпохи Наполеона III, старинные вещи смешаны с имитациями. На одном столе лежат три книжки и несколько орешков, на другом – розовые лепестки и гравюрки, прямо как у кого-нибудь дома. Очень вкусно. Мы снимали утром, до обеда, как раз когда привезли продукты на вечер. И в ресторане стояли корзины с рынка – с лисичками, малиной, овощами. Это было так живописно!
Кристиан приехал, одетый как бомж, в бежевом свитере и потертой джинсовой куртке. Перед съемкой я купила в его магазине кофточку – черненькую, но с большой аппликацией. Они меня потом очень ругали за самодеятельность предлагали дать напрокат или сделать скидку, но было уже поздно. Гримироваться перед съемкой Лакруа отказался. Каждый мой вопрос он брал, как резиновый круг, и плыл с ним в открытое море.
Самым интересным для меня оказалось присутствие на примерках его последней коллекции, показанной на летней Неделе высокой моды в Париже. Кристиан притащил меня в мастерскую, где я увидела что-то фантастическое. На манекенщице – платье из холстинки, то есть сделана только форма, силуэт из холста. А все стены в студии обвешаны образцами тканей, тесьмы, кружева. Он смотрит, хватает со стены кусок, прикалывает, обсуждает с ассистентами. В результате девушка обвешана тесьмой, галуном, кисточками, к юбке приколото сразу три образца. Лакруа прикладывает четвертый и начинает смеяться: «Нет, это даже для меня too much». Многие потрясающие ткани он делает на заказ.
Его Дому 10 лет, все эти годы при нем секретарша Лора. Атмосфера удивительная. Кристиан сам признается, что он плохой коммерсант. Лакруа не начальник, ему близки идеи артели, цехового братства. Мне всегда хотелось носить его вещи, но я как-то робела. После нашего знакомства я эту свою робость преодолела.
Мне очень нравится его театральность. Кстати, из всех полученных им премий («Золотой наперсток», «Золотая игла», «Бриллиантовые ножницы») больше всего Кристиан гордится премией «Мольер» за лучшие театральные костюмы сезона 1995 года к «Федре» Расина в «Комеди Франсез». А сейчас он сделал костюмы к спектаклю «Береника», в которой играла Кристин Скотт-Томас на Авиньонском фестивале. Лакруа – человек театра, но и в кино он великолепно работает. Недавно прошел фильм «Дети века» с любимой мною актрисой Жюльетт Бинош о Жорж Санд и Альфреде де Мюссе. Придуманное Лакруа вишневое платье героини изумительно. После моей передачи о Лакруа мы часто видимся. А в Новый год Кристиан прислал мне неправдоподобно огромный букет свежих пионов и маленькое серебряное сердце на счастье. Теперь все время вожу его с собой.
Из русских модельеров я общалась со Славой Зайцевым, который шил мне крепдешиновые платьишки, когда я была беременной. Он сделал наряд из черного крепдешина в белый горошек с тремя разными воротничками. Под низ надевалась еще юбка, но можно было носить его и отдельно, как короткое. Оно трансформировалось бесконечно. Слава – чудный, добрый, светлый человек. В отечественной моде он – наш ледокол «Ленин». Как он пытался из жутких материалов создавать стиль и одевать советских женщин! Слава – герой. На летние концерты Володя часто надевает его рубашки со стоечкой. Помню, мы пришли на примерку: рубашки, которые должны были быть готовы через неделю, сшили за день.
В последние годы мы подружились с Валентином Юдашкиным. Его я обожаю не только как артиста, но и как друга. Пару лет назад в Париже была выставка импрессионистов «От Курбе до Матисса». После вернисажа все отправились на ужин при свечах на корабле «Mediterrane», плывшем по Сене. Володя, как всегда, был в отъезде, и мне пришлось тащиться одной. Но было чрезвычайно интересно актеры, журналисты, писатели. Я надела широченные штаны от Юдашкина и топ, вышитый бисером и стеклярусом по черному тюлю. Джон Гальяно вдруг подошел, остановился, стал щупать:
– Что это?
– Не вы, – ответила я.
– Вижу, что не я, но что это?!
Вышивка – самое дорогое в высокой моде, так что мой наряд от Юдашкина был неотразим. Меня же распирала гордость за Валечку и за отчизну.
Совсем недавно я встретилась в Генуе с человеком лет шестидесяти, совершенно неизвестным широкому рынку, но прекрасно известным узкому кругу посвященных. Его имя – Андреа Одиччини. Он одевал еще Марлен Дитрих и знаменитых итальянских актрис. Он кутюрье, «поток» его никогда не интересовал. Давным-давно у него был магазин на Fabourg St. Honore в Париже, который он закрыл. В основном он шьет на заказ. В Генуе, рядом с отелем, где мы жили, когда Володя дирижировал премьерой оперы «Пуритане», у Одиччини огромное палаццо. Нас познакомили на премьере, и на следующий день я пошла на встречу с Одиччини. В зимней Генуе выпал такой снег, что все кривые, вымощенные булыжником улочки стали сразу напоминать рождественскую сказку. В палаццо с расписными потолками прошлого века – ателье и show-room. В год он шьет моделей шестьдесят – уникальных, созданных в единственном экземпляре. Дефиле он не устраивает, клиентки приезжают к нему сами. Его безумно оригинальные вещи любит, например, Джулия Робертс. Он модный классик.
В прошлом году мы встретились с Джоном Гальяно в доме наших очаровательных друзей Бернара Арно и Элен Мерсье. Мне казалось, что нет ничего более противоположного, чем мой муж и Гальяно, а они, как ни странно, сошлись! Сидели и разговаривали бесконечно. В жизни Джон Гальяно – человек очень эпатажный, должен все время разыгрывать шоу. Каждый день он появляется в чем-то новом – то в майке, напоминающей разодранный американский флаг, то в парике с золотыми буклями, то в других немыслимых одежках. Во время нашей первой встречи он сидел в камуфляжной маечке – последнем писке моды – и в женских прозрачно-золотых очках.
При этом Гальяно оказался человеком невероятной застенчивости. Он испанец с Гибралтара с нереально смуглой от природы кожей и белоснежными зубами, как у породистой лошади, – таких я ни у кого не видела. Володя спросил его, как приходят идеи.
Гальяно рассказал:
– Ты знаешь, к примеру, я люблю ходить по рынку и смотреть, как разложены овощи и фрукты, как сочетаются по цвету перцы с зеленью, апельсины с дынями.
Володя, в свою очередь, вспоминал, что как-то раз он услышал колокола в церкви, которые помогли ему понять темпы в первой сонате Брамса. Так они обменивались профессиональными «секретами».
Мы многократно уговаривали Джона приехать в Россию. И вот пару месяцев назад он позвонил мне и сообщил, что находится в Санкт-Петербурге! Удивительное совпадение: в тот же вечер я улетала в Питер на съемки. Вдобавок оба мы остановились в «Европейской». Вечером мы тихо сидели за чашкой чая и он восторженно делился со мной впечатлениями: ему дико нравилось, что приехал он тайно, что может часами гулять, просиживать в музеях, не вылезать из Вагановского училища, где учился его «Бог» – Вацлав Нижинский. «В следующей жизни я буду русским и поселюсь в Санкт-Петербурге». Снег – «романтика», дворцы – «сказка», картины, музеи, Мариинский театр – у Гальяно горели глаза, я впервые видела его таким восторженным. На прощанье он мне сказал:
– Ведь это вы с Володей «виноваты», что я вырвался сюда. К тому же твой муж дал мне замечательную идею к музыкальному оформлению моего показа. Так что следующая коллекция 2002 посвящена России и немного вам двоим.








