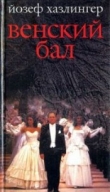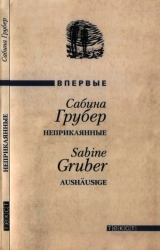
Текст книги "Неприкаянные"
Автор книги: Сабина Грубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
4
Я тебе потом расскажу. Звонила Пиа. На той неделе она будет в Удине, привезет твой паспорт. Я поеду с тобой до Клагенфурта, навещу Ханса Петера. Почему? Можешь не беспокоиться, у Эннио все хорошо.
Я тебя захвачу. На Йозефштрассе, угол Альбертгассе.
К счастью, у нее нет ребенка, только этого теперь не хватало; с другой стороны, будь у них ребенок, она бы никогда от него не ушла. Его мать уже через год убедила ее, что ей необходимо съездить в Монтерки, к Мадонне дель Парто. Тот факт, что Мадонну перенесли из построенной для нее часовни, не помешал Эннио посетить это святое место. Только когда он вместе с Ритой стоял в музее в свете галогеновых ламп, ему стало ясно, что созерцание фрески им ничего не даст. Он растерянно глядел, рассказывала она, на защищенную стеклом Матерь Божию с большим животом, потом взял Риту за руку и потащил к выходу.
Мария тоже хочет ребенка, мы с ней еще ни одной ночи вместе не спали, а она уже ведет такие речи. Мареш прав: никаких баб старше тридцати – из-за любой можно нечаянно лишиться части зарплаты.
Нашли кого послать в Тузлу – Денцеля. Эти главные редакторы с ума посходили. Парень же понятия не имеет, куда едет, думает, что Босния-Герцеговина на две трети населена хорватами, спасибо хоть не путает Изетбеговича с Милошевичем. Кому-то надо, чтобы он оказался там, кто-то ждет, чтобы он сделал первую непоправимую ошибку. А может, они выращивают очередную молодую звезду – репортера для «горячих точек», чтобы не трогать отцов семейства. Никто ему не скажет, что стрельба там – самое обыденное дело и что как военный корреспондент он подвергается большей опасности, чем сапер, обезвреживающий мины. Полагаться на спасительную силу нейтралитета твоей страны – безумие, это еще могло сработать во Вьетнаме или в Камбодже, здесь же надо определиться, за кого ты, не то и та, и другая сторона будут видеть в тебе врага.
Когда всех стали спрашивать, кто готов ехать, Мареш скрылся в туалете. А Симонич – та вообще садится в самолет, только если ей забронирована комната в отеле.
Вначале я тоже поддался на уговоры, подумал, ведь я должен добиться успеха, чтобы когда-нибудь попасть корреспондентом в Рим. Фото сожженного ребенка и его матери в разрушенном хорватами сербском поселке близ Пакраца Мареш нашел непристойным; на самом деле эту историю и фото к ней не опубликовали потому, что они были просербскими. Я вышел из себя, покинул редакционное совещание, хлопнув дверью, и все же снова и снова мотался в Хорватию.
Что это Мария не звонит?
Симонич стоит в дверях, прислонившись к косяку, и спрашивает Денцеля, не хочет ли он кофе. Сперва она дурит голову Марешу, потом обрабатывает Денцеля, хотя терпеть его не может, а Пухер от ее улыбки просто тает. Сегодня он был несказанно любезен: господин Ортнер, вам есть из чего выбрать – закрывается журнал «Квик», в конце месяца Антониони исполнится восемьдесят, а в Венеции как раз начинается кинофестиваль.
5
Здесь нет ничего такого, что бы мне по-настоящему нравилось, ради чего стоило бы остаться. Рита прислушивается, вбирает в себя, откладывает в памяти тут какую-то фразу, там чье-то лицо.
Итак, здесь Антон живет и пишет, чтобы жить. Сюда он приехал, чтобы научиться писать, чтобы распрощаться с косноязычием; здесь он зарабатывает деньги, каких бы дома не заработал, там речистым не доверяют, они-де выкладывают правду, а заодно и ложь, и платят им за что-то неприличное. Гляди в оба, этот околпачит тебя разговорами, говаривал отец, он боялся слов, а болтунов обходил стороной. Все мы говорили мало, отчего каждое слово приобретало непомерный вес. Речистые подавляют, отбирают власть. Поэтому интеллектуальный труд, труд, так сказать, словесный, не в чести, поэтому платят за него мало, дабы показать, что на этом прекрасном куске земли ценятся только мускулы, родной край надо не описывать, его надо обрабатывать, он должен быть плодородным только в физическом, а не в духовном смысле.
Дождь смыл пыль, город блестит. Рита заходит в булочную и попадает впросак: спрашивает печенье «свиные ушки», а в Вене его называют «пальмовые листья». Впиваясь зубами в слоеное тесто, она опять задумывается над тем, можно ли есть прямо на улице, не считается ли это неприличным, все равно как мочиться или предаваться любви на глазах у всех. Она прячет надкусанное печенье в карман жакета и достает опять, только когда на улице оказывается меньше прохожих.
Эннио считал недопустимым есть на улице, возмущался туристами, которые поедают свои бутерброды, стоя на площадях, или жуют на ходу. Такой манеры есть он не терпел даже у рабочих.
У Иоганны была эта ненавистная всем нам привычка: еще по дороге из булочной домой приниматься за хлеб, купленный к завтраку. Хотя отец не раз гонял ее обратно в деревню, чтобы она купила новый батон, к тому же вычитал его стоимость из ее карманных денег, она не могла удержаться, общипывала и обкусывала горбушки, в результате батон попадал на стол в изуродованном виде, с обслюнявленными концами. Тогда мать отрезала эти концы и, ни слова не говоря, клала их ей на тарелку. Иоганна всегда боялась остаться обделенной; на Пасху весь шоколад исчезал в карманах ее фартука, она таскала даже вареные яйца и складывала про запас – заворачивала в газетную бумагу и прятала в обувной коробке под кроватью. Это она унаследовала от Эммы, нашей двоюродной бабушки, которая целый день была занята тем, что рассовывала остатки еды, собранные ею с тарелок других обитателей дома для престарелых, по целлофановым мешочкам. Кушанья, казавшиеся ей неаппетитными, она вместе с мешочками бросала в унитаз, чем систематически устраивала засоры. Маме приходилось то и дело бегать к ней туда и убеждать ее в том, что с голоду она не умрет. Кусковой сахар и шоколад она, перед тем как лечь спать, прятала под подушку. Из страха, что кто-нибудь из медсестер может отобрать у нее припасенное, она ложилась на живот, обеими руками обхватывала подушку и не вставала, пока совсем не рассветет. Ранним утром она засовывала сладости в особую сумку, которую всегда таскала с собой, и только во время купанья клала на специально для того поставленную табуретку, ни на минуту не спуская с нее глаз. Идея Антона, что Эмма перестанет припрятывать лакомства, если он однажды преподнесет ей аж сорок плиток лучшего молочного шоколада, оказалась ошибочной. С этого дня у нее начались нарушения сна: с одной стороны, из-за того, что сложенные под головой плитки мешали ей удобно улечься, с другой, потому, что в этом нежданном богатстве крылось для нее нечто непостижимое. Имя Антона она произносила с глубоким почтением. В последние годы перед смертью – Эмма почила на скамейке в саду, придерживая рядом с собой и на коленях целлофановые мешочки, – она одну за другой, как наследство, раздавала бесформенные плитки давно испорченного шоколада, не забывая всякий раз пересчитать оставшиеся. На Антона ее щедрость не распространялась, хотя вообще она не считала зазорным передаривать мне прямо в тех же упаковках купальные полотенца и лосьоны для ванны, которые получала от мамы и от Иоганны. Вначале она еще обращала внимание на подарочную бумагу, но потом на ее пасхальных подношениях все чаще красовался Дед Мороз.
Когда я в последний раз навещала Эмму, она сидела на кровати, погруженная в себя, и бесчисленными «да-да» одобряла все, что бы я ни говорила. Даже когда ей, в сущности, следовало сказать «нет», она кротко и бездумно кивала, словно беседовала с каким-то другим, неизвестным мне человеком, чьи ответы – так мне показалось – я по ошибке взяла на себя.
Существует много возможностей убить время, размышляет Рита, но цель у всех одна и та же – не ждать ничего определенного, а втайне надеяться на все, что только возможно. Человек сбрасывает с себя нетерпение, становится спокойным и не злится.
Светит солнце, молодые папаши катают детей на велосипедах. В Рессель-парке какая-то пожилая дама старательно вытирает скамейку. Рита раздумывает, не подсесть ли к ней, но потом идет дальше мимо писающих собак и воркующих голубей. Любители кататься на скейтбордах используют главный вход в церковь Св. Карла как трамплин и грохочут вниз по ступеням. В Венеции они брали разбег на мостах и мчались по улочкам или пересекали площади, останавливаясь возле неработающих фонтанов. По утрам на них бранились пенсионеры, шедшие за покупками, вечером пронзительно кричали матери в страхе за своих малышей.
Рита идет обратно, кивает давешней даме и садится рядом с ней на чистую скамейку. Напротив стоят молодые люди, разговаривают по-турецки и курят. Дама молчит, только беспокойно ерзает по скамейке и качает головой; когда турки удаляются в сторону метро, она начинает громко ругаться. Раньше, говорит она, все было иначе. Раньше, думает Рита, у тебя был только страх, теперь к нему прибавилась старость, вынести и то и другое вместе почти невозможно. Не прощаясь, Рита поднимается и уходит.
В сотне метров от скамейки несколько девочек построились в круг, самая рослая их пересчитывает. Какой-то подросток долго болтает связкой ключей, пока не вешает ее на руль своего велосипеда. Другой обламывает ветки с куста. Девчонкой я со злости на отца ходила в лес, чтобы обрывать верхушки у только что посаженных деревьев. Однажды он влепил мне пощечину за то, что я мимоходом отломила плодоносную ветку ели – просто со скуки и без всякого умысла.
Рита обходит кругом водоем перед церковью Св. Карла и решает прогуляться по Рингу в сторону Дунайского канала. До встречи с Антоном у нее еще целых два часа.
Он трогательно заботится обо мне, всегда старается заполнить мои вечера, словно боится застать меня в том состоянии, в каком месяцами пребывал сам после ухода Марианны. Рита переходит Шварценбергплац, и ей не сразу удается сориентироваться; от фонтана, бьющего высокой струей, веет легкий ветерок. У входа в Городской парк она наблюдает за бродяжкой, которая перепаковывает свои вещи и при этом сама с собой разговаривает.
6
Почему она не может сесть в такси и приехать сюда? Ей невозможно это втемяшить. Она переняла от отца больше, чем бы ей самой хотелось. С другой стороны, где бы она могла к этому приучиться: дома у них такси не водится, только в соседней деревне есть что-то вроде туристического такси, его водитель прославился на всю округу как бабник. Объявление возле продуктового магазина, принадлежащего его жене, предлагает поездки на озеро Гарда и в Доломиты. Местные в его такси не садятся – женщины могут испортить себе репутацию, а о мужчинах станут говорить, что они выпендриваются. А в Венеции услугами такси пользуются только те, кто может позволить себе поселиться в отелях «Гритти» или «Даниели».
Рано или поздно мне придется завести с ней разговор о ее будущем. Отцу тоже надо сказать правду или хотя бы сообщить Иоганне, что Рита находится здесь.
Мария? Переключите ее на этот номер. Нет, скажите ей, что я уже ушел.
Не услышишь собственных слов; зато во время редакционных совещаний они и рта не раскроют, щадят свою язву желудка, но едва только главный редактор скроется из виду, а следом и завотделами, как они принимаются их поносить, брюзжат и ворчат. Утром они опять стоят по стойке «смирно», держат фигу в кармане, приветливо здороваются.
Симонич алчно вытягивает шею. Мареш энергично жестикулирует и таращится на нее своими пронзительными маленькими глазками. Пиявки – вот они кто, безжалостные паразиты, которые кормятся несчастьями человечества и о мертвых говорят тем же тоном, что и о фасонах шляп, кажется, что они коллекционируют человеческие судьбы.
Сегодня, когда Денцель впервые осмелился раскритиковать комментарий Пухера, они с ужасом воззрились на него и нервно заерзали в своих креслах. А потом одобрительно похлопывали его по плечу. Внешнему миру они проповедуют демократию, антимилитаризм, человечность, а у себя внутри соблюдают армейскую дисциплину.
Телефон? Опять Мария? Я еще не вернулся. Сегодня вообще не вернусь.
Надо было видеть, как бесстыдно она вытряхнула на кухонный стол свою сумочку. Тампоны и губная помада полетели на пол. Рядом с солонкой валялись носовые платки, шпаргалки, заколка для волос. Учебные материалы в прозрачных целлофановых папках были аккуратно сложены стопкой на стуле. Она выразила сожаление, что в доме нет молока, но в этом сожалении уже крылся первый упрек. Потом она отвинтила колпачок авторучки, посмотрела ее на свет кухонной лампы. Чернила у тебя есть?
7
Звук такой, словно вапоретто ударился о причал, словно лодка бьется о стену дома. Рита в недоумении поднимает голову, она не может разобрать, что это за шум. Возле нее остановился трамвай, открылись двери. Толстая женщина с собачкой на руках, проходя мимо Риты, толкнула ее и не извинилась. Женщина ставит собачку на тротуар, легонько похлопывает ее по спинке.
Город то и дело исчезает; опрокидывается кран, поднимается вода: Ринг становится судоходным. Я вижу завитушки, позднеготические окна, купола и волосы Эннио, шрам на тыльной стороне его ладони.
Страх будет усиливаться. Когда она произносит про себя эту фразу, у нее впервые делается сильное стеснение в груди. Она достает бумажный носовой платок, присаживается на скамейку возле Городского парка.
Удар – это был конец, после удара ее мысли побежали назад. Я снова и снова предаюсь с ним любви, смеюсь, в памяти снова всплывает то, что уже стерлось в силу привычки.
Это мог быть и Вернер, Иоганна обратила на него мое внимание – покупая хлеб, она увидела его ноги и размечталась. Я залезала в кусты, подсматривала и ждала, пропускала школьный автобус. Только несколько недель спустя я решилась подойти к зеленой ограде из проволочной сетки, поглядеть сквозь ее квадратные отверстия на корт. Он играл с напряжением, да и технически был не так силен, как его противник. Заметив меня, так я вообразила, он стал играть еще энергичней, шипел и завывал, что было мне знакомо по телепередачам. Разговаривать мне с ним не случалось, однако теперь, когда он подбирал мячи, совал их в карман и вытирал о штаны испачканные песком пальцы, то смотрел на меня дольше, чем позволяет нормальное любопытство.
Он любил стоять впереди, у сетки, но редко посылал мячи в аут.
Незадолго до того, как отец получил письмо от учителя истории с жалобой, что я каждую среду опаздываю, мяч перелетел через забор – прямо с лицевой линии, так высоко, что это можно было сделать только нарочно. Я побежала за этим мячом, подобрала его в кустах, где раньше пряталась, и бросила обратно. Тут он в первый раз подошел к забору, поблагодарил меня и спросил, играю ли я в теннис? Я ответила утвердительно, хотя сроду не держала в руках ракетки. Но в игре я разбиралась; как некоторые играют в шахматы с помощью книг, так я играла в теннис на бумаге, расчерчивала корт, рисовала даже судью у сетки и мальчиков, подбирающих мячи, реконструировала его игры: подача противника, сетка, повтор, подача, сетка, 0:15; он всегда выигрывал, сражался за каждый мяч.
Не хочу ли я с ним сыграть? Я залилась краской, пробормотала «нет» и впредь избегала ходить кружным путем мимо теннисных кортов.
«Этого мне нельзя». Фраза, которой все мы были отмечены, как штампом. Отец не давал нам воли, в его руках остаешься ребенком, голым и не сформировавшимся, до тех пор, пока от него не уйдешь. Только мать отсылала нас из дома, и мы, под разными предлогами, могли где-то пропадать. Свобода – это были оконченные дела, воздух за оградой нашего сада, казалось бы, лишенный запахов, ряды домов в деревне, тротуар с идущими навстречу прохожими.
Рита встает. Только не опускаться, не начинать думать. Смотреть вперед, сказал Антон по телефону, ни в коем случае не сводить взгляда с цели, только вперед, повторил он; любое отклонение, любое, даже приятное воспоминание может вывести меня из равновесия. Мое нынешнее состояние можно сравнить с балансированием на гимнастическом бревне. Оглянешься назад и, чего доброго, грохнешься, провалишься в эти совершенно бесполезные годы.
Над входом на двух черных цепях висят часы, стулья и диваны обиты светло-коричневой кожей. Рита постукивает по столу, его крышка не из дерева, а из какого-то пластика под дерево, и всякий раз, когда мимо проезжает трамвай, позвякивает стакан. Здесь нет ничего настоящего, разве что картина в комнате налево, если войти в кафе через верхний вход. Такие занавеси могли бы висеть и у деревенского трактирщика – коричневато-бежевые с высоко подшитым краем, чтобы тяжелее падали.
Я понимаю, почему Антон все снова и снова приходит сюда: в других кафе кельнеры и владельцы взяли за привычку резервировать столики; свободные места у окон или в нишах каждый раз оказываются уже заказанными, хотя в течение всего вечера их так никто и не занимает. Можно подумать, будто кельнеры надеются на приход лучших, более солидных гостей, будто мысленно они обслуживают желанных клиентов, будто для их грез наяву им необходимы нетронутые стулья; пустующие столы.
Хотя уже вечер, стена напротив отбрасывает на тротуар яркий и резкий свет. Рита ищет глазами искусственный источник света, но потом опять углубляется в книгу, которую Антон всучил ей два дня назад. Почитай, это тебе полезно. Прямо как говаривала мать: поешь, это тебе полезно. Однако без неотвязных картин дело не обходится, никакие советы тут не помогают. Эннио сидит передо мной, не говорит ни слова, изредка от души смеется, а вот и подарки, даже напоследок, пирожные от «Тоноло», розы, георгины, гвоздики. Удивительное дело: то, что он дал мне, частица, какую он мне оставил, какую подарила его любовь, – с этим мне уже никогда не расстаться.
Я читаю, и в памяти у меня остается название книги, под конец, быть может, еще какая-то фраза и страница, на которой она значится, так, словно титул книги – это название улицы, а страница, где напечатана та фраза, – номер дома, внушающий мне уверенность, что передо мною то, что мне было нужно. Содержание я не улавливаю, а на обложке тоже толком ничего не написано, чтобы я могла об этом порассуждать. Ведь кто-нибудь из друзей Антона сегодня наверняка спросит, что я сейчас читаю.
8
Час сорок две минуты, а она все еще не пришла домой, не позвонила. Я уже битых два часа хожу взад-вперед по квартире, как некогда ходила мать. Если отец был где-то в пути, если собиралась гроза, надвигался град, мать стояла у окна и высматривала, не идет ли он, даже когда это высматриванье длилось часами. Иногда в той озабоченности, какую она выказывала перед нами, детьми, словно таилась смутная надежда, что с ним на самом деле может произойти то, чего она якобы так боялась. Однажды он на полчаса опоздал – а собирался прийти точно вовремя, поскольку условился встретиться с соседом, чтобы вместе определить, когда кому из них пользоваться дождевальной установкой, – и она уже видела его мертвым, раздавленным, в луже крови. За последние часы я по меньшей мере трижды вылавливал Риту из Дуная.
Встает и удирает, не умея спорить. А начиналось-то все безобидно: она радовалась этому ужину, надела блузку, расстегнув ее на одну пуговицу ниже, чем следовало, флиртовала с Денцелем, терпеливо, наверное в тысячный раз, выслушивала чей-то рассказ о поездке в Венецию и умела даже обуздать назойливость Мареша.
Они все тоже вели себя сносно и, вопреки обыкновению, не представлялись журналистами-всезнайками. Симонич интересовалась, как там Пиа, тактично избегала упоминать Эннио, пустила по рукам фото своей младшей племянницы и предложила Рите свою 150-метровую квартиру на случай, если Пауль вернется из Рима раньше, чем предполагалось. Когда на стол поставили красное вино, я прямо обалдел: Рита встала, взяла бутылку, подошла к стойке и обменяла это красное на безбожно дорогое белое. Мареш, заказавший красное вино, подавленно молчал.
Потом подали рыбу, не то леща, не то палтуса – точно не помню. Это несвежие морские гребешки, сказала она Марешу и принялась копаться у него в тарелке. Свежие подают прямо в раковине, а эти после обработки выложены на блюдо для украшения. Лицо у нее раскраснелось, а руки дрожали. Все молчали, пораженные этой неожиданной выходкой. Вы не поверите, продолжала она, вот, смотрите – она сняла кожу со своей рыбы, – темное мясо, самый дешевый импортный товар, из Японии, свежестью тут и не пахнет, а вы – она поднялась – даете себя облапошить, едите, что вам подсовывают. Она бросила на стол салфетку, достала из бумажника сто шиллингов и положила на тарелку. Это красная цена.
При нормальных обстоятельствах Ритиного спокойствия, Ритиной улыбки хватало на целый вечер, в этом смысле она всегда отличалась от Иоганны, которая застывала, произнеся каких-нибудь три фразы, и безучастно смотрела в окно. Эта улыбка до сих пор у нее не пропала, она неизменно присутствовала, без всякой причины, улыбка безмолвно окутывала ее, была от нее неотделима. Она и не замечала, как эта ее улыбка согревала других, как они становились не такими бесчувственными, не такими высокомерными.
Мы здесь не у «Годио», – сказал я, и не в «Штирийском уголке» или в «Шнаттле», а Симонич бежала за ней до самого выхода, подняла стул, который Рита от волнения опрокинула, тщетно пыталась уговорить ее вернуться.
В такой ярости она была в последний раз, когда поругалась с отцом. Я ухожу. Этого ты не сделаешь. Каждое возражение он подавлял криком. Их громогласная перебранка приманила соседей к окнам, зашевелились занавески, стали приоткрываться двери. С частью своих пожитков она спаслась бегством в сад и вернуться уже не могла, потому что отец бы ее побил, он уже начал кидаться в нее поленьями. Иоганна отослала своего старшенького в комнату, а сама стояла в дверях, как всегда, в нерешительности, не принимая ничью сторону. Заступиться за Риту она не решалась, вместо этого принялась на глазах у соседей собирать и складывать разбросанные поленья, чтобы они не напомнили отцу о Рите, когда он пойдет играть в карты.
Было ошибкой забирать ее в Вену. После стольких неспокойных лет она не может оставаться в том месте, где сейчас находится. Одной ногой здесь, другой там стоит она, раскорячившись, над километрами пространства, все время озабоченная тем, чтобы не упасть.
По крайней мере, она избежала дискуссии о Mezzogiorno[7].
Они без конца пережевывают одни и те же штампы; с Эннио тоже нельзя было всерьез об этом говорить. Для него Италия состоит из двадцати шести миллионов жителей Севера, даже Центральная Италия и Рим не идут в счет.
У нее в комнате – никаких признаков, ничего, что могло бы помочь мне продвинуться в поисках. На тумбочке у кровати лежат фотографии Венеции.
Симонич полагает, что все на свете можно объяснить, правильно подобрав факты. Она проверяет себя, что-то заучивает наизусть, возможные совпадения записывает. Тут уж мне милее Денцель, пусть многое у него выхвачено из воздуха, чистая спекуляция, но ему не откажешь в мужестве, и он знает историю. Юг, поучал он Мареша, с древних времен не знал единого экономического и социального развития, и, в отличие от Севера, средняя буржуазия там всегда оставалась слабой. Даже после объединения Италии ничего не удалось изменить в социальном устройстве – в феодальных структурах – и в землевладении. Я был тогда слишком усталый, чтобы оказать ему поддержку в его рассуждениях; вместо этого мне вдруг вспомнился наш южноитальянский почтальон: братья и сестры его деда между 1880 и 1920 годами эмигрировали в Америку; от этой массовой эмиграции Юг страдает по сей день.
Хотя отец Пино принадлежал к тем фашистам, которые в начале октября 1922 года затеяли «марш на Больцано», заняли ратушу и прогнали бургомистра, в нашем доме сам Пино был желанным гостем. На Рождество он получал огромный кусок сала и две бутылки «санкт-магдаленера», но и в течение года отец снабжал его мамиными сладкими пирогами. Вот если бы все они были такими, говорил отец каждый раз, когда мне случалось стоять с ним рядом в то время, как Пино, всласть наевшийся яблочного штруделя, садился на свой мотороллер, чтобы развезти оставшуюся почту. Его братья, Луиджи и Эудженио, были, в противоположность ему, убежденными сторонниками ИСД[8]. Отец и к ним хорошо относился; в те редкие воскресные вечера, какие он проводил с Пино и с его братьями в вокзальном баре, он словно не замечал, не хотел знать, что приветливость и знание немецкого языка вполне совместимы с неофашистскими взглядами. Эннио же он, напротив, отверг еще до того, как тот был ему представлен. Запах рыбы он чуял даже по телефону, старался не звать Риту, когда ей звонил Эннио, и даже с годами не делал попыток преодолеть разделявший их языковой барьер.
Что мне делать? Вызвать полицию? У отца сейчас набухли бы жилы на висках, вертикальная складка на лбу сделалась бы глубже, а мама заняла бы пост перед домом.
9
Рита обратила на него внимание, когда он только вошел, а потом начисто о нем позабыла. Отметила еще любопытные глаза девятнадцатилетнего парня, который несколько секунд выдерживал устремленный на него взгляд, а потом начинал искать собственное отражение в окне.
Теперь, подсев к стойке рядом с Ритой, он уже не скрывает своего любопытства: смотрит и смотрит, не отрываясь. Рита разглядывает его лицо, пытается понять, кто ее так заинтересовал – ребенок или уже мужчина. Сочетание вожделеющего взгляда и еще не тронутого бритвой подбородка, позы, в какой сидят только взрослые мужчины, и пальцев, игриво похлопывающих по джинсам, – это сочетание Риту возбуждает и в то же время заставляет смотреть в другую сторону.
Она вынимает из сумочки листок бумаги и делает вид, что читает, но он не отворачивается, даже когда она смотрит на «молнию» у него на брюках. Он перехватывает ее взгляд, правой рукой похлопывает выпуклость, почесывается.
Здешний кельнер, вдруг слышит Рита собственный голос, похож на служителя в моей бывшей школе. Когда шел дождь или снег, он стоял у входа и следил за тем, чтобы все учащиеся хорошенько вытирали ноги о половик; стоило кому-то перескочить через этот огромный войлочный половик, как его за ухо тащили обратно. Почему ты на меня смотришь? Он улыбается и вытаскивает из пачки сигарету. За спиной у Риты на освободившийся табурет взбирается старая женщина и заказывает стакан красного вина. Губная помада осталась у нее только в уголках рта.
Парень показывает пальцем на свою рюмку. Хотите? Не дожидаясь ответного кивка, заказывает два виски. Вы нездешняя? Из деревни, восемь часов поездом на юго-запад, название тебе ничего не скажет.
Барменша с размаху ставит стаканы на стойку, так что звякают кубики льда. Парень их выуживает, пропускает через пальцы, и они соскальзывают в пепельницу. Потом опять берет пачку сигарет, сжимает ее одной рукой, а другой хватается за причинное место. Он это делает так часто, думает Рита, будто это его любимая игрушка. Судя по всему, он из хорошей семьи. Она его разглядывает. Смысл жизни для родителей. Чтобы дети росли здоровыми, они запрещают им мазать хлеб маслом. Отпрысков состоятельных семей в нашем классе можно было узнать по тому, что после уроков они ныряли в продуктовый магазин, покупали масло в пачках по двести пятьдесят граммов, срывали обертку и начинали есть. У Катарины на полке стояла даже пустотелая книжка, в которой она прятала сладости.
Можешь говорить мне «ты».
Петер. Он протягивает ей руку.
Старуха проливает вино. Рита бросает взгляд на ее руки: они дрожат, а руки крепкие, потемневшие от загара, руки крестьянки после жаркого лета, однако на каждом пальце – кольцо.
Стаканы из-под виски уже пусты, он заказывает новую порцию, а сам, пройдя мимо Риты и не преминув похлопать ее по спине, направляется в туалет. Когда старуха закуривает, руки у нее так трясутся, что кажется, спичка погаснет прежде, чем язычок пламени дотянется до сигареты. За нею уже никто не придет, думает Рита и делает большой глоток из нового стакана. Никто не будет стоять позади нее в автобусе, как я стояла позади Эннио в каюте катера, давно уже мать ему, а не возлюбленная, изготовясь на случай, если он вдруг потеряет равновесие. Как мне было стыдно, когда все вокруг смотрели на его руки, неспособные уже сунуть листок бумаги в прорезь кармана. Он все совал и совал его мимо. Когда он стоял у раздвижной двери и пытался выйти, то не мог нащупать ручку и рванулся напролом так, что задребезжали стекла. А вечером – он лежал на ковре в передней – мне хотелось его поколотить: я подползла к нему на коленях, подняла руку, сперва будто бы для того, чтобы отвести волосы за ухо, потом рука взлетела вверх, размахнулась и – неожиданно для меня самой – застыла в воздухе. Моя рука, которой я хотела его ударить, так и торчала, вскинутая вверх. Я никогда ее такой не видела, никогда не представляла себя в такой позе, даже в своих фантазиях.
Рита придерживает пепельницу большим и указательным пальцами и быстро гоняет ее туда-сюда.
Если я когда-либо и пыталась кого-то побить, то лишь в состоянии аффекта, неожиданно для себя и для детей Иоганны. Это бывал всего-навсего приступ дурного настроения. Моя рука на миг делалась самостоятельной, выходила из-под контроля, чтобы тут же лишиться силы. Я никому не причинила боли. А вот Эннио я хотела пустить кровь.
Петер опять сидит на табурете у стойки. Кто хватается за свои гениталии, говорит Рита, способен отвести болезни и несчастье, только ты должен делать это той рукой, что ближе к сердцу, а не правой. Тебя что, однажды поколотили? Он удивленно смотрит на нее, отрицательно качает головой и, не улавливая связи, произносит: лед тает. Рита оставляет пепельницу в покое. Мой брат, говорит она с разгоревшимися щеками, в детстве находил неприятное и необъяснимое для меня удовольствие в предстоявших ему стычках с отцом. Когда, ожидая наказания, он слышал, как отец поднимается по лестнице, слышал его шаги и одышливое сопенье, то садился за стол для учебных занятий и, сжав кулаки, набычившись, ждал, пока откроется дверь. Я попробовала однажды поступить, как он, но эта воинственная поза стоила мне всех моих сил. Пытаясь ее сохранить, я совсем сникла, кулаки разжались сами собой. Почему ты ничего не говоришь?
Петер пододвигает ей третий стакан. Теперь ваша очередь. Извини. Твоя очередь.
Вначале, говорит Рита и крепко держится за пепельницу, было счастье, потом бегство от него. Кампо-Сан-Джованни-э-Паоло, улица С. Дзаниполо, Санта-Мария-деи-Мираколи – знаешь, где все это находится? Тогда я думала, что дни должны дополнять собою сны, а не наоборот. В церквах там разлит такой прозрачно-чистый свет, что кажется, будто камни теплые.
Где же это такое?