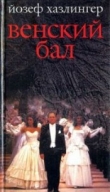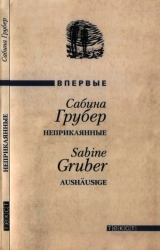
Текст книги "Неприкаянные"
Автор книги: Сабина Грубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Из огня да в полымя, заявил однажды Антон, когда Эннио после обеда, ровно в два часа вышел из-за стола. Такая жизнь без всяких событий свела бы его с ума. Дома он как-то раз высказал матери свое удивление тем, что у них вообще что-то происходит, что из всех этих сонливых, безрадостных тел что-то еще может рождаться, расти и выживать, пока смерть, единственная настоящая сенсация для остающихся в живых, не положит конец этому однообразию длиною в жизнь. Смотрите-ка! – воскликнул Антон, стоя в проеме балконной двери. Еще не отзвонил колокол по умершему, а наша соседка уже садится на велосипед, чтобы из объявления у дверей церкви узнать имя покойника. Ему невыносимо изо дня в день наблюдать, как алчно деревенские бабы жаждут новизны, хоть бы самой малости смерти; как они свое любопытство прикрывают фальшивым сочувствием, ведь время от времени им необходимы покойники рядом, чтобы они могли считать себя живыми. А когда отец как-то за обедом заговорил о двух сплющенных автомобилях, которые он видел в кювете по дороге в город, когда он в энный раз описывал нам брезент, из-под которого торчал ботинок, свеженачищенный новый ботинок, то Антон сказал, что, останься он в деревне, тоже купил бы машину и заделался лихачом.
Здесь, размышляет Рита, нет вообще никаких машин, чтобы можно было разогнаться и врезаться в стенку, чтобы какая-нибудь из них на худой конец помогла человеку бежать. Все, что хочешь взять с собой, надо тащить на своем горбу, отъезд всегда приходится планировать заранее; поэтому ничего не остается, как брать с собой лишь самое необходимое: два больших чемодана и сумку через плечо, которая врезается в тело и при каждом шаге мотается туда-сюда.
Рита не спускает глаз с окон. Увидев, что по переулку идут две женщины, она, словно забыв что-то, возвращается, подходит к двери, отпирает ее. Ждет, пока не стихнут шаги, потом снова выходит в переулок, убеждается, что в окнах все еще нет света.
Дома отец имел обыкновение к полуночи запирать дверь и оставлять ключ в замке, так что поздно возвращаться домой она и Антон могли только по очереди, поскольку один из них всегда должен был следить за тем, чтобы левое подвальное окно оставалось приоткрытым. Со временем отец надумал забрать это окно кованой решеткой, но к тому моменту они уже могли звонить в дверь: матери не было в живых и не надо было щадить ее сон. Каждую ночь вытаскивали они старика из постели, слышали, как он ругается, как хлопает дверью спальни, пока он не уступил и не смирился с их отсутствием по ночам.
Заслышав вдали голоса, Рита преодолевает свою нерешительность и входит в дом. Торопливо, не давая себе передышки, взбегает по лестнице, останавливается у двери в квартиру, прислушивается. Ничего не слышно, тогда она набирается духу и переступает порог. Она расстегивает куртку, думает, надо ли ее снимать. Из осторожности с минуту стоит у двери, зовет его, заглядывает в кухню, в гостиную, в ванную, спотыкается о пустой ящик. Непроизвольно хватает его, чтобы отнести в кладовку, но потом решительно отдергивает руку, качает головой, сердясь на себя. Такие ящики он использует, чтобы замораживать остатки рыбы. Спустя дни, даже недели, он достает эту мороженую камбалу из холодильной камеры, где-нибудь за колоннами сбрызгивает ее водой, а потом, ближе к обеду, чаще всего уже заплетающимся языком, предлагает ее женщинам как свежий товар. Находились покупательницы, которые разгадывали его маневр, они проверяли, есть ли у рыбы внутренности; потрошеная рыба, как им было известно, это почти всегда лежалый товар. Если рыбу приносили обратно, потому что она воняла, он отрицал, что она куплена у него. Как упрямый ребенок, он до конца стоял на своем, раздраженно перебирая морские гребешки или отворачиваясь с бранью.
Быть может, я как раз и хотела, чтобы он меня застукал, чтобы я наконец-то, и не по капризу случая, была вырвана из этой рутины, – Рита протирает пальцами глаза, берет ящик и ставит его перед дверью. Каждая вещь здесь, которую она тысячи раз вертела и переворачивала, вытирала и полировала, сейчас внезапно утратила всякий смысл. Что ей упаковать, а что оставить, что было куплено, а что подарено – кем и по какому поводу? С каждым предметом связано какое-то слово, образ, который остается или уплывает, один долго упрочивали, другой отпускали. Еще раз вспоминается: сначала нежный звон, потом – дребезжанье, морские твари в мойке, мрамор, потемневший от чернил каракатиц; еще раз – повелительный взгляд, удар по лицу перед домом Альдо.
Словно только сейчас приняв решение, она в лихорадочной спешке бросается в спальню, распахивает шкафы, выдергивает ящики. Свои лучшие платья бросает на кровать, остальные нетерпеливо заталкивает обратно. То и дело подбегает к окну взглянуть на вход в дом. Пока ее глаза отбирают вещи, уши ее – в переулке. Снизу доносятся звуки, и она на миг застывает. Нет, эти голоса и шаги к ней не относятся, она снова берется за дело, достает из ящика паспорт, копается в блузках и бумагах, разворачивает, складывает.
Час спустя Рита сидит в ночном поезде на Вену. Она сдвигает сиденья, ложится так, чтобы видеть дверь. Две женщины, проходя мимо, задевают рюкзаками окно купе, потом наступает тишина. Чтобы лечь поудобней, она открывает один из чемоданов, достает пропахшую нафталином каракулевую шубу и кладет под голову. Все ли чеки и кредитные карточки сунула она в сумочку, думает Рита; она пытается прикинуть, сколько составят сбережения Эннио плюс ее собственные вместе со стоимостью ее украшений.
Что-то я должна была ему сказать, я ведь так и не научилась возражать в должный момент. Слова всегда приходят слишком поздно, плетутся в хвосте у мыслей. Антон собирал вычитанные фразы, в студенческие годы наверстывал упущенное, будто одержимый, исписывая лист за листом. Однажды она слышала, как он сказал: его не удивляет, что эта маленькая страна, эта окраинная страна породила такое множество журналистов; все они, словно кто-то их заставляет, пытаются писать, дабы преодолеть немоту своего детства, с увлечением и усердием овладевают литературным немецким, на котором до сих пор не научились, ни дома, нив школе, говорить как следует. Они возмещали свой языковой комплекс неполноценности, недостаток красноречия тем, что писали бесчисленные посредственные статьи. Или, может, ему назовут хоть одного, одного-единственного человека в этой стране, который способен произнести без ошибок получасовую речь? Он не представляет себе, как мог бы жить среди людей языково-убогих, тратить часы и дни на то, чтобы приводить в божеский вид беспомощные речи косноязычных политиков.
6
Я же знал: ничего из этого не выйдет. С самого начала такая неуверенность. Стоит ей заметить, что я отвлекся, торопливо листаю на улице свежую газету, как она тут же поворачивается к какой-нибудь машине, достает зеркальце и мельком оглядывает рот. Глаза не забудь, говорю я. Обидевшись, она идет к ближайшей стоянке такси.
Почти целый вечер она посвятила тому, чтобы развеять мои предубеждения против учительниц. Такие женщины, как она, скрывают свою профессию. Если это уже невозможно, упорно ее защищают. Она говорила о вреде для здоровья, об уровне адреналина в крови, который во время уроков становится выше, чем у рабочего-сдельщика, а иногда превышает и уровень пилота «Формулы 1». А я расхохотался: единственная ошибка, какую я сделал во время того разговора. Нет, со мной она не хотела, разве что в ту ночь, когда мы с ней познакомились у Мареша. Мне надо бы сейчас пойти домой и засесть за статью про фотографа, а не болтаться здесь.
У того лысого кровоточит большой палец. Барменша берет через стойку его руку, поливает порез фруктовой водкой, рвет салфетки и промокает кровь на пальце. Детьми мы подливали курам настойку горечавки и смотрели потом, как они спотыкаются, а Иоганна вешала Рексу на шею жестянку, пес так пугался ее бренчанья, что носился по двору, словно убегая от чудовища.
Ну и куда теперь, если охота заняться этим с первой встречной? Позвонить Марии и перед ней извиниться? Вызвать сюда, в бар, Симонич, чтобы потом, в два часа ночи, когда она будет садиться в свою машину, спросить, можно ли мне думать о ней в постели, держа руку ниже пупка?
Я не могу быть один, даже если без конца этим хвастаюсь. И Рита не может. Что она сказала – в котором часу приходит поезд?
Фитиль тлеет и чадит, огонь свечи невыносим, когда у тебя нет компании.
Приезжает она наконец или нет? Сегодня Ритин голос звучал твердо, а не плаксиво, как обычно. Так все превращается в свою противоположность: в первые недели после ее знакомства с Эннио мне приходилось посылать ей книги про рыб. Она была увлечена, рассказывала мне тогда по телефону, что есть рыбы, которым, чтобы плыть, надо извиваться всем телом, а другим достаточно волнообразно шевелить хвостом. Даже прочла мне целую лекцию о палтусе, о скатах, живущих на дне морском. Правда, лишь много позже призналась мне, что к тому времени еще не прикоснулась ни к одной из этих тварей. Она привыкала, в пятницу покупала форель[3], брала ее к себе в комнату, считала чешуйки, измеряла линейкой. Горянка сошла в море, там вышла замуж и теперь не сводит глаз с песка, ступая между раками по щиколотку в воде.
7
Рита гасит окурок, возвращается в купе. Поезд идет теперь медленнее. Уже стемнело, но можно различить вдали горы Фриули, черные треугольники на фоне беззвездного неба. Она становится коленями на одно из сидений, смотрит в окно, пытаясь по расположению и частоте огней угадать, через какие населенные пункты они проезжают. Незадолго до границы она начинает копаться в сумочке. Кредитную карту Эннио прячет в трусики, наличные деньги и чеки кладет под суперобложку книги. Услышав, что в коридор вошли таможенники, закрывает глаза.
Через несколько дней, размышляет Рита, они опять будут состязаться в уженье рыбы. Встанут в ряд на мостках, у каждого самое малое пять удилищ, закрепленных в камнях, и, едва рыба клюнет – внимание! – подсечь, выхватить из воды, прихлопнуть. А бывает, какую-нибудь рыбину бросают в ведро живьем, поверх других, и она там дергается, бьет хвостом. Иная и выскочит из ведра, и, незамеченная, останется лежать – горстка чешуи на горячем камне – с разинутым колючим ртом.
Пограничник раздвигает дверь купе, зажигает свет. Рита протягивает ему паспорт, откидывается на спинку кресла, скрещивает ноги. Она чувствует, как съезжает по телу кредитная карта, берет сумочку, кладет ее на колени. В коридоре какой-то ребенок пытается опустить окно. Пограничник качает головой и показывает ей паспорт. Паспорт Эннио.
8
Ни собачьего лая, ни гуденья автомобилей, которое меня раздражает, Мареш не торчит в дверях, Пауль в Риме, но магнитофонная запись ничего не дает: неприятный, как будто нарочито измененный голос, и разговор сплошь на узкоспециальные темы. Какое мне дело до фокусных расстояний и формата пленки.
На оконном стекле – отражение круглой лампы: кажется, что за окном полнолуние.
В первый год Эннио еще старался говорить по-немецки, как и вообще сохранить кое-что из ее прежнего мира. Он ходил на вокзал, чтобы принести ей немецкоязычные газеты, даже строил планы поездок в Вену. Мне он нравился. Дело было не в рыбах, они вышли на первый план, когда Рита стала искать решающие доводы; в то время крестный путь был у нее уже позади. В конце концов каждое слово оказывается фальшивым, сводится к своему буквальному смыслу и не оставляет выхода.
Всегда одна и та же история: когда я влюбился в Марианну, то думал, что все мои прежние увлечения не идут ни в какое сравнение с этим, и был убежден, что вероятность нашей встречи составляла единицу на миллион.
Пива в доме нет, хоть шаром покати; а я, как нарочно, должен ломать голову над темой: «Фотография» – над лживостью фотоснимков, над манипуляцией ими как искусстве, словно вся история фотографии не была одновременно историей сплошных манипуляций. Уже черно-белые фотографии дедушки с бабушкой ретушировались с помощью кисточки и комка ваты. Вайднер невежда, он ничего не знает. Мне приходится теперь самому придумывать то, что он должен был мне сказать; у него не нашлось даже той фотографии Ленина с Троцким – известного случая «откорректированного» изображения. А что с ним произошло? – спросил он меня.
Кто знает, может быть, Марианна так же быстро убрала меня с наших общих снимков, как внезапно исчез с фотографий Троцкий.
Наши полеты во время отпуска были рассчитаны так, чтобы Марианна получила оптимальные возможности для фотосъемок: прямо перед восходом солнца или прямо перед заходом. При этом большинство снимков в воздухе все равно оказывались неудачными, ведь рейсовые самолеты летят слишком высоко и все заволакивается дымкой. Она была недовольна, если ей не удавалось занять место у окна, протискивалась к другим окнам, держала фотоаппарат с наклоном, не проверяла ни экспозицию, ни размер кадра и всему удивлялась. Когда мы летели в Нью-Йорк, она сидела поблизости от реактивного двигателя; все снимки вышли нечеткими, мерцающий горячий воздух действовал, как мягкорисующий объектив. Меня злила ее манера перестраивать наши планы. Ей было неинтересно гулять со мной по городам, любоваться природой, вкусно есть; она беспрерывно искала сюжеты, стремилась к максимальной фотодобыче. Что касается еды, ей бы только не умирать с голоду: одной булочки и двухсот граммов колбасы хватало на целые сутки.
Рита всегда покупала самые лучшие продукты, а Эннио запасался овощами у своего приятеля на площади Санта-Мария Формоза; так или иначе, еда у них была изысканная, вкусная, мясо тоже превосходное. Теперь она наплачет мне полную жилетку, как все тут ужасно: овощи из парника, мясо жирное, вино невозможно в рот взять. Скверная еда и неудачные покупки – ее любимые темы.
В Вене она будет задним числом превозносить свою безотрадную жизнь, с восторгом вспоминать каракатицу с полентой или печенку по-венециански, словно еда – это ее родина.
Я ни слова не понимаю. Надо, чтобы Денцель сделал свое интервью более внятным – пусть поупражняется, не то я заставлю его перенести весь текст на бумагу. Еще раз: пленка, негатив, снимок – этого больше не понадобится, цифровая камера заменит привычные процедуры. Полученная картинка появится на мониторе и через спутник будет передана по всему миру.
А как можно разоблачить цифровые фальсификации?
9
Одну минутку, говорит Рита, стараясь сохранять спокойствие. Она достает из кошелька удостоверение личности и протягивает его пограничнику. Куда она едет? К брату в Вену, ее муж уже там. Офицер широко улыбается и уходит. Итальянские таможенники пробегают по коридору, не заглядывая к ней в купе, только ребенок, так и не одолев неподвижное окно, прижимается лицом к стеклу двери, расплющивая нос. Когда Рита зовет его к себе, он удирает.
Глава вторая
1
Каждое утро, думает Рита, я просыпаюсь около четырех часов. Каждое утро смотрю на хмурое небо, на ветви деревьев, качаются они или нет, ищу просветы в облаках. Страх, что я не смогу уснуть, отравляет мне весь вечер. У меня все больше сдают нервы. Стоит мне только подумать о том, чтобы лечь, как я начинаю дергаться. К напиткам, которые возбуждают, я не притрагиваюсь, пью вместо них молоко или мелиссовый чай, стараюсь ровно дышать. Антон, глядя на меня, качает головой. Займись онанизмом, советует он. После оргазма удивительно хорошо спится.
Уже в середине дня я знала, что нынешней ночью мне не заснуть, и приняла все профилактические меры: бегала на рынок, чтобы купить одну-единственную луковицу, три раза взбиралась по лестнице на пятый этаж – туда и обратно; выносила мусор, стеклянные банки и макулатуру, убирала, проветривала комнаты, наедалась до тошноты, но даже переполненный желудок не вызывал ощущения вялости.
Бессонницу можно предвидеть, она дает о себе знать заранее: голова становится самостоятельной, у нее открываются собственные резервы, некий потайной мотор, который заводится, при том что остальное тело этому помешать не в силах. Так что нет никакого смысла доводить себя до изнеможения, телесная усталость очень редко приводит к вожделенной сонливости.
Рита чувствует какое-то давление в висках, будто бы что-то жмет на них изнутри и готово вырваться наружу. В доме напротив зажегся свет – в том самом доме, фасад которого вчера ночью был ярко освещен горящими окнами. Рите ни разу не удалось рассмотреть ту квартиру, занавеси задернуты днем и ночью. Из трубы идет дым, трос виднеющегося сзади подъемного крана болтается из стороны в сторону. Рита встает, на цыпочках пробирается на кухню. На столе стоит тарелка с колбасой и сыром. Она впихивает в себя все, что находит: ломтик ветчины, остаток сыра горгонзола, два куска хлеба. Потом берет из холодильника молоко, наливает в стакан и уносит с собой в комнату. В небе поблескивает самолет. Отяжелевшая и сонная, Рита падает на постель. Она поудобнее подбивает подушку, натягивает на себя одеяло. Когда она снова поворачивается к окну, самолета уже нет – он скрылся за грядою туч. Она считает часы, оставшиеся до подъема, кончиками пальцев массирует виски. На какой-то миг ей кажется, будто она проваливается в сон, но вдруг раздаются шаги, это Антон выходит из своей комнаты – сна как не бывало, и она опять ворочается с боку на бок.
Я слышала их всех, когда они приходили домой, – отец, Иоганна и Антон. Иоганна всегда снимала туфли, в темноте проскальзывала к себе в комнату, и все-таки они знали, в котором часу она вернулась, делали ей выговор за завтраком. Что люди подумают? Разве можно незамужней гулять по ночам!
Ни одной ночи не проспала я целиком. У меня было занятие поинтересней – игры со светом и шумом. На охоту я отправлялась далеко за полночь. Могла вслепую найти любой выключатель: сперва лампа на тумбочке возле кровати, потом – большая люстра в комнате, бра над зеркалом в коридоре, плафоны на лестничной клетке и, напоследок, неоновые трубки над вытяжкой в кухне – я все время прислушивалась и глядела в оба, пока наконец не ступала на холодный кафельный пол кухни и не добиралась до съестного. Часто в дверях появлялась мать. Что-нибудь случилось? Иди, ложись спать.
Сама она, наверное, тоже страдала бессонницей, во всяком случае, говорила об этом с соседкой. Виноват всегда был ветер или кофе, выпитый поздно вечером, на боли она жаловалась лишь изредка.
Кто пытается насильно заставить себя спать, ни за что не уснет. Я считала лучики света, падавшие сквозь щели в ставнях, или лежала с закрытыми глазами и напряженно прислушивалась к движениям матери. В годы болезни у нее развилась привычка выходить из дома посреди ночи. Антон, возвращаясь домой, не раз подбирал ее у выезда из деревни – нелегко было уговорить ее сесть в машину. Ей надо подышать свежим воздухом. И еще: темнота ее не пугает. Пальто она надевала прямо на ночную рубашку.
Днем она наверстывала упущенное – засыпала везде, где бы ни присела: на стуле в кухне, в глубоком кресле в горнице, на лавочке перед домом; я всегда заставала ее спящей и наблюдала, как она, в зависимости от формы сиденья, быстрей или медленней клонилась вперед, но тут же рывком выпрямлялась; пассажиры, что так засыпают в поездах, в этот миг открывают глаза и с виноватым видом озирают окружающих. У нее глаза оставались закрытыми, и она продолжала спать как ни в чем не бывало. Только когда рядом оказывался отец, она мгновенно оживлялась, готовая тотчас вскочить: тебе что-нибудь нужно? Хочешь есть? Она предлагала ему себя, навязывалась, хотя, с другой стороны, хотела поскорее от него отделаться; едва заслышав, как он открывает дверь, бежала навстречу, брала у него пальто, куртку, чтобы повесить их проветриваться во дворе. Он не сознавал, что она просто не дает ему развернуться. Иногда мне казалось, будто она хочет от него избавиться, будто ей необходимо его убрать; только ночью она не могла ему ничего подать, ночью он отвоевывал свое место, комната полнилась им, его шумным дыханием, запахом его сна. Быть может, она желала ему даже смерти, представляла себе, как холод постепенно подступает к его сердцу, парализует его и уничтожает.
Рита слышит шум воды, к нему примешиваются звуки шагов, открывается и захлопывается дверь, вдали что-то громыхает. Пять часов утра, небо светлеет, на заднем дворе воркуют первые голуби. Она идет в ванную, моет лицо, изучает его в зеркале – каждую пору, каждое пятнышко. Чем ближе она придвигается к своему отражению, тем старше себя ощущает. Только сейчас замечает она мыльную пену внизу зеркала, опасную бритву на полочке возле умывальника.
Она гасит свет, подходит к вешалке: рядом с кожаной курткой Антона висит дамский жакет. Рита останавливается в темноте – до нее доносится хихиканье. Испуганная, взволнованная возвращается она к себе в комнату, дверь оставляет чуть приоткрытой, чтобы не упустить возможность позавтракать вместе с новенькой.
Некоторое время Рита нерешительно стоит посреди комнаты, разглядывает фотографии на письменном столе Пауля – его пятилетнего племянника с высунутым языком; черно-белый снимок, на котором запечатлен рынок: между фруктовым и овощным прилавками какая-то женщина продает гладиолусы. Рита не может вспомнить, откуда она знает этот рынок.
Если я сейчас же не лягу, то днем буду как мертвая. Она открывает окно, бросает подушку на пол, растягивается. Небо уже совсем светлое. В квадрат окна неуклюже протискиваются тучи; перед тем как заснуть, она слышит дребезжанье лифта и представляет себе, как красноватая деревянная клетка спускается вниз по шахте из кованого железа, потом мысли ее начинают путаться.
2
У меня голова раскалывается, а я еще должен идти на летучку, должен слушать нашего доморощенного социал-демократа: Мне понравилось. Мне не очень понравилось. Мне совсем не понравилось. И это называется подробным разбором статей. О стиле никто и не заикается. Мареш вправе по-прежнему пользоваться газетными штампами, чтобы воссоздавать в своих внешнеполитических репортажах атмосферу происходящего.
Редакционное совещание теперь мало что дает. Вчера я перепил водки. Пухер на этой неделе пошлет меня на самую провальную премьеру или даст задание написать что-нибудь к десятой годовщине смерти Грейс Келли. Я бы мог сочинить маленький детективный роман, высказать ошеломляющие догадки насчет аварии, вызванной резким поворотом, что-нибудь насчет злонамеренно испорченных тормозов или незнакомца за рулем. Заставлю Вайднера поиграть мышью: нажал кнопку, и действительность превращается в увлекательный сюжет – компьютер вмонтирует любовника, Грейс Келли будет подана в новом свете.
Рита все съела. Я не мог предложить Марии даже чашку кофе – от литра молока, что я вчера принес, ничего не осталось.
Все в точности так, как я себе представлял: кофе она пьет только с молоком и с сахаром, страдает головными болями, не терпит неясности в отношениях, а я не охотник по ночам с хихиканьем обжиматься на кухне и лишать себя удовольствия от сигарет, поскольку она не переносит, когда я курю в постели.
Было бы, наверное, неплохо, если бы я предложил им мою старую статью про «Il Sole 24 Ore»[4]; Пухер, конечно, поверит, ведь «Файнэншл таймс» – крупнейшая европейская экономическая газета. Да и кто здесь говорит по-итальянски: любители оперы, приграничные спекулянты? Но уж конечно, не финансовые магнаты.
Рита? С ней все же что-то неладно.
Я уже однажды предлагал им набросать портреты видных итальянских газет, но это их не интересует, они и мысли не допускают, что целая страна может обходиться без бульварной прессы, что газета, полностью посвятившая себя экономике и почти целиком сосредоточенная на внутреннем рынке, может процветать. Дело в том, что итальянцы читают газеты не для развлечения. Даже у здешнего трактирщика под клерикальной газетой виднеются розовые страницы, и никто не позволит себе что-нибудь сказать против «чуждой» газеты. Рубрики «Norme е Tributi» и «L’Esperto Risponde»[5] некоторые из них читают не менее внимательно, чем объявления о смерти. Когда речь идет о деньгах, о наживе, все принципы забываются. Эти люди совершенно точно знают, что больше нигде не найдут такой подробной информации о новациях в законах, о налогах и судебных решениях, которые имеют отношение к их личным доходам.
Пухер пошлет меня с этим в отдел экономики, там поначалу статью отвергнут, из местнических интересов; если я буду упорствовать и через неделю приду опять, сочтут материал слишком «специфическим». Понимаете, господин Ортнер, эта газета в нашей стране неизвестна. Вообще-то мы давно уже планируем что-нибудь в этом роде, – на самом деле идея пришла в голову завотделом именно в ту минуту. «Что-нибудь в этом роде» появится в газете через месяц, например под названием: «Европейские экономические газеты. Сравнительный анализ». Я буду узнавать там целые абзацы.
Дверь к ней в комнату открыта. Она что, боится?
Как ей втолковать, что взять там уже нечего. Он и тарелки целой не оставил. Погром среди бела дня. Пытался даже демонтировать клозет. Стаканы, чашки, зеркала – все вдребезги. Умывальник загремел в переулок и превратился в груду осколков. Туркетто якобы выудил оттуда затычку для стока как доказательство. Я так и вижу их перед собой – венецианских домохозяек в коротких демисезонных пальтишках, согбенных пенсионеров, вижу, как они спешат спрятаться на почте, в мясной лавке, в магазине масок, как они пытаются из-за болтающихся на крюках говяжьих и свиных туш, из-за солнечных и лунных личин углядеть то окно, из которого вывалилась блестящая фаянсовая глыба; а за витриной с плакатом «Ali di polio, punta di petto, trippa, arrosti»[6] над головой Туркетто раскачиваются, ударяясь одна о другую, пустые вешалки.
Летом, когда он закрывал свою лавку только зеленой решеткой, шум его холодильной установки был слышен даже в квартире у Риты.
Пиа права: сейчас, пока Эннио в таком состоянии, не надо пускать ее в Венецию. Рита могла бы встретиться с нею в Удине или на полдороге, в Клагенфурте, а я ее туда отвезу.
3
В полдень дверь к нему в комнату закрыта, на кухонном столе записка: «Отсыпайся, я тебе позвоню».
Рита чувствует запах дождя, натягивает майку, идет к окну, чтобы его закрыть. На кузовах автомобилей – блики пробивающегося сквозь тучи солнца. Кто-то в доме начинает стучать молотком. Взгляд ее снова задерживается на снимках – теперь она знает, какой это рынок. Это Терезианский квартал Триеста, Эннио много раз там с нею бывал, особенно в первые годы их совместной жизни.
Как большинство венецианцев, Эннио держит на материке автомобиль, белый «фиат 127», который он забрал у своей тетки, поскольку у той прогрессирует близорукость. Хотя про жителей острова говорят, будто они худшие водители в Италии, Эннио всегда ездил осторожно, иногда прямо-таки полз, словно считал своим долгом каждой нашей автопрогулкой доказать мне обратное; его отец был горе-водителем, он все время прибавлял скорость, чтобы вдруг разом затормозить, да так, что его пассажира швыряло на ветровое стекло, если он не успевал уцепиться за ручку двери или за «бардачок».
В Триесте мы жили на виале 20, Сеттембре, у дочери двоюродной сестры его матери. Всегда находились какие-то родственники, обижавшиеся, если ночевали не у них. Квартира Антонеллы расположена в центре, на Воробьиной аллее – пешеходной улице, окаймленной платанами и застроенной домами с узкими балконами. В прошлом году я ездила туда только с Антоном; еще в поезде он начал отмечать на карте домашние адреса, места работы и маршруты прогулок героев романа одного писателя из Триеста, так что весь уик-энд мы были заняты тем, что отслеживали пути-дороги выдуманных персонажей.
Рита злится, что проспала. Ищет в ванной и в комнате Антона следы новенькой, но ничего особенного не замечает. Разочарованная, садится за стол на кухне, грызет кусок черствого хлеба, обшаривает глазами все вокруг, но не находит ничего, что бы ее заинтересовало.
Я просыпаю все утренние часы, после полудня сижу и сижу, пока не приедет Антон и не захватит меня с собой; тогда я опять ощущаю себя, ощущаю волнение, легкое беспокойство, наполненное ожиданием, и снова все становится немножко таким, как в первое время с Эннио. Люди разговаривают, непрерывно что-то рассказывают, хоть и по-другому, без блеска, без всякого контакта. Они говорят с равнодушными глазами, повторяют то, что написали в своих газетах, а я молча перебираю сравнения, что приходят мне в голову. Скажи что-нибудь, говорит обычно Антон, но я ковыляю следом за их словами и все больше от них отстаю, пока совсем не теряю из виду, свернув на тропу собственных мыслей.
На рыбном рынке сейчас начинается большая уборка, мойка и чистка. На секунду у Риты просыпается сочувствие к Эннио, она представляет себе, как он ставит под воду металлические лотки, как с намокшими рукавами и в испачканном кровью фартуке перетаскивает ящики в холодильные камеры.
Я хочу, чтобы текло время, размышляет она, и больше ничего, пусть все идет своим чередом и ничто меня не торопит, как было тогда, когда я ушла от отца. Вначале боль носишь с собой, чувствуешь ее повсюду – то это тяжесть в желудке, то у тебя стучит в висках, то судорогой сводит мышцы или плохой вкус во рту; в конце концов научаешься эту боль с себя сбрасывать, изливать ее на ландшафты и предметы.
Я стояла на пляже, наблюдала, как волны впиваются в песок, и была счастлива, видя эту картину, не замутненную воспоминаниями, это синее небо – пока поблизости от меня не остановился грузовик и большая группа рабочих с изогнутыми вилами не принялась сгребать водоросли и бросать их в кузов с откидным бортом; тут морская трава в моих глазах преобразилась в сено, грузовик – в красный трактор. В другой раз – уже опять наступило лето – я провела полдня на Сан-Эразмо, бродила вдоль полей, засаженных цуккини и томатами; мерцал знойный воздух, у запруды квакали лягушки, неподвижно спариваясь на солнце. Внезапно раздался рев мотопилы; я вздрогнула, обернулась и увидела вокруг сперва только лес, потом сплошную лесосеку, а за нею сложенное штабелями долготье и столбы, что удерживали эти штабеля. Сломя голову помчалась я через поля, будто бы за мной кто-то гнался. Едва переводя дух, в грязных босоножках прибежала на пристань; мотопилы уже не было слышно, островитяне пялились на меня, удивляясь, зачем это я бежала, если сколько ни смотри, парома нигде не видно.
Пока Рита снимает со стола скатерть, чтобы вытряхнуть ее в окно, звонит телефон. Организатор культурных мероприятий по фамилии Клейн желает поговорить с Антоном, она диктует ему номер редакции. После того как он кладет трубку, Рита включает автоответчик и идет в ванную, чтобы принять душ. Телефон звонит опять, она выключает душ, ждет, какой голос послышится из аппарата. Узнав Антона, выскакивает из ванны, хватает трубку. Под нею образуется лужа, на паркете остались мокрые следы. Рита дрожит от холода. Послушай, я вышла из душа. Понятия не имею. Кто твоя новенькая? Пяткой она разгоняет по полу воду, чтобы она скорее высохла.