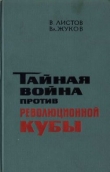Текст книги "В тюрьме и на «воле»"
Автор книги: С. Устюнгель
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)

ПРЕДИСЛОВИЕ
28 ноября 1951 года турецкий меджлис принял новый закон,
по которому будут вешать коммунистов, сторонников мира, патрио–
тов, борцов против американского империализма, рабочих, не
желающих разгружать американское оружие, крестьян, которые высту–
пают против «плана Маршалла», сгоняющего их с земли. Но
намыленная петля, раскачивающаяся над головой турецкого народа,
не заставит его отказаться от национально-освободительной
борьбы.
Сразу же после издания этого закона Коммунистическая партия
Турции призвала народ объединиться в едином фронте против аме*
риканского империализма, и этот ее клич пролетел над всей стра–
ной – от Стамбула до горных деревень. Организации сторонников
мира и патриотической молодежи попрежнему распространяют неле<–
гальные воззвания. Снова бастуют рабочие, снова во многих районах
страны крестьяне делят земли помещиков, сражаются с
жандармами.
Фашистский террор никогда не мог запугать турецкий народ.
Не запугает и теперь! Свидетельством тому служит книга С. Устюн–
геля. Нет такой партии, истерия которой была бы так же тесно
связана с историей народной борьбы, как история коммунистической
партии. Вот почему книга Устюнгелп, рассказывающая об основных
этапах истории Коммунистической партии Турции, рассказывает тем
самым о борьбе всего турецкого народа за последние 30 лет. В
авангарде этой борьбы идет рабочий класс.
Помимо объективной, научной ценности произведение Устюнгеля
имеет огромное значение для нашей художественной литературы.
В этой книге народ Турции, ее коммунисты, рабочие, крестьяне–
бедняки дышат и борются, думают и ненавидят, страдают и любят,
точь-в-точь как в жизни. Ни один человек в этой книге не выдуман,
все они действительно жили или продолжают жить.
Турецкий народ с глубокой признательностью встретит известие
о том, что книга, которую в Турции можно встретить лишь в
подпольном издании, ныне переведена в Москве и напечатана в
десятках тысяч экземпляров.
НАЗЫМ ХИКМЕТ

В МОРЕ
Море синее-синее, солнце огненно-красное. Море
пламенеет на солнце, полыхает огнем. Пламенеет палуба парохода,
пламенеют наши руки закованные в кандалы. Ветер развевает
золотисто-рыжие волосы моего товарища, и они то и дело
спадают ему на голубые глаза. Горят на солнце штыки
жандармов. Под их конвоем мы проходим по палубе. Нас везут
из одной тюрьмы в другую.
Из люков машинного отделения вырывается поток
удушливого, раскаленного воздуха. Глухо шумят внизу машины.
Заглядываем в люк. Бледные, потные лица машинистов, со
следами масляных пятен, кажутся мутным отражением в
потускневшем зеркале. Один из смазчиков оторвался от дела и
засмотрелся на нас. Еще мгновение – и его рука попадет в
эксцентрический вал, но он успевает ее -отдернуть. Только
масленку его вырвало из руки, захватило, унесло. Какие
большие глаза у этого рабочего, какие резкие, заострившиеся
черты лица! Крупные маслянистые капли пота на его лице
кажутся вспухшим клеймом, нанесенным ударом молотка.
В котельной, на самом днище парохода, в красноватом свете
пламени шуруют обнаженные до пояса кочегары. Адский жар.
А море искрится, играет бликами Солнце обжигает палубу.
Пассажиры распластались на ней, как овечьи шкуры,
растянутые для просушки.
Из салона первого класса доносятся сумбурные звуки
фокстрота. Шипение пластинки сливается с шумом
вентиляторов.
Нас ведут в трюм. Он до краев набит овцами. Тут же, как
овцы, жмутся друг к другу крестьяне. Двое из них, лежа на
спине, напевают эгинскую песню. Печальная мелодия то
ширится, то теряется в блеянии овец.
Терпкий запах давно не чищенной овчарни бьет в нос.
Железные наручники жгут нам кисти...
Нас выводят на палубу. Третий помощник капитана стоит
еа носу. Механик у кабестана. Готовятся бросать якорь...
Берег моря. Апельсиновые сады... Извивающаяся среди гор
река Аскероз. На склонах – кукурузные поля величиной с
ладонь. Впереди, на мысу, прямо по курсу корабля уже хороша
Видна белая башня маяка «Девичья башня», древние
крепостные валы. Город раскинулся полумесяцем. Строения
ступенями громоздятся друг над другом по склонам гор.
Корабль входит в порт. Якорь с грохотом падает в море.
Мы спускаемся по мосткам.
ПО ЭТИМ УЛИЦАМ НЕСЛИ САНДЫКЧИ
На пристани жандармы окружают нас кольцом штыков.
Команда – идти. Идем по разбитым камням мостовой, мимо
лавчонок с узкими ставнями и нависшими крышами. Рынок
ремесленников. Кузнецы, котельщики, ткачи, шорники
приветствуют нас. Идущий впереди нас сержант жандармерии
Раскалывает толпу надвое. Люди тянутся за нами хвостом.
подкованные сапоги жандармов цокают по камням.
– Кто такие? – слышатся голоса.
– Политические...
– Коммунисты, что ли?
– Они самые. Поймали недавно. Разве не слыхали, что их
везут сюда?
Слова ударяются о стены домов, эхом разносятся по городу.
Пока я иду по этим улицам под конвоем жандармов, перед
моими глазами снова оживает кровавая сцена, свидетелем
которой я был в детстве.
Было мне тогда, наверное, лет шесть, но я все хорошо
помню... Дождь лил, как из ведра. Народ, так же вот как
сейчас, высыпал на эти улицы. Султанские жандармы в феска
Прикладами расталкивали толпу, прокладывая себе путь. На
одном из штыков покачивалась человеческая голова. Позади
несли привязанное к длинному шесту обезглавленное тело.
Это были останки народного героя крестьянина Сандыкчи
Шюкрю. В течение долгих лет держал он в страхе окрестных
помещиков и городских богачей. При виде этого страшного
шествия люди останавливались и плакали, а некоторые
разражались проклятиями.
Наша семья была родом из другого города. Я жил здесь
у родственников. Вскоре после расправы над Сандыкчи меня
взял к себе в Стамбул дядя. Это был хороший, добрый
человек. Часто по вечерам садился он на скамейку у окна и, глядя
на стены стамбульской крепости, на Мраморное море, на
далекие вершины гор, пел дестан о Сандыкчи. Сандыкчи
был подлинным героем. В последнем бою он с кучкой
крестьянских парней сражался против целого полка солдат. На всю
жизнь сохранилось во мне глубокое уважение к этому
простому крестьянину, который взялся за оружие, чтобы бороться
против насилия и гнета.
ТЮРЕМЩИКИ
Мы снова выходим к берегу моря. Высокая, поросшая мхом
массивная стена окружает каменное здание. Вверху по ней
протянута колючая проволока, на углах стоят часовые.
Вмурованные в стену маленькие железные ворота выходят на
небольшую площадь. Над воротами огромная надпись: «Глав-
ная городская тюрьма». Седоусый надзиратель с палкой в руке
отворяет маленькую квадратную дверцу. Через нее, словно
через горлышко бидона, нас проталкивают внутрь тюрьмы.
Мы проваливаемся в полумрак, ощупью идем по коридору,
похожему на катакомбы. Надзиратель останавливает нас у
одной из дверей. На ней табличка: «Дирекция». Надзиратель
оглаживает усы, проводит рукой по пуговицам мундира,
откашливается и, постучав, толкает дверь.
Перед нами комната с низким потолком. Все в ней как
будто плывет в дыму. Курят разом несколько человек. За
одним из столов, заваленным бумагами, остроносый, с
крысиным лицом человечек перелистывает дела. На другом столе,
напротив, стоит кальян, слышится его глухое урчание.
Темнолицый толстяк с отвисшим животом держит в руках толстую
кожаную трубку кальяна. Изо рта и из носа у него валит дым.
По сторонам в креслах развалились два жандармских офицера.
Один из них похлопывает себя стеком по голенищу. Мутными
глазками осматривает нас с ног до головы. Говорит он так,
словно жует смолу. С явным намерением поиздеваться ехидно
спрашивает:
– Коммунисты?
– Да,– отвечаю спокойно.
Физиономия офицера краснеет, как от пощечины.
– Ого, какие храбрецы! Им, видно, все нипочем... Только
коммунизм ваш в кемалистской Турции не пройдет, с этим
товаром сюда лучше не соваться!
– Коммунизм не картошка, на базаре не продается...
Мой ответ подбрасывает офицера с кресла:
– Эта шутка вам дорого обойдется. Надзиратель, отведи-ка
их в предварилку! Наручников не снимай, пусть научатся как
следует разговаривать!
Грохнув дверью, офицер выходит.
– Хлопот с ними у тебя, господин начальник, будет
много,– говорит второй офицер, обращаясь к толстяку,
курящему кальян.– Не знаю, понимают ли они, что такое кнут и что
такое пряник? Надзиратель, сними-ка с них наручники!
Здоровенный детина чуть не выворачивает нам кисти, но
наручников не снимает.
– Тебе сказали, снимай наручники! Чего руки ломаешь?! —
строго говорит мой товарищ.
Толстяк, которого называют начальником, паясничает:
– Господин старший надзиратель! Будьте повнимательней.
Тут только я замечаю, как странно одет этот «начальник».
Котелок, засаленный смокинг, рубашка в горошек без
галстука заправлена не то в шаровары, не то в брюки, на ногах
узкие галоши с загнутым кверху носком.
Котелок вместо фески, смокинг вместо халата да нечто
среднее между старыми восточными шароварами и
европейскими брюками – вот и вся перемена, которая произошла за
годы республики в облике начальнике тюрьмы, служащего
здесь со времен султана Абдул-Хамида. Так выглядит в
нашей «республике» одна из «великих» реформ, которыми
хвастаются кемалисты.
– Я сам когда-то в этой тюрьме сидел... За тридцать лет
поседел на этом деле. Кого только не видел, каких только
буйных в чувство не приводил!.. Надзиратель, веди-ка этих в
карантин. Обыщи как следует. Бумаги, карандашей чтоб не
было!
«ВЕЧНЫЙ КАМЕНЬ»
Проходим через одни железные двери, через другие. За
второй дверью маленький узкий дворик. Разношерстная толпа
встречает нас гулом голосов, окружает плотным кольцом.
Надзиратель кричит:
– Прочь!.. С дороги!
Никто не обращает на него внимания.
Высокий арестант загораживает надзирателю дорогу.
«Стой»,– говорит его тяжелый взгляд.
– По обычаю, каждый переступивший порог этой ямы
должен в честь святого – покровителя острожников – посидеть на
«вечном камне». – И указывает на серый камень в углу двор?..
Перекрывая шум голосов, кто-то кричит:
– Большевик! Большевик! Где ты? Привели твоих!
Перед нами появляется юноша лет 18 – 19. Он пожимает нам
руки.
– Желаю поскорей выбраться отсюда! – произносит он
вместо приветствия.
– Спасибо, земляк!
Кругом только и слышится:
– Поскорее выбраться... Пошли аллах здоровья!
– Молодые еще...
– Откуда родом? Кто они, турки?
– За что их взяли?
– Тьфу! Да не слыхал ты, что ли?! Они землю крестьянам?
хотели дать.
– Какую землю? Кому дают? Постойте, дайте и мне
посмотреть.
– Да погодите вы!.. Они устали...
– Большевик, посади-ка своих на «вечный, камень»! Р1ди
сюда, земляк!
– Эй, тащите кофе!
Мы усаживаемся на «вечный камень».
Затянутый в талии крестьянский парень в национальной
одежде лазов i протягивает нам свою табакерку:
– Попробуйте моего табачку, земляки.
И со всех сторон к нам тянутся табакерки, кисеты,
портсигары:
– Моего заверните... Моего закурите.
Все глаза устремлены на нас. Какие глубокие это глаза! Но
взгляд у них невидящий. Все говорят здесь невпопад.
Некоторые совсем как немые. Немыми ведь бывают от глухоты, но
эти люди слышат всё. Почти все в тюрьме становятся такими.
Быстро узнают, что делается на воле, но истолковывают все,
как им хочется. О нас они тоже слышали задолго до того, как
нас привезли сюда. Они внимательно осматривают нашу
одежду на груди и у пояса. Очевидно, ищут следы от патронташа.
Ищут и не находят. Вовсе не похоже, чтоб мы носили
оружие. Но в их воображении живет совсем иное представление
о нас. Их взоры как бы говорят нам: разве может быть, чтобы
человек, который поднялся против Анкары, против
правительства, не носил оружия? Один из арестантов долго с
восхищением смотрит на моего высоченного товарища, на его
широкие плечи и говорит:
– Этот парень уложил не меньше сорока.
Пожилой седобородый крестьянин подходит к моему
товарищу, берет его за руку:
– Сынок, я ведь тоже из-за земли попал сюда. Послушай,
как было дело...
– Брось, Кыро! Дай им кофе выпить. Все-то ты болтаешь,
душу отводишь...
Неожиданно толпа вокруг нас расступается, появляется
старший надзиратель:
– Поднимайтесь на второй этаж. Живо! Там ваша камера.
Мы вас посадим в карантин...
Не успевает надзиратель договорить, как начинается что-то
непонятное,
– Хав... хав... авв... авв...– несется со всех сторон.
Тюремный двор тонет в собачьем лае. Затем слышится сдавленный
смех, улюлюканье.
Физиономия старшего надзирателя становится похожей на
обваренное кипятком свиное рыло. Из гнилого рта брызжет
слюна.
– Коммунисты, марш в камеру! А вам я покажу, как лаять!
Вызову жандармов, тогда поговорим!
Он вталкивает нас в камеру, задвигает железные засовы.
Снова поднимается собачий лай. Потом все утихает.
Не проходит и получаса, как у зарешеченного окошка
нашей камеры показывается юноша, которого заключенные
называют Большевиком. В руках у него, жестяная кружка и медная
тарелка с едой.
– Не обессудьте, земляки... Чем богаты...
– Мы сыты, паренек. Не беспокойся!
Но Большевик не слушает нас и просовывает еду через
решетку.
– Скажи, что это был за лай?
– Ничего особенного. Так всегда встречают старшего. Мы
его псом прозвали. Если этот пес будет щерить на вас зубы,
не обращайте внимания, не укусит... Курить у вас есть что?
Может, вам еще чего надо?
Во дворе снова показывается старший надзиратель. Его
длинная физиономия с ввалившимися щеками действительно
очень похожа на песью морду. Ходит он тоже, как
состарившийся цепной пес.
ТЮРЕМНЫЙ ДВОР
В тюрьме два этажа. Ночью из окошек камер на первом
этаже можно увидеть звезды на небе. С верхнего этажа перед
глазами расстилается только безбрежное, свободное море. От
этого бескрайнего простора нас отделяет лишь высокая стена,
опоясанная колючей проволокой. Между стеной и зданием
тюрьмы небольшое мощеное пространство шириной в 7 и
длиной в 40 метров. Это тюремный двор – место для прогулок
заключенных.
Сколько дней мы смотрим на этот дворик через решетку
узкого окошка нашей камеры? По утрам, как только откры-
вают двери общих камер, арестанты, как овцы, выпущенные
из загона, высыпают сюда. Они ходят из угла в угол, взад и
вперед, навстречу друг другу. Стук кованых ботинок
доносится то справа, то слева. Из угла в угол мечутся звуки. Можно
разобрать обрывки фраз:
– ...какой тут, уплатить! Погубили нас налоги..,
– ...а у тебя есть что отдать-то им?-
– ...сборщик налогов...
– …его Азраилом – ангелом смерти – зовут,.,
– ...он стрелял в сторожа...
– ...разве я знаю, куда пуля гаду угодит?..
– „.он наше поле силой отобрал. Свидетели его. Денег
много, у него сила...
– ...он господин, а ты бедняк...
– ...до корня не добрался я.„ Вот если выйду..,
– ...разве эти годы когда-нибудь кончатся...
Голоса сливаются в сплошной гул, шаги расходятся в
разные стороны. Потом снова звучат ясные, короткие фразы:
– Ни быков нет, ни земли. Развалилось хозяйство.
– Он и ага и ростовщик. За один куруш i пять берет.
– И староста, и жандармы, и судья – все у них в руках!..
Среди заключенных много лазов. Они держатся прямо,
ходят с высоко поднятой головой, говорят быстро. Что они
говорят, мы не понимаем. Лазы не спускают глаз с нашего
окошка. Каждое утро, едва успев ступить на дворик, они
приветствуют нас:
– Коммунист!.. Большевик! Яша!
Угнетенные национальности питают к нам, коммунистам,
особую симпатию. Мне пришлось несколько лет сидеть в
крепости вместе с курдами. Несмотря на строгий режим, они
находили способ связаться с нами. Если бы не они, мы
наверняка погибли бы тогда от жажды и голода: ведь в турецких
тюрьмах коммунистам обычно не дают полагающегося всем
заключенным пайка. Если нет у тебя никого на воле, твое
дело – дрянь.
БОРЬБА ЗА ВОЗДУХ
Дни проходят, а «карантину» нет конца. Видно, нас боятся,
даже когда мы в тюрьме. Враг стремится вырвать нас из
общественной жизни, но мы поклялись до последнего
дыхания быть вместе с народом, бороться вместе с ним.
Наша камера —крошечная коробка. Клетка льва в
зоопарке куда просторней. Мой товарищ ходит из угла в угол, что-то
говорит про себя, выцарапывает ногтем на стене:
Знаком нам карцер не один,
Нам кандалы подушкой стали,
Нас не сломить такой судьбой!
Мы пойдем,
пойдем еще в бой!
Утро встречаем песней.
Открываются двери камер. Лучи солнца начинают
припекать угол дворика. В этом углу, на теплых камнях, сидя на
корточках, греются босые арестанты. Почесываются,
копошатся в лохмотьях, казнят насекомых.
– Горячая баня! Горячая, горячая! Один куруш бидон! —
пронзительно кричит арестант – «содержатель» бани.– Кто
видел сладкие, приятные сны, айда-а-а в баню!
«...баню! баню!» – гулко отзываются каменные стены.
Один из углов двора завешан куском мешковины. Уплатив-
ший один куруш может попасть за эту ширму – в «баню». Вот
и сейчас против нашего оконца молодой парень льет себе на
голову воду.
Солнце поднимается все выше. Шум на дворе становится
все громче. В него включаются новые и новые звуки. Вот
вплетаются резкие выкрики:
– Всегда свежее... свежее... свежее!
– В Черном море такой пены нет! Кто хочет пенистого?
– Чаевар не из Дамаска, а вода не из фонтана. Двойной
крепости, настоящий персидский чай!
Это начинает действовать тюремный «базар».
На дворике . сложены три очага для варки кофе. Торгуют
кофе арестанты – те, что при деньгах, конечно. Они изо всех
сил стараются перекричать друг друга. Жестокая
конкуренция между ними нередко кончается поножовщиной.
Солнечный луч скользнул через узкую железную решетку
в угол нашей сырой клетки. Мы тоже греемся. В камере
железная койка, голые доски и зловонная параша. Чтобы
спастись от вони и подышать свежим воздухом, надо бороться.
Без борьбы для нас, видно, не будет ни воздуха, ни солнца.
Стучим ногами в дверь, кричим через решетку:
– Надзиратель, открывай дверь! Хотим на прогулку!
Голоса на дворе сразу стихают. Ввалившиеся глаза
заключенных устремляются на наше оконце. Потом снова
поднимается шум.
– Не вмешивайтесь! – кричат одни.
Другие возражают им:
– Но это ведь неправильно!
Остальные возмущаются несправедливостью и кричат
вместе с нами. Поднятый нами шум продолжается с полчаса.
На дворе появляются надзиратели, жандармы и сам
начальник тюрьмы. Арестантов расталкивают по камерам. Шум
прекращается. Слышны только наши голоса:
– Мы имеем право на прогулку!
Дверь камеры распахивается. На пороге стоит худой,
чернявый сержант жандармерии. Он шипит, как змея:
– Вы что орете? Я вам сейчас покажу прогулку! Надеть на
них наручники!
Жандармы и надзиратели набрасываются на нас.
Завязывается схватка. Кровь с разбитого лба заливает брови, голубые
глазе моего товарища. Но и сержант, получив пинок ногой,
никак не может подняться с пола, Начальник тюрьмы, зеленея
от злости, рычит:
– Бросить их в подвал! Посадить в карцер! Пусть знают,
как нарушать порядок в тюрьме!
Три дня в кандалах, две ночи в темном карцере, где нас
изводили блохи, и 48 часов голодовки протеста еще больше
закалили нашу ненависть.
Голодовка подействовала: в тюрьму прибыл помощник
прокурора. Нас вытащили из подвала, сняли кандалы.
– Вам разрешается прогулка на террасе второго этажа,
Два часа в день,– с ехидной улыбочкой объявляет помощник
прокурора и удаляется вместе с начальником тюрьмы.
Так закончилась наша первая схватка в этой тюрьме.
В полдень старший надзиратель выводит нас на террасу.
Терраса раскалена: целый день она открыта палящим лучам
солнца. Видно, нас хотят просто зажарить. Никого, кроме нас,
сюда не пускают. Пот грязными ручьями катится по
обросшему бородой лицу. Но зато мы дышим свежим воздухом...
КОРЗИНКА С ФРУКТАМИ
Уже много дней непрерывна льет дождь. Если хочется
бесплатно принять душ, можно посидеть на террасе часок —
другой: теперь это нам разрешено.
Распахнув вдруг дверь камеры, надзиратель объявляет:
– Приготовьтесь, поедете в суд!
Вот уже несколько месяцев тянется суд над нами. Сначала
заседания происходили в одном из крупных городов. Несмотря
на все усилия полиции и прокуратуры, суд не смог доказать,
что мы являемся авторами листовок, нелегально
распространявшихся в этой местности организациями коммунистической
партии. Но выпустить нас, конечно, не выпустили Ведь мы
еще до ареста были осуждены заочно. Полиция и прокуратура
уже несколько лет охотились за нами. Здешний прокурор
требует теперь для нас смертной казни. Короче говоря, у нас
с судебным ведомством дел еще много.
Окруженные жандармами, входим во «Дворец правосудия».
Коридоры полны народа. Большинство – крестьяне. Кто в по-
столах,. кто босиком. Весь их вид говорит о беспросветной
нищете. Жандармский офицер грубо покрикивает на толпу:
– Осади назад!
Входим в большой зал. Толпа следует за нами.
Начинается заседание. Мы стоим перед столом судейской
коллегии. По бокам – часовые с примкнутыми штыками, за
спиной —народ! Один из судей ковыряет в носу. Другой наце-
пил черные очки; дремлет он или бодрствует – не поймешь.
Председательствует жирный судья с апоплексическим
затылком. Серые прищуренные глаза прокурора все время следят
за нами.
Согласно процедуре, сначала «устанавливают» наши
личности.
– Имя, фамилия, родители? – спрашивает председатель.
Затем поднимается прокурор. Непрестанно оглядываясь на
публику, он говорит, скорчив недовольную мину:
– Ввиду того, что разбираемое дело имеет отношение к
внутренней и внешней политике правительства... в интересах
сохранения спокойствия и порядка,., требую, чтобы дело
рассматривалось в закрытом заседании.
Мы с товарищем одновременно вскакиваем со скамьи.
Говорим разом:
– Прокурор хочет скрыть от народа правду... Пусть народ
знает, чего мы хотим и что мы сделали. Мы в любой момент
готовы отчитаться перед народом. Очевидно, прокурор боится
правды. Мы заявляем, что если наше дело будет
рассматриваться за закрытой дверью, то в ответ на этот произвол мы
откажемся отвечать на вопросы суда!.. Мы требуем, чтобы
наше заявление было занесено в протокол!
Из публики раздаются голоса:
– Господин председатель! Мы тоже хотим послушать!
– В чем их вина?
– Это несправедливо!
Председатель что-то шепчет на ухо сначала одному члену
суда, потом другому. Оба утвердительно кивают головами.
– Рассмотрение дела переносится,– объявляет он.
Нас выводят из здания суда. Толпа идет за нами до ворот
тюрьмы. Старый крестьянин протягивает нам корзиночку е
фруктами. Жандармский офицер бросает на него свирепый
взгляд. До сих пор еще помню я вкус свежих фруктов,
которыми тогда от чистого сердца угостил нас простой,
незнакомый нам турецкий крестьянин.
НАРСУД ПРЕДЪЯВИТ СВОИ СЧЕТ
Полночь. На стене мигает тусклый светильник. Тюрьма
затихла. Заключенные спят. Мы охотимся на клопов.
Но вот до нашего слуха доносятся нечеловеческие крики.
Это «снимают показания» в подвале жандармского участка,
находящегося рядом с тюрьмой. Постепенно крик переходит
в стон, становится все глуше и глуше. Слышатся удары палок
и ругательства. Перед рассветом все стихает. Звучат только
резкие свистки. Это часовые охраны перекликаются между
собой.
Крики истязуемых и отборную ругань жандармов мы
слышим постоянно. Почти все, кто попадает в тюрьму из
полицейских или жандармских участков, покрыты ранами и
кровоподтеками.
Зверская политика насилия над народом продолжается
в Турции уже сотни лет. Кемалисты, придя к власти,
перещеголяли в этом даже кровавых султанов. Они выступают как
самые оголтелые шовинисты, подвергают национальные
меньшинства насильственной тюркизации. Кемалисты выселяют
из родных мест лазов, организуют массовые убийства курдов,
вырезают армян. Уже уничтожено много сотен тысяч курдов.
Тысячи курдских деревень сожжены и разрушены. Чтобы
скрыть следы своих преступлений, анкарские правители
объявили запретными районы, где были расположены эти
деревни.
Разделив страну на семь «генеральных инспекций»—
«гау»,– они назначили гаулейтером Курдистана Ибрагима
Талига. Долгое время он был там полным хозяином. Его
карательные отряды рыскали по всему краю. Я в числе других
коммунистов был заключен тогда в одну из крепостей,
входивших во владения Талига. Ежедневно оттуда партиями
увозили арестованных курдов и расстреливали на обрывистом
берегу Тигра. Потом жандармы торговали в тюрьме
шелковыми расшитыми поясами расстрелянных курдских юношей.
Помню, однажды в соседнюю камеру принесли молодого
курда. Ему было лет двадцать. Рассказывали, что в боях с
карательными отрядами он убил нескольких офицеров.
Жандармы пытали его много дней, жгли раскаленными
шомполами, но не добились от него ни слова. Тело юноши было
сплошной раной, оно гноилось, по нему ползали черви. Несколько
дней, крепко стиснув зубы, молодой курд боролся со смертью.
Он беспрерывно повторял лишь одно слово:
– Месть... Месть... Месть!
Пытки, которым подвергают коммунистов в застенках
охранки, в жандармских участках и тюрьмах, приводят в
содрогание даже видавших виды людей. Турецкая полиция
сочетает зверства янычар с изощренными истязаниями
гестаповцев. Людей на долгие месяцы сажают в темные, сырые
подвалы, пытают жаждой и бессонницей, бьют палками по
пяткам, вырывают щипцами куски мяса, гасят в ранах
сигареты, кладут подмышки горячие яйца, подвешивают за волосы
к потолку, выламывают суставы, вырывают ногти, распинают
на крестах, подвешивают за руки в камерах-гробах и ставят
перед глазами 500-свечовую лампу, в зимние морозы обливают
холодной водой. Иногда эти пытки продолжаются месяцами.
Об убитых и замученных во время пыток коммунистах
полиция сообщает:
– Убит при попытке к бегству.
– Выбросился из окна.
– Покончил с собой.
– Сошел с ума.
Так именно полиция пыталась скрыть убийство
замученного в стамбульской охранке члена Центрального комитета
Коммунистической партии Турции Аббаса, комсомольца Ха-
сана, студента Басры, задушенного в аданской тюрьме
учителя Хайдара, измирского моряка Юсуфа, зонгулдакского
шахтера Зия и скольких; скольких еще!
Анкарские палачи могут врать сколько угодно, но
турецкий народ знает, кто утопил в Черном море основателя
Коммунистической партии Турции Мустафу Субхи. Он знает, кто
повесил крестьянина-коммуниста Месуда, кто убил рабочего
Аббаса. Пробьет час исторического возмездия, и народ
предъявит свой счет палачам!
БОЛЬШЕВИК
Через несколько дней после судебного заседания, во время
утреннего обхода в нашей камере вдруг появляются
начальник тюрьмы и старший жандармский офицер. Они объявляют,
что мы можем выходить на прогулку во двор вместе с другими
арестантами, велят открыть дверь камеры и, не глядя на нас,
выходят. Мы решаем, что это неспроста, тут какая-то ловушка.
Нас, коммунистов, всегда содержат в строгой изоляции от
других арестантов. Не удивительно поэтому, что у нас
появляется настороженность.
Позже мы узнали, какую западню нам готовила охранка:
она хотела прикончить нас руками уголовников.
...Дует легкий морской ветерок. Лодки лазов под
открытыми парусами выходят в море. Временами нам кажется, что
мы только встали на якорь в этой тюрьме. Мы дышим свежим
воздухом. Я лежу на террасе, свесив ноги. Мой товарищ
растянулся рядом со мной. Из камеры, продирая глаза, выходит
Большевик. Расчесывая пятерней черные волосы, он не спеша
подходит к нам.
– Ну что. Большевик, трешь глаза?
– Разве поспишь тут, когда эти кофейщики орут, как
ишаки! Чай пили?
– Садись. Сегодня вместе чай пьем, Большевик?
– Ладно.
– Однако тебе умыться не мешало бы!
– Потом умоюсь. Только посижу немножко, К вам ведь
все время никого не подпускали – карантин!
Он садится между нами и тоже свешивает ноги с террасы.
Берет протянутую моим товарищем сигарету и глубоко
затягивается.
– Почему тебя Большевиком прозвали?
– Здесь сидел один. Он своего соседа за вершок земли на
меже задушил. Я его звал Душителем бедняка, а он меня
Большевиком прозвал.
– За что же ты сидишь? Сколько тебе дали?
– За убийство. Присужден к смертной казни, но по
молодости помилован.
– Кого же ты убил?
– Одного проклятого агу с нашего берега. Лодки,
виноградники, апельсиновые рощи – все в округе принадлежит ему.
– Ого! За что ж убил?
– Долгая история. Убил, и черт с ним! Погодите, я сейчас
чай принесу.
Большевик вскакивает и, спускаясь по лестнице, кричит:
– Карачалы! Три чашки чаю!
На мощеном камнем дворике шуршат шаги: туда —
обратно, туда—обратно. Глухо раздаются голоса в этом каменном
колодце.
Мы пьем чай и беседуем с Большевиком.
– У тебя есть кто-нибудь на воле, Большевик?
– Брат» старший.
– Чем занимается?
– Кочегар. На пароходах работает.
– А ты что делал?
– Рыбак я. За долю улова работал.
– Давно сидишь?
– Уже два с половиной года.
– За что же ты все-таки убил своего агу?
– Поспорили из-за моей доли. Не отдал мне, что
причиталось. Он и отца моего погубил... Смотрите! Видите окошко,
камера рядом с вашей? Тот вон, к решетке прислонился, на
нас уставился... При нем держите язык за зубами. Это стукач
начальника тюрьмы. Сейчас же донесет.
– Что у нас с ним может быть? Мы и «здрасьте» друг
другу не говорили.
– Вы его не знаете. На днях он с Карачалы все шептался
о вас. Я ведь сегодня нарочно чай у Карачалы заказал. Еще
узнаете нашу кутузку! Пойдемте пройдемся немного.
Большевик встает и, насвистывая, спускается во двор.
Свист тонет в общем шуме. Человек, которого он нам показал,
щуря гноящиеся глаза, смотрит через решетку во двор.
Заключенные, как маятники, ходят взад и вперед, взад и
вперед.– Солнце все сильнее накаляет камни. Дежурный
надзиратель, распахнув дверь во двор, кричит во всю глотку
с порога:
– Айда на су-у-у-д! Кому на суд, собирайтесь! За
умыкание– Чямлы ХюсеЙн, За кражу курицы —Пич Нури. Братья
Джаноглу-по делу о земле. За убийство-Куру Али, Орман-
кыран Мустафа. За неуплату налогов – механик Хасан, ткач
Келеш. За убийство стражника—кузнец Мемед. На су-у-д!
Арестанты, чьи дела сегодня рассматриваются в суде,
собираются у дверей. Жандармы надевают на них
наручники.
ЭТО НЕ СВИДАНИЕ, А РАЗЛУКА!
Дни проходят. Мы понемногу знакомимся с тюрьмой,
заходим в соседние камеры. В тюрьме пять больших камер,
несколько изоляторов и несколько маленьких клетушек.
Общие камеры сильно отличаются друг от друга. В нижнем
этаже, куда почти не проникают солнце и свежий воздух,
расположены так называемые «камеры голых». В
стамбульской тюрьме их называют «камеры папаши Адама». Вся
одежда заключенных в них арестантов нередко состоит из одного
старого мешка. Обитатели «камеры голых» находятся обычно
в услужении у более состоятельных арестантов. Поэтому их
называют еще «аякчи», что значит «находящийся на ногах».
На втором этаже живет тюремная «аристократия»
–заключенные, у которых есть деньги или влиятельная родня на воле.
Койки в камерах также распределяются в зависимости от
платежеспособности заключенных: худшие-у дверей, около
параши, лучшие—у окна, поближе к свету и воздуху. В от-
дельных комнатушках сидят «беи». В изоляторах сейчас,