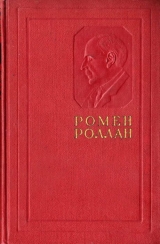
Текст книги "Жизнь Толстого"
Автор книги: Ромен Роллан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает».
Эти блестящие строки, в трагическом свете представляющие гений Толстого, были написаны под мучительным впечатлением, которое произвела на него страшная картина нищеты, виденная в Москве. Толстой был убежден, что наука и искусство, наравне со всем современным строем, повинны в социальном неравенстве, произволе и лицемерии. С этим убеждением Толстой уже никогда не расстанется. Однако со временем острота первого впечатления, вызванного нищетой, сгладилась; рана уже не так сильно кровоточила;[159]159
Он придет даже к оправданию страдания – не только своего, но и страдания других. «Ведь это – то самое, уменьшение чего, помощь чему и составляет содержание разумной жизни людей, – то самое, на что направлена истинная деятельность жизни… Как же может материал его работы быть страданием для работника?» – Р. Р.
[Закрыть] и ни в одной из последующих его книг уже не встретишь столь трепетной муки и столь гневного призыва об отмщении, как здесь. Толстой дает непревзойденное по благородству определение миссии художника, творящего кровью своего сердца, утверждает величие самопожертвования и страдания, являющихся «уделом мыслителя», и с возмущением обрушивается на художников-олимпийцев, к которым он причисляет Гёте. В последующих работах Толстой вернется к критике искусства уже с точки зрения литератора, не впадая в чисто религиозную трактовку; он будет рассматривать задачи искусства вне непосредственной связи с человеческими страданиями, одна мысль о которых приводит Толстого в неистовство, как было в тот вечер, когда он рыдал, вернувшись домой после посещения ночлежного дома.
Это не значит, однако, что в своих поучениях он холоден и равнодушен. Холодность и Толстой – несовместимы. До конца своих дней он остается тем самым Толстым, который писал Фету:
«Ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело, а не так, как одержимый хандрою и диспепсией Тургенев».[160]160
23 февраля 1860 г. – Именно поэтому его и возмущал «одержимый хандрою и диспепсией Тургенев». – Р. Р.
[Закрыть]
И он неизменно так и поступает в своих писаниях об искусстве. Его негативная критика – знаменитые толстовские сарказмы и нападки – столь яростна, что только ее и увидели деятели искусства, не заметив позитивной стороны. Слишком уж больно бил Толстой по предрассудкам и слабым местам художников, потому-то они и объявили его не просто врагом их искусства, но всякого искусства вообще. А ведь у Толстого критика всегда имеет созидательную ценность. Он стремится построить заново; уничтожение ради уничтожения чуждо духу Толстого. И с присущей ему скромностью он даже не претендует на новизну: он защищает искусство, которое вечно, от лжехудожников, способных лишь бесчестить его ради собственной выгоды.
«Истинная наука и истинное искусство всегда существовали и всегда будут существовать, невозможно и бесполезно оспаривать или доказывать их необходимость», – написал он мне в 1887 г., на десять лет раньше его знаменитой книги «Что такое искусство?»[161]161
Письмо, написанное на французском языке, датировано 4 октября 1887 г. «Что такое искусство?» было опубликовано лишь в 1897–1898 гг., но Толстой обдумывал это свое произведение в течение пятнадцати лет, то есть с 1882 г. – Р. Р.
[Закрыть] – «Все зло нашего времени происходит от того, что так называемые образованные люди, во главе с учеными и художниками, составляют привилегированную касту, подобно священникам. И эта каста обладает пороками всех каст. Она искажает и унижает тот самый принцип, во имя которого она организовалась. То, что называют наукой и искусством, есть не что иное, как огромный «humbug»,[162]162
Заблуждение, обман (англ.). – Прим. ред.
[Закрыть] великое суеверие, в которое мы обычно впадаем, как только освобождаемся от старого церковного суеверия. Чтобы ясно видеть путь, по которому нам надлежит идти, следует начать с начала, – надо снять капюшон, в котором мне тепло, но который закрывает мои глаза. – Искушение велико. Мы родимся и затем поднимаемся по ступенькам лестницы и оказываемся среди привилегированных, среди жрецов цивилизации и культуры (как говорят немцы), точно брамину и католическим священникам, нам нужно иметь большую искренность и большую любовь к истине и к добру, чтобы подвергнуть сомнению те принципы, которым мы обязаны нашим выгодным положением. Но для серьезного человека, который ставит себе вопрос о жизни, – нет выбора. Чтобы приобрести ясный взгляд на вещи, он должен освободиться от того суеверия, в котором он живет, хотя это суеверие ему и выгодно. Это условие sine qua non…[163]163
Необходимое условие (лат.). – Прим. ред.
[Закрыть] He иметь суеверий… Привести себя в состояние ребенка или Декарта…»
В своей книге «Что такое искусство?» Толстой обличает суеверия и заблуждения современного искусства, «этот огромный humbug», которым своекорыстно услаждают себя касты заинтересованных. С грубоватой иронией он выставляет напоказ все смешные стороны искусства, всю его скудость, лицемерие, продажность, извращенность. Он не оставляет камня на камне от современного искусства, он разрушает с радостью ребенка, ломающего свои игрушки. Критика его часто очень остроумна, но часто и несправедлива: ничего не поделаешь, это война. Толстой бьет чем попало и кого попало, крушит направо и налево, не вглядываясь в лица тех, кому наносит удары. И нередко оказывается – как это бывает в сражениях, – что он ранит именно того, кого обязан был бы защищать, например Ибсена или Бетховена. В этом виновна его запальчивость, из-за которой он часто действует необдуманно, страстность, из-за которой он часто не замечает слабости своих доводов, и, наконец, признаемся, недостаточность художественной культуры.
Ведь все, что он знает о современном искусстве, он знает преимущественно из книг. Какую живопись он мог видеть, какую музыку слышать, прожив три четверти жизни у себя в имении, не побывав в Европе ни разу с 1860 г.; да и тогда он ничего там не видел, кроме школ, ничем другим не интересовался. О живописи он знает понаслышке и называет вперемежку в числе декадентов Пювис де Шаванна, Манэ, Монэ, Бёклина, Штука, Клингера; восхищается Жюлем Бретоном и Лермитом за их благие намерения, о которых он знает опять-таки понаслышке; презирает Микеланджело; и, рассуждая о художниках, стремящихся воплотить в своих произведениях человеческую душу, ни разу не упоминает о Рембрандте. Музыку он понимает значительно лучше, но совершенно[164]164
Я вернусь к этому вопросу в связи с «Крейцеровой сонатой». – Р. Р.
[Закрыть] ее не знает; он застыл на своих детских музыкальных впечатлениях, твердо придерживается той музыки, которая уже была признана классической в сороковых годах, не признает никого из последующих композиторов (за исключением Чайковского, музыка которого повергает его в слезы); он ставит в один ряд Брамса и Рихарда Штрауса, берется поучать Бетховена[165]165
После 1886 г. он становится все нетерпимее. В «Так что же нам делать?» он еще не посягал на Бетховена (ни на Шекспира). Более того, он даже укорял современных художников в том, что они смеют считать их своими предшественниками. «…Деятельность Галилеев, Шекспиров, Бетховенов не имеет ничего общего с деятельностью Тиндалей, Гюго и Вагнеров. Как святые отцы отреклись бы от родства пап, так и старинные деятели науки отреклись бы от родства с теперешними». – Р. Р.
[Закрыть] и считает, что вполне можно судить о Вагнере, посетив одно представление «Зигфрида», причем к началу он опоздал, а ушел в середине второго акта.[166]166
Он даже хотел уйти, не досмотрев первого акта. «Вопрос… был для меня решен несомненно… От автора, который может сочинять такие… сцены… ждать уже ничего нельзя; смело можно решить, что все, что напишет такой автор, будет дурно…» – Р. Р.
[Закрыть]
Само собой понятно, что литературу он знал лучше. Но и тут, по какой-то непостижимой странности, он избегает высказываться о русских писателях, хорошо ему известных, и берется поучать иностранных поэтов, дух которых чужд ему и книги которых он лишь перелистал с высокомерным пренебрежением![167]167
Известно, что для того, чтобы проанализировать творчество французских поэтов новых направлений, он применил поистине необычный метод: «…выписал во всех книгах то стихотворение, какое попадалось на 28-й странице»! – Р. Р.
[Закрыть]
Его упорство в отрицании с годами лишь возрастает. Он доходит до того, что пишет книгу, в которой доказывает, что Шекспир «не был художником».
«…он не был художником и произведения его не суть художественные произведения».[168]168
«О Шекспире и о драме», 1903. Книга была написана по поводу статьи Эрнста Кросби «Шекспир и рабочий класс». – Р. Р.
[Закрыть]
Можно только восторгаться такой уверенностью! Толстой не сомневается. Не приводит доказательств. Он всегда прав. Он может сказать: Девятая симфония – произведение, разъединяющее людей.[169]169
«Музыка эта… не соединяет всех людей, а соединяет только некоторых, выделяя их от других людей». – Р. Р.
[Закрыть]
Или:
«В музыке… можно указать только… на знаменитую скрипичную «Арию» Баха, на ноктюрн в Es dur Шопена и, может быть, на десяток вещей, не цельных пьес, но мест, выбранных из произведений Гайдна, Моцарта, Шуберта, Бетховена, Шопена», «всё же остальное… должно быть изгоняемо, отрицаемо и презираемо, как искусство, не соединяющее, а разъединяющее людей».
Или:
«…Я все-таки постараюсь, как умею, показать, почему я полагаю, что Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем». Что бы ни говорили слепые хвалители Шекспира, у Шекспира нет изображения характеров.
То, что остальное человечество придерживается иного мнения, не может остановить Толстого, наоборот!
«Мое… мнение о произведениях Шекспира, – с гордостью заявляет он, – совершенно противоположно тому, которое установилось о нем во всем европейском мире».
Толстого неотвязно преследует ненавистный призрак лжи – ложь ему мерещится всюду; любое широко распространенное мнение заставляло его враждебно настораживаться, он брал его под сомнение, как взял под сомнение славу Шекспира, считая, что она представляет собой «одно из тех эпидемических внушений, которым всегда подвергались и подвергаются люди… Яркими примерами… могут служить средневековые крестовые походы… вера в ведьм… отыскивание… философского камня или страсть к тюльпанам… люди ясно видят безумие этих внушений только тогда, когда освобождаются от них… С развитием прессы эпидемии эти сделались особенно поразительны». И в качестве последнего примера такой заразной болезни Толстой приводит дело Дрейфуса, о котором он – враг всякой несправедливости, защитник всех притесняемых – говорит с пренебрежительным равнодушием.[170]170
Событие это, «подобные которым повторяются беспрестанно, не обращая ничьего внимания, и не могущие быть интересными, не только всему миру, но даже французским военным…»
Дальше он пишет:
«И только после нескольких лет люди стали опоминаться от внушения и понимать, что они никак не могли знать, виновен или невиновен, и что у каждого есть тысячи дел, гораздо более близких и интересных, чем дело Дрейфуса» («О Шекспире»). – Р. Р.
[Закрыть] Это поразительный пример того, как далеко заводит его склонность искать во всем ложь, а также инстинктивное отвращение к «моральным эпидемиям», которые он осуждал и в себе самом, но не в силах был преодолеть. Приходится признать, что самые высокие человеческие добродетели имеют свою оборотную сторону, если возможно столь непостижимое ослепление того, кто читал в душах людей, кто умел воссоздавать картину самых сильных страстей и кто вместе с тем видел в «Короле Лире» «нелепое» произведение, а в гордой Корделии «безличное» существо.[171]171
«Король Лир» – очень плохое, неряшливо составленное произведение, которое не может вызвать ничего, кроме «отвращения» и «скуки». К «Отелло» Толстой относится с несколько большей благосклонностью, всего вероятнее потому, что это произведение было созвучно его тогдашним взглядам на брак и ревность, – он считает, что это «наименее плохая, загроможденная напыщенным многословием драма Шекспира». Гамлет, по мнению Толстого, лишен какого бы то ни было характера; это – «фонограф Шекспира», который твердит его мысли. Что же касается «Бури», «Цимбелина», «Троила» и т. д., то Толстой упоминает их только в качестве примера «нелепости». Единственный персонаж Шекспира, который кажется ему естественным, – это Фальстаф, потому что «шекспировский язык», наполненный «несмешными шутками и незабавными каламбурами… совершенно подходит к хвастливому, изломанному, развращенному характеру пьяного Фальстафа».
Толстой не всегда думал так. Он с удовольствием читал Шекспира в 1860–1870 гг., в особенности в тот период, когда намеревался написать историческую драму о Петре I. Из его записей 1869 г. явствует, что он брал «Гамлета» за образец. Упомянув свои законченные работы, в частности «Войну и мир», которую он считает произведением гомеровского толка, Толстой добавляет: «Гамлет» и мои будущие труды: поэзия романиста в описании характеров». – Р. Р.
[Закрыть]
Заметьте, как безошибочно он определяет некоторые действительные недостатки Шекспира, признать которые мы не решаемся: так, например, искусственность поэтического языка, одинакового для всех персонажей, риторичность страстей, героизма, доведенная до упрощения. И я отлично понимаю, что Толстой – писатель, которого меньше, чем любого другого, можно назвать литератором, не мог сочувствовать искусству самого гениального из профессиональных художников слова. Но стоило ли тратить попусту время, рассуждая о том, чего не понять, да и вообще представляют ли какую-либо ценность суждения о мире, который слишком чужд?
Не представляют, если отыскивать в них ключ к этим чуждым Толстому мирам, и, напротив, представляют огромную ценность как ключ к пониманию его творчества. От гениального художника-творца никто не вправе требовать, чтобы он был беспристрастным критиком. Когда Вагнер или Толстой рассуждают о Бетховене или Шекспире, это не о них они говорят, а о самих себе – о том, что они считают для себя идеалом. Толстой отнюдь не выдает себя за нелицеприятного судью, он осуждает Шекспира, даже не стараясь быть объективным. Более того, он упрекает Шекспира в том, что его искусство слишком объективно. Творец «Войны и мира», сам будучи непревзойденным мастером объективного искусства, не находит слов, чтобы выразить всю меру своего презрения и заклеймить немецких критиков – тех, что вслед за Гёте «изобрели Шекспира», а также «теории», будто «искусство должно быть объективно, то есть изображать события совершенно независимо от оценки доброго и злого», нанося тем самым решительный удар божественному предназначению искусства.
Итак, Толстой вершит свой суд художника с позиций веры, которую он исповедует. Нельзя думать, что им руководят какие бы то ни было личные побуждения. Он ни в коем случае не выдает себя за образец; к своим произведениям он столь же безжалостен, как и к произведениям других.[172]172
Он относит к «области дурного искусства» свои «художественные произведения» («Что такое искусство?»). Осуждая современное искусство, он причисляет к нему свои собственные пьесы, в которых отсутствует та религиозная направленность, на основе которой должно строиться, по его мнению, драматическое искусство будущего. – Р. Р.
[Закрыть] Чего же он хочет и в чем заключается это божественное предначертание искусства, которое он проповедует?
Идеал его прекрасен. Слова «религиозное искусство» не следует понимать чересчур узко. Толстой не только не суживает, а, напротив, необычайно расширяет рамки искусства. Искусство, по его мнению, вездесуще.
«…Искусство… проникает всю нашу жизнь… мы привыкли понимать под искусством только то, что мы читаем, слышим и видим в театрах, концертах и на выставках… Но все это есть только самая малая доля… искусства… Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни… до церковных служб…» «Искусство есть один из двух органов прогресса человечества. Через слово человек общается мыслью, через образы искусства он общается чувством… извращение хотя бы одного из них не может не оказать вредных последствий для… общества… Орган искусства был извращен…»
Со времен Возрождения нельзя говорить об искусстве христианских наций. Общественные классы отделились друг от друга. Богатые, привилегированные решили присвоить себе монополию на искусство; критерием красоты стала их прихоть. Отдалившись от бедных, искусство само обеднело.
«Круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу». «Почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем… к чувству гордости, половой похоти и к чувству тоски жизни. И эти три чувства и их разветвления составляют почти исключительное содержание искусства богатых классов».
Такое искусство сеет заразу, оно растлевает народ, оно проповедует половую распущенность и потому становится главнейшим препятствием на пути к счастью человечества. Вот почему искусство утратило истинную красоту, естественность, искренность – оно стало деланным, вымышленным, головным.
В противовес этому лживому искусству эстетов, служащему утехой богача, Толстой предлагает создать живое, человечное искусство, которое объединит всех людей без различия классов и национальностей. Прошлые века дают нам великолепные примеры такого искусства.
«Большинство всегда понимало и понимает то, что и мы считаем самым высоким искусством: художественно простые повествования библии, притчи евангелия, народную легенду, сказку, народную песню все понимают».
Величайшее искусство – то, в котором выражено религиозное сознание эпохи. Не следует понимать под этим какую-либо догму. «В каждом обществе людей существует высшее… понимание смысла жизни, определяющее высшее благо, к которому стремится это общество… Религиозное сознание это бывает всегда ясно выражено некоторыми передовыми людьми общества и более или менее живо чувствуемо всеми».
«…Религиозное сознание в обществе все равно что направление текущей реки».
Религиозное сознание нашей эпохи выражается в стремлении к счастью, основанному на братстве людей. Истинное искусство только то, которое способствует этому единению. И самым высоким искусством будет то, которое добьется этого силой самой любви. Но указанной цели добьется и то искусство, которое умеет разить негодованием и клеймить презрением все, что мешает братству людей. Таково искусство Диккенса и Достоевского, «Отверженные» Гюго, картины Милле. Но и такое искусство, которое, хоть и не достигая особых высот, правдиво и с сочувствием отображает обыкновенную жизнь, тоже сближает людей. Таковы «Дон Кихот» и комедии Мольера. Правда, этот вид искусства грешит обычно обилием мелких реалистических подробностей и бедностью сюжета «сравнительно с образцами всенародного древнего искусства, как, например, истории Иосифа Прекрасного». «Обилие подробностей» принижает эти произведения, мешает им стать общечеловеческими.
«…Даже и те [современные произведения искусства], которые есть, испорчены большею частью тем, что называется реализмом, который вернее назвать провинциализмом в искусстве».
Таким образом, Толстой, не колеблясь, осуждает принцип, на котором зиждется его собственное искусство. Ему ничего не стоит принести в жертву будущему всего себя без остатка.
«Искусство будущего… не будет продолжением теперешнего искусства, а возникнет на совершенно других, новых основах…» Оно «будет состоять не из передачи чувств, доступных только некоторым людям богатых классов…» «Искусство не есть мастерство, а передача испытанного художником чувства. Чувство же может родиться в человеке только тогда, когда он живет всеми сторонами естественной, свойственной людям жизни. И потому-то обеспечение художников в их материальных нуждах есть самое губительное для производительности художника условие…»
В будущем «художниками… будут… все… даровитые люди из всего народа». Искусство станет доступным для всех, потому что «все будут в первоначальных народных школах обучаться музыке и живописи… наравне с грамотой». Кроме того, искусство не будет нуждаться в столь изощренной технике, как ныне; оно устремится к ясности, простоте, краткости, которые были присущи здоровому классическому искусству, искусству Гомера.[173]173
Уже в 1875 г. Толстой писал: «Проповедуйте… что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры из типографии… Совершенно простым и понятным языком ничего дурного нельзя будет написать». – Р. Р.
[Закрыть] Что может быть прекраснее, чем это искусство будущего, которое сумеет самыми простыми, чистыми линиями передать общечеловеческие чувства! Создать сказку или песню, написать картину для миллионов людей куда важнее – и куда труднее, – чем придумать роман или симфонию.[174]174
Пример самого Толстого достаточно поучителен. Составленные им четыре книги для чтения для деревенских детей были приняты во всех гражданских и церковных русских школах. Его «Первая русская книга для чтения» – духовная пища миллионов. «В простонародии, – пишет бывший член думы С. Аникин, – имя Толстого сливается с понятием о «книге». Можно услышать, как крестьянский мальчик наивно спрашивает в библиотеке: «Дайте мне хорошую книжку, толстовскую!» (Он хочет сказать «толстую») («Памяти Толстого», лекции в аудитории Женевского университета, 7 декабря 1910 г .). – Р. Р.
[Закрыть] Это – необозримое и к тому же почти нетронутое поле деятельности для художника. Благодаря таким произведениям люди познают счастье братского единения.
«Искусство должно устранять насилие. И только искусство может сделать это». «Назначение искусства в наше время – в том, чтобы… установить… царство божие, то есть любви».[175]175
Это идеальное братское единение людей не представляется Толстому конечной целью, к которой должна быть направлена человеческая деятельность; его ненасытная душа заставляет его стремиться к неизведанному, к тому, что превосходит даже любовь. «Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их…». – Р. Р.
[Закрыть]
Кого из нас не вдохновят эти благородные слова?
И кому не ясно, что, несмотря на немалую утопичность и некоторую наивность, точка зрения Толстого на искусство жизненна и плодотворна! Да, наше современное искусство в целом – всего лишь выражение вкусов одной касты, которая и сама-то подразделяется в разных странах на враждующие друг с другом кланы. Ныне во всей Европе нет ни одного художника, в творчестве которого находили бы почву для единения различные партии и слои нации. В наше время таким художником был Толстой. В нем мы любили самих себя, мы, люди различных наций и классов. И тот, кто, подобно нам, вкусил могучую радость этой щедрой любви, уже не может довольствоваться жалкими частицами, отторгнутыми от великой души человечества, а ведь только этими крохами питается европейское салонное искусство.
Самая лучшая теория только тогда хороша, когда она подтверждена делами. У Толстого теория и творчество всегда едины, так же как его вера и деятельность. В то время, когда он разрабатывал свою критику искусства, он создавал и образцы того нового искусства, которое проповедовал, образцы двух видов искусства, одного более возвышенного, другого менее чистого, но столь же «религиозного» в самом человеческом понимании этого слова. Один вид его искусства стремился объединить людей любовью, другой объявлял войну всем, кто против любви. Он написал тогда замечательные произведения: «Смерть Ивана Ильича» (1884–1886 гг.), «Народные рассказы и легенды» (1881–1886 гг.), «Власть тьмы» (1886 г.), «Крейцерову сонату» (1889 г.), «Хозяин и работник» (1895 г.).[176]176
В эти годы появилось в печати или во всяком случае было завершено произведение, написанное в счастливые времена жениховства и первых лет супружества: чудесная история лошади – «Холстомер» (1861–1886 гг.). Толстой упоминает об этом рассказе в одном из писем к Фету от 1863 г. Начало рассказа отличает тонкость пейзажных зарисовок – любовное проникновение в душу живого существа, юмор, молодой задор; все это роднит «Холстомера» с произведениями зрелой поры («Семейное счастие», «Война и мир»). Зловещий конец рассказа, его последние страницы, посвященные параллельным описаниям трупа старого коня и трупа его хозяина, носит на себе отпечаток беспощадного реализма, характерного для творчества Толстого после 1880 г. – Р. Р.
[Закрыть] Подобно собору с двумя башнями, символизирующими вечную любовь и вечную ненависть, возвышается над творениями всего этого периода «Воскресение» (1899 г.).
Все эти произведения отличаются от предшествующих новыми художественными особенностями. Толстой переменил взгляд не только на предмет искусства, но и на форму выражения. «Что такое искусство?» и книга «О Шекспире» поражают нас неожиданностью изложенных в них эстетических принципов. В большей своей части принципы эти резко противоречат ранее написанным великим произведениям Толстого. «Ясность, простота, краткость», – читаем мы в «Что такое искусство?» Презрение к внешним эффектам. Осуждение мелочного реализма. А в книге «О Шекспире» дан чисто классический идеал совершенства и чувства меры. «Без чувства меры никогда не было и не может быть художника…» Бесспорно, что в новых своих творениях Толстой позднего периода не может отречься целиком от самого себя – от своего вечного стремления к анализу и от необузданности творческого темперамента. Более того, черты эти позже сказываются даже резче, и вместе с тем на новом этапе искусство его подвергалось глубоким изменениям, о чем и свидетельствует несравненная выразительность рисунка, особенно четкого в передаче душевных движений, внутренняя драма сконцентрирована до предела в своем напряжении, она подобна тигру, собравшемуся в комок перед прыжком;[177]177
«Крейцерова соната», «Власть тьмы». – Р. Р.
[Закрыть] чувства общечеловечны, освобождены от случайных подробностей, от внешнего реализма, и, наконец, нов язык, которым написаны эти произведения: он необычайно сочен, как бы пропитан ароматами земли.
Любовь Толстого к народу уже давно открыла ему красоты народного языка. Ребенком он засыпал под песни и сказки странников-сказителей. Став зрелым человеком, знаменитым писателем, он находил высокое эстетическое наслаждение в беседах с крестьянами.
«Эти люди, – говорил он позже Полю Буайе,[178]178
Газета «Тан» от 29 августа 1901 г. – Р. Р.
[Закрыть] – мастера слова. В прежнее время, когда я разговаривал с ними или с теми странниками, что ходят по нашим деревням с котомками за плечами, я тщательно отмечал те их выражения, которые слыхал в первый раз, нередко позабытые нашим современным литературным языком, но всегда отмеченные печатью хорошей русской старины… Да, дух языка живет в этих людях…»
Толстой, мастер, свободный от какого бы то ни было давления литературных условностей, должен был особенно остро воспринимать всю прелесть народной мысли и речи.[179]179
Летом 1879 г. Толстой близко сошелся с крестьянами. Страхов пишет по этому поводу: «Толстого кроме религиозности… занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык…». – Р. Р.
[Закрыть] Привыкнув жить вдали от городов, среди крестьян, он до какой-то степени перенял особенности народного мышления, медлительную логику, здравый смысл и рассудительность, когда человек высказывается степенно, не торопясь, и вдруг уклоняется в сторону ставя слушателя в тупик; он усвоил манеру повторять какую-нибудь мысль, которая ясна уже и без того упорно повторять ее – в одних и тех же выражениях снова и снова.
Все это скорее недостатки, чем достоинства. Лишь постепенно он постиг до самых глубин, в чем состоит скрытое от непосвященных обаяние народной речи – сочность образов, поэтическая свежесть выражений, постиг всю мудрость народных преданий. Все это сказалось уже в годы работы над «Войной и миром». В марте 1872 г. он пишет Страхову:
«Я изменил приемы своего писания и язык… Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, – мне мил. Язык этот… есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное – язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели – все похоже на литературу». Но не только языком и приемами описаний обязан Толстой народу; он обязан ему многими своими вдохновениями. В 1877 г. в Ясную Поляну пришел сказитель, и Толстой записал некоторые его рассказы. В их числе были легенды «Чем люди живы» и «Три старца», на основе которых, как известно, Толстой создал лучшие из своих народных рассказов, опубликованных несколько лет спустя.[180]180
В своих записях о прочитанном между 1860 и 1870 гг. Толстой отмечает: «Былины…, влияние очень сильное». – Р. Р.
[Закрыть]
Рассказы эти единственны в своем роде – их ни с чем не сравнить в современном искусстве. Они выше искусства. Читая эти рассказы, кто думает о литературе? В них не только дух евангелия, целомудренная любовь людей-братьев, они наполнены добродушным народным юмором и мудростью народной. Простота, ясность, необычайная сердечность и, главное, несказанный свет пронизывает все. Светом этим озарены и старец Елисей[181]181
«Два старика» (1885 г.). – Р. Р.
[Закрыть] и башмачник Мартын, которому из окошечка его подвала видны только ноги прохожих и к которому приходит сам господь бог в обличье бедняков, и Мартын, несмотря на свою бедность, помогает им, как может.[182]182
«Где любовь, там и бог» (1885 г.). – Р. Р.
[Закрыть]
Часто в этих рассказах чувствуются не только евангельские притчи, но и неуловимый аромат восточных легенд, след сказок из «Тысячи и одной ночи», которые так любил Толстой в детстве.[183]183
«Чем люди живы» (1881 г.), «Три старца» (1886 г.), «Крестник» (1886 г.). – Р. Р.
[Закрыть] Порой сказочный колорит становится мрачным, тогда все повествование приобретает устрашающее величие. Таков рассказ о мужике Пахоме,[184]184
«Много ли человеку земли нужно?» (1886 г.). – Р. Р.
[Закрыть] который надрывается, стремясь приобрести как можно больше земли – всю, что он сможет обойти за день, и, обойдя больше, чем ему под силу, умирает от натуги.
«Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул… и упал он наперед.
– Ай, молодец! – закричал старшина. – Много земли завладел!
Подбежал работник Пахомов… он мертвый лежит.
Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил – три аршина, и закопал его».
Почти все эти рассказы в поэтической форме выражают одну и ту же евангельскую мораль самоотречения и всепрощения:
«Прощай брату твоему, согрешившему против тебя».[185]185
«Упустишь огонь, не потушишь» (1885 г.). – Р. Р.
[Закрыть]
«Не противься злому».[186]186
«Свечка» (1885 г.), «Сказка об Иване-дураке». – Р. Р.
[Закрыть]
«Мне отмщение, и аз воздам, говорит господь».[187]187
«Крестник» (1886 г.). – Р. Р.
[Закрыть]
И всюду, во всех рассказах, одна мораль – любовь. Толстой, стремившийся к искусству, доступному и понятному всем людям, сумел добиться в произведениях этого рода подлинной общедоступности. Они имели во всем мире огромный успех, и успех прочный, ибо искусство здесь очищено ото всех преходящих веяний, в нем все вечно.
«Власть тьмы» не поднимается до столь величественной простоты; да художник и не стремится к этому. «Власть тьмы» – оборотная сторона медали: там – мечты о божественной любви, здесь – жестокая действительность. Когда читаешь эту драму, лишний раз убеждаешься в том, что Толстой при всей своей вере в народ никогда не допускал идеализации и не отступал от правды!
Несколько небрежный в других своих драматических творениях,[188]188
Интерес к театру появился у Толстого довольно поздно. Зимой 1869/70 г. он вдруг почувствовал вкус к драматургии и, как всегда, отдался целиком новому увлечению.
«Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще и, как это всегда случается с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-нибудь предмете… вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на новый ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового… Читал Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя, Мольера… Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Эврипида… больше всего лежу в постеле (больной), и лица драмы или комедии начинают действовать. И очень хорошо представляют» (из писем к Фету от 4 и 17 февраля 1870 г.). – Р. Р.
[Закрыть] Толстой на сей раз достигает безукоризненного мастерства. Характеры и поступки действующих лиц обрисованы необыкновенно жизненно, без тени искусственности: сердцеед Никита; охваченная необузданной чувственной страстью Анисья; цинично добродушная старая Матрена, которая матерински покрывает распутство сына; святость старика-заики Акима, неказистое обличье которого избрал своим пребыванием бог. И дальше – падение Никиты, безвольного и незлого, но погрязшего в грехе и докатившегося до преступления, несмотря на тщетные попытки удержаться от падения в бездну, куда увлекают его мать и жена.
«Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы…[189]189
«Власть тьмы», вариант IV акта. – Р. Р.
[Закрыть] Эти как звери лесные. Ничего не боятся… Вашей сестры в России большие миллионы, а все как кроты слепые, – ничего не знаете. Мужик – тот хоть в кабаке, а то и в замке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что?… Как выросла, так и помрет. Ничего не видела, ничего не слыхала… Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычутся. Только и знают песни свои дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают».
И, наконец, страшная сцена убийства новорожденного ребенка. Никита не хочет убивать. Анисья, которая ради него убила своего мужа и с тех пор терзается совершенным преступлением, свирепеет и, обезумев, угрожает выдать его; она кричит:
«Пусть не я одна. Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает каково!»
Никита душит ребенка, зажав между двумя досками. Не завершив преступления, он в отчаянии пытается бежать, угрожает убить мать и Анисью, рыдает, молит:
«Матушка родимая, не могу я больше!»
Ему мерещится, что раздавленный ребенок плачет.
«Куда уйду я?»
Это – шекспировская сцена. Менее жесток, но еще более хватает за сердце вариант IV акта, диалог маленькой девочки и старого работника, которые, оставшись вдвоем в доме, слышат в ночной тишине крики и догадываются о преступлении, совершаемом на дворе.
В конце – искупление, добровольное раскаяние. Никита, в сопровождении своего отца – старика Акима – входит босой на свадебный пир. Он падает – на колени, земно кланяется всем присутствующим и публично кается во всех своих прегрешениях. Старик Аким, глядя на него с восторженной и скорбной улыбкой, подбадривает сына:
«Бог-то! Бог-то! Он во!»
Особую силу придает этой драме великолепный народный язык.
«Я ограбил свои записные книжки, чтобы написать «Власть тьмы», – говорит Толстой Полю Буайе.
Знаменитые сцены из «Власти тьмы», в которых так и светится душа русского народа, его поэтичность, его острый, насмешливый ум получились такими неожиданными, что рядом с ними бледнеют все привычные литературные образы. Толстой сам упивается изображаемым;[190]190
Во всяком случае работа над этой тяжелой драмой не отразилась на душевном состоянии Толстого. Он пишет Тенеромо: «Я живу хорошо, радостно. Писал все драму («Власть тьмы»). Еще не вышла. В цензуре» (январь 1887 г.). – Р. Р.
[Закрыть] он с наслаждением уснащает драму всеми этими необычными выражениями и мыслями; он даже забавляется наиболее смешными из них и тут же, как проповедник, с отчаянием вглядывается в тьму человеческих страстей.
Наблюдая народ, освещая светом своей мысли мрак, среди которого народу приходится жить, Толстой одновременно создает два трагических произведения, показывающих, что богатые, обеспеченные классы общества пребывают в еще большей, поистине непроглядной тьме. Чувствуется, что в этот период творческая мысль Толстого находится под сильным воздействием законов театра. «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» – это именно внутренние драмы, драмы души; отсюда их сжатость, сосредоточенность; а в «Крейцеровой сонате» повествование даже ведется от лица героя.
«Смерть Ивана Ильича» (1884–1886 гг.) – одно из тех произведений русской литературы, которые всего больше взволновали французских читателей. Я уже говорил в начале книги, как «Смерть Ивана Ильича» потрясла французских провинциальных буржуа, обычно совершенно равнодушных к искусству. И это понятно. Повесть Толстого волнует правдивым и типическим изображением среднего человека, добросовестного чиновника, который обходится без религии, без идеалов, даже без мысли; он весь поглощен своими мелкими делами и, прожив всю жизнь как бы машинально, только в смертный свой час с ужасом обнаруживает, что он по-настоящему так и не жил. Иван Ильич – типичный представитель европейских буржуа восьмидесятых годов прошлого столетия, тех буржуа, которые читают Золя, ходят в театр смотреть Сару Бернар и не то что отрицают религию, а просто ни во что не способны верить. Вера, безверие? К чему утруждать себя мыслями обо всем этом, проще не думать.
Яростным обличением современного общества и в особенности брака, то саркастически едким, то откровенно насмешливым, «Смерть Ивана Ильича» открывает серию новых произведений Толстого; повесть эта предвещает еще более суровый реализм «Крейцеровой сонаты» и «Воскресения». Жалкая и нелепо пустая жизнь людей, которых сотни и тысячи; смешное тщеславие, радости мелочного самолюбия – мизерные радости, но все же лучше они, «чем сидеть одному или с женой». Жизнь, отравленная служебными неудачами, несправедливыми оскорблениями (когда вас обходят чином). И эта нелепая, никому не нужная жизнь, в которой единственное счастье – игра в вист, обрывается по еще более нелепой причине: Иван Ильич упал с лестницы, желая поправить гардину на окне в гостиной, и падение это положило начало его болезни. Ложь жизни. Ложь болезни. Ложь преуспевающего врача, который сам-то вполне здоров. Ложь семьи, которой болезнь внушает отвращение. Ложь жены, которая изображает преданность, прикидывая в уме, как она будет жить после смерти мужа. Всеобщая ложь, которой противопоставлена единственная правда – сочувствие слуги: тот не старается скрыть от умирающего его положение и как брат ходит за ним. Иван Ильич, преисполненный бесконечной жалости к самому себе, оплакивает свое одиночество и эгоизм людей. Он невыносимо страдает до того дня, когда ему вдруг открывается, что вся его прошлая жизнь была полна лжи, но что это еще можно исправить. И вот – за час до смерти – все вдруг озаряется ясным светом. Он больше не думает о себе, он думает о близких, ему становится жалко их; он чувствует, что должен умереть, чтобы освободить их от себя.








