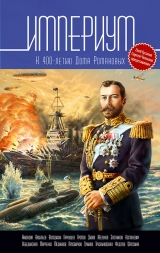
Текст книги "Империум. Антология к 400-летию Дома Романовых"
Автор книги: Роман Злотников
Соавторы: Олег Дивов,Марина Ясинская,Далия Трускиновская,Виктор Точинов,Дмитрий Володихин,Евгений Гаркушев,Александр Тюрин,Татьяна Томах,Николай Желунов,Юлиана Лебединская
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Трубецкой? Да, у сего заслуги. И род его высок, и с ляхами честно бился, когда прочие по запечьям отсиживались. Казачье его любит, а он их пирами потчует: встаньте за меня, вольные люди!
– Кривоват…
– А?
– Кривоват, я говорю, – и Лопата пояснил: – То за Шуйского, то за вора тушинского, то за вора псковского, ныне сам за себя. Извилист. Никому до конца не враг, никому до конца не друг.
Пожарский воззрился на Митю в удивлении. Похоже, Бог дал красавчику больше ума, чем тот показывает. Ведь и впрямь, мутен Трубецкой, хоть и заслугами украшен.
– Остается Голицын Иван Васильич. И военачальник славный, и разумом не обделен, и род его хорош, к Гедимину корнями уходит… Братья его украшены доблестью: один за русское дело стоял, и оттого в плену у короля Сигизмунда мучается, другой за русское дело стоял и жизнь отдал.
– А сей всем хорош, но к земскому нашему ополчению так и не пристал, – подал голос Лопата.
Больно ударил родич. Он, Дмитрий Михайлович Пожарский, силою своею сажает лучшего из тех, кто годен на царство. Ради рода его сажает. А ему говорят: «Лучший? Но тоже не без сквернинки…» И кто говорит – первейший его соратник!
– Кого ж тогда? Нет чистых.
Лопата вздохнул, и на лице его, лице немолодого уже и до смерти усталого человека, пусть и ярого до баб, пусть и лихого бойца, отразилась смертная печаль.
– Напрасно пытаешь ты меня. Ты ведешь нас, мы за тобой идем. Куда приведешь, там и будем. Иван Васильич? Твое дело. Не так и плох Иван Васильич. Одно мне тошно: своих рубить будем. Опять – русские русских, православные православных… Что-то не так выходит. Но раз Бог ничего другого не дает, ино пусть случится, чему не миновать. Я тебе верен. И хватит с меня, дай отдохнуть. Вели девке зайти. Не тревожься, не испорчу, темно перед глазами…
Дмитрий Михайлович покинул родича в смятении.
Торушенинов дожидался его весьма долго. Верно, обозлился уже и сидит, гневом налитой. Но воеводу ноги не несли к посланнику Голицыных. Слишком тяжелы слова, кои должно сказать ему. Согласишься, яко и надо б, по уму, на свою силу и свой разум положившись, и кровь прольется, но держава к лучшему устроится. Не согласишься, и… на одного Бога надейся, яко Он положит. Отрока на царство – Салтыковым с присными на корысть…
Князь пошел в другое место. Пока – в другое.
Тимофеев, худой старик, улыбался, будто праведник, увидевший ангела.
– Дмитрий Михайлович, благодарствую, усладил! Истинно усладил. Век не беседовал с книжным человеком, а сей дьякон до винограда словесной премудрости великий охотник…
Пожарский нахмурился:
– По делу-то до чего дошли?
Тимофеев потер лицо, потер макушку, почесал бок и нелепо притопнул. Потом опять потер лицо. Настоящий книжник! Умища много, вежества – никакого.
– Не ведаю, яко и сказать, – наконец заговорил он. – Разбираться в подробностях, так не час нужен. И не день. Может, за седмицу…
Уловил, чем наполнен взгляд Пожарского, и смутился.
– Я токмо про то, что времени мало. Невиданное дело! С какого бы конца приступить к нему?.. Того я в речах его не понял и сего не понял. Вкратце скажу, до чего дознался. Ты ведь, чай, по спокойной поре читывал летописцы наши древние али хронографы, Дмитрий Михайлович?
– Бывало.
Андроник уточнил:
– Хронографы – о василевсах и эпархах, об архонтах и друнгариях, о далеких градах и больших битвах…
– Не миновали меня хронографы, но о них ли ныне речь?
Тимофеев продолжал, будто не заметив его вопроса:
– И помнишь, верно, про одно и то же великое деяние в ином летописце сказано не раз и не два?
Князь кивнул. Случалось и такое. К чему ж ты ведешь, многоречивый дьяк?
– По первости начинается всё со слов: «В лето нынешнее князь некий пошел туда-то…» А только закончится первое сказание про то, куда он ходил и каких дел натворил, так начинается второе. И на первой строке его два слова: «Иное сказание».
Пожарский вновь кивнул. Видно, простого объяснения он не получит. Новой заботы не хватало…
– Так и у Бога, знать, про нас, грешных рабов его, в замысле имеется «иное сказание». А может, и дюжина разных «сказаний». И в каждом «сказании» – Москва, и в каждом «сказании» – Московское государство, иные державы, иные языки, иные цари. Те ж люди, те ж напасти. Целое везде сходно, малое расходится… Дьякон-то к нам из «иного сказания» пожаловал.
Воевода рукой показал: слушаю со вниманием. Вот откуда могло прийти ходячее серебро непривычного вида. Сходится? Сходится. Но… какая же небылица!
– Господь всемогущ. Отчего не завести ему, кроме нас… нас же, но чуть иных, в замысле своем?
Тут князь ничего возразить не мог. Тут бы богослова преухищренного послушать, да где его сыщешь?
Дьяк тем временем продолжал:
– В его «сказании» благоверный царь…
– Кир Димитрий! Василевс, а не цесарь… – поправил было Андроник, но Тимофеев даже слушать его не стал.
– …благоверный царь Мануил Комнин женил сына своего Алексея не на франчюжского короля дочери, а на дочери великого князя владимирского Андрея Юрьевича, имя коей в летописях наших не писано. И от брата Андреева, Всеволода, получил изрядную помощь ратью. С нею вышедши против безбожных измаильтян, поразил их у Мириокефалы…
– Мириокефалон, – вновь поправил Андроник.
– У Мириокефалы, – упорствовал Тимофеев. – Царство ромейское запустения не узнало, а сын его Алексей бесславною смертью не погиб. Дети их и наследники, сделались государями и ромейскими, и русскими. Соединились два великих царства в одно. Бояре и князья русские с боярами и князьями греческими породнились. С турками перемогались тяжко, а еще того пуще – с латыною; от тех битв Цареград запустел. Ныне он под нашею… под их вот, – он показал на Андроника, – державою, только градец ныне маленький и храмами оскудел. А с татарами бились всей силой греческой, болгарской и русской. По грехом умножились злые татарове… Татарове Киев им спалили, Киева нет ныне… там. Владимир умалился, одно имя осталось. Но под их ордынскими царями, яко у нас, держава не бывала. И под литву городки Руси Белой, Киевщина, да Волынь, да Полотчина не ушли. Русско-греческие государи ими властвуют, по нашему закону люди живут. Но самая радость – повсюду схолы да ликеи.
– Ликеи? – переспросил князь.
– Сиречь акадэмии славяно-эллинские, – пояснил Андроник. – Для научения людей молодых премудростям мирским и богословским.
Славно живут тамошние люди, одобрил про себя Дмитрий Михайлович. И растревожило его это соображение. Выходит, он уже и согласен, уже и не перечит, что есть неведомо где незнамо какая Эллинороссия, что имеется у Бога про русских «иное сказание»? Да ведь покамест сии словеса вилами по воде писаны, якобы неистовых баб басни! А его ждет Торушенинов, его ждут дела темные и тайные. И надобно знать, каким макаром поступить с перекидным…
– Дьяк, – говорит Дмитрий Михайлович, добавляя голосу твердости. – Довольно сторонних словес. Их оба вы плести горазды. Ответь: зачем он здесь? Чего ждать от него? Потребно ли от него опасение?
Тимофеев помялся, подбирая верный ответ. От великого усердия даже поднес ко рту ладонь и куснул ее. Будто не здесь он, с воеводой и перекидным, а унесся вдаль, откуда простой жизни не слыхать и не видать. Тогда Андроник сделал знак своему расспросчику: не лезь, сам обскажу! И заговорил со хмуростью:
– Му калос фили Иоанн не сможет. Трудно передать на словах… Я знаю великих мудрецов из Полоцкого ликея. Они много лет упражнялись в философии и теологии, дабы истина им открылась… Сказание – одно. Одна душа, одна жизнь, одно событие, одно слово, и других нет, не было и не будет. Но только… когда всё уже началось. Когда мир сотворен, кир стратиг. До того, до творения, до начала веков, всё сущее – в замысле Бога. А там может быть хоть тысяча сказаний, хоть мириад. Одни – чище, истиннее, красивее, другие же – чернее, гаже, исполнены лжи. Они толкаются друг с другом, ибо Господь думает мирами, миры – главы в книге его размышлений. Когда ложь мира становится нестерпимо велика, когда становится мир нечист, в него приходят люди из… «иного сказания», самого близкого по сути, ибо стены между «сказаниями» в замысле Его тонки. Люди же и события сего загрязненного мира размываются, принимая в себя мир иной, отдавая ему свое место и растворяясь в нем. Было два сказания, стало одно… Когда все миры растворятся, останется один, самый истинный, принявший в себя всю сложность и пестроту миров, в нем утонувших. Он-то и будет Господом создан… И какое «сказание» растворится, а какое останется, ведает Бог, более же никто. Одно слово, один поступок, одно «быть по сему» или «не быть», – и миру конец. Переполнится чаша скверны, распадется мир. Прости меня, ничтожного дьяконишку, грешного великими грехами, великий стратиг! Я здесь, ибо мир твой умирает. Случаем нимало не понятным принесло меня сюда, как и других, верно, приносит. Стены твоего «сказания» ослабли, люди делаются подобными воздуху, на их место идет «иное сказание», иные люди. Пока нас мало, мы заметны тут, но сами не ведаем, как у вас очутились. Обычные души русские, без вражды, лютости и гнева… Потом нас будет больше, но вы сольетесь с нами, перестанете видеть нас, перестанете быть… Поймешь ли меня, господин мой?
Андроник смотрел на него, как смотрит умный отрок на взрослого дядьку, ежели взрослый дядька дурак и надобно ему разжевать всякое слово, будто отроку.
Усмехнулся князь. Ликеи, стало быть…
А что земля и люди чистоты лишились, грехом испакощены, любовь топчут и веру на пустырях забыли, – то правда. Черна ныне Русь, да и Русь ли одна? Куда ни воззри, всюду темень! Всюду стынь морозная меж людьми…
– Внял я твоей риторике, черный дьякон. Мы еще не живем, мы не люди еще, мы всего лишь малая часть замысла Его. Сотворение мира еще не наступило. Мы скверны, и от того пропадем… Можем пропасть. А ты средь нас – человек случайный, ни богу свечка ни бесу кочерга. «Иного сказания» гражанин.
Андроник радостно закивал. Дурной народ книжники – больше жизни любят, когда им внимают. Вняли – а там хоть потоп! Им же главное, чтоб их драгоценные поучения до умов дошли нерасплесканными.
– Морозны слова твои. Ум от них отворачивается… Потом более расскажешь. Нынче исповедуешься и причастишься. Причастием испытан будешь. Если Господь не попалит тебя, то казни не опасайся, а за приставами пока сиди – целее останешься. Назавтрее пришлю к тебе троицких монахов, пусть-ка они разбираются, сколь на устах твоих вранья и сколь истины.
Сомнение мучило воеводу: концы с концами сходились, да слишком уж неслыханными и черными откровениями потчевал их Андроник.
Внезапно Лобан отверз уста.
– Мне бы не влезать в великие господские дела, рылом не вышел. Да послушай меня, Дмитрий Михайлович, раз. Дурное скажу – так пни сапогом, я отлечу, обиды не затаив.
Воевода кивнул в знак того, что готов слушать. Сегодня ему понадобится любой дельный совет, хотя бы и от человека низкой крови.
– Я пес твой и псом всегда был. Иду у твоей ноги, кого велишь – грызу. Я собака твоя. И нюх у меня собачий. Чую людей. Кто слаб, кто лжив, кто зол, кто глуп, кто ленив, а кто хитер и в спину бить горазд. Давно не обманывает меня нюх. И вот я нюхаю квашню сию, – он показал на Андроника, – и враньем не пахнет. Слабый человек, овца-человек, тетеря, на один жевок волчине, но лжи в нем нет.
Пожарский смотрел на слугу и думал, до чего же необычный день нынче. Всякий человек, ему близкий, выказал всё лучшее, что в душе у него имеется. И Лопата, и Тимофеев, и вот теперь верный его шильник. Может, Бог его желает наставить? Но в какую сторону следует ему вразумиться? Куда поворотить?
– Христос с тобой, Лобан, пинать тебя не за что.
Только сказав это, князь ощутил, как ум его поворачивается, будто санки, летящие по крутому склону прямиком в сосну. Вот оно, дерево, ударит в лоб и жизни лишит, вот оно, вот оно! И не спрыгнуть… А полозья находят какой-то доселе невидимый уклон и проносят мимо гибели.
Чистых нет? Чистый нужен человек? Да ведь Миша Романов чист, девствен. Смута не тронула его. Все кругом предавали, убивали, корысти своей достигали, а сей ни при чем. Молился, отца ждал из плена, ни в которую грязь не влез. Царство с чистого листа начинает жить, тьма за спиной у него, непроглядная ночь! Может, теперь Бог хочет поместить невинного отрока в сердце державы и Сам позаботиться о ней, яко заботился о ветхом Израиле до Христа? Может, не тот хорош, кто матёр, а тот, кто не знал скверны? Отрок на престоле – отчего ж худо сие? А и вовсе сие хорошо. Да, мимо него полезут править Салтыковы с Черкасскими. Но если вернуть отца его из плена, то встанет за спиной царя-девственника сильный державный человек, не даст растащить царство. А если не сможем вернуть? Ну так и сами, чай, не оставим государя без пригляда.
И своих в таком случае бить не надо, не надо дырявить душу большим грехом…
– Пойдем-ка со мной, Лобан.
Пожарский скоро дошел до горницы. Посланник Голицыных смотрел на него с яростью. Во взгляде его читалось: времени нет, каждый час на счету, а ты, князь, всё запрягаешь!
– Тебе требовалось слово мое… Вот тебе мое слово: нет.
– Отчего ж? На которую лесть поймали тебя, Дмитрий Михайлович?
Воевода ответил, чувствуя в душе покой:
– Положимся на Бога. И побережем своих.
Торушенинов вскинулся было, да Лобан вышел из-за спины воеводы и одним видом своим напомнил, где находится сын боярский да как ему следует себя вести.
– Отведи за ворота, Лобан. Кончен разговор.
К Тимофееву с Андроником воевода шел, чувствуя покой и радость. Бремя, все последние дни лежавшее у него на душе, пропало. Что поведает ему дьякон из неведомого Ромейско-русского царства о тамошней Москве, об эпархах, архонтах, друнгариях и прочих важных людях, чины коих памятны с тех давних пор, когда читал князь хронографы, но давно заметены снегом большой войны? Скоро ль начнут расходиться между собою две державы? Когда…
Кричал Тимофеев. Протяжно, с надсадою, словно ратник, коему отрубили руку, и кровь хлещет, и боль разгорается.
Дмитрий Михайлович вбежал в покой, оттолкнув людей, стороживших перекидного. Тимофеев стоял, вспрыгнув на сундук и касаясь левой рукой иконы в красном углу. Правой он истово крестился, не переставая кричать.
– А ну-ка цыц!
Дьяк немедленно заткнулся.
– Где Андроник?
Тимофеев закрыл глаза и для верности положил на лицо ладонь. Мол, не видеть бы такого, никогда бы не видеть, и сейчас видеть не стоит.
А близ окна медленно таял в воздухе человек. Вернее, уже не человек, а только очертания человеческого тела с пустотою внутри. Кажется, перед полным исчезновением он поднял руку, благословляя князя…
Майк Гелприн. Кабацкая лира
Я не вор, не тать, только им под стать
Иван Осипов (Каинов)
1. 1731–1740
Хорош у гостиной сотни купца Петрушки Филатьева дом, что на Ильинке стоит, в Китай-городе. В два этажа, каменный, убранство богатое, одной серебряной посуды три сундука. И двор большой, крепким забором обнесен, а при воротах сторож с колотушкой, в кафтане ситцевом, с нашивками. Во дворе на цепи медведь сидит, лютый, прожорливый, девка Авдотья того медведя сырым мясом кормит.
Под утро, петухи еще не пропели, дверь купеческого дома скрипнула, и на крыльцо малец выбрался. Огляделся и мимо сторожа, мимо медведя шасть неслышно к забору. Поднатужился да и перемахнул его. Постоял, ночную тишину послушал. Шмыгнул к воротам, уголек из-за пазухи достал и на воротах тех вывел:
Пей воду, как гусь,
Ешь хлеб, как свинья,
А работай черт, а не я.
Звали мальца Ванькой Осиповым, и был он из самых что ни на есть неимущих крестьян, в услужение к барину за долги отданных. Шел Ваньке от роду четырнадцатый год, но ловок и смекалист был малец изрядно, за что и лупил его барин безжалостно. За нерадивость подзатыльниками угощал, за леность розгами охаживал, а за воровство, бывало, батогами берёзовыми, а то и кнутом.
Вдоль забора господского, в темноте хоронясь, пробрался Ванька к Ильинским воротам. К Посольскому подворью зайцем пуганым проскочил. Между мануфактурными цехами, что граф Апраксин да граф Толстой на том подворье устроили, ужом прополз. И выбрался на Никольскую.
Здесь Ваньку ждали. И не кто-нибудь, а Петрушка Смирной, сын солдата и сам беглый солдат прозвищем Петр Камчатка. Был Камчатка вором, нетрусливым, удачливым, и людей, каких надо, знал.
– Принес? – Ваньку за плечо ухватив, шепнул он.
Ни слова Ванька не сказал, а пояс крученый снял и вору подал. Были в поясе том четыре рубля запрятаны, которые, пока Петрушка Филатьев спал, в ларце лежали.
– Богато, – похвалил Камчатка. – Ну, пойдем, что ли.
У Всехсвятских ворот переждали вдвоем ночную стражу и вниз нырнули, на набережную, к Берсеневскому мосту, который на Москве называли Новым Каменным, а то и просто Каменным, как у кого язык повернется. Построил мост два десятка лет тому ученый старец Филарет, по приказу князя Васьки Голицына, что у царевны Софьи Алексеевны в фаворе был. Хорошо строил Филарет, старательно, особенно девятую арку, последнюю – место, которое знающие люди «девятой клеткой» звали. Под «девятой клеткой» ночи ночевали, питие пили да беседы беседовали добры молодцы, лихие, удалые, в воровском и разбойничьем ремеслах искусные.
– Этот малец со мной будет, – сказал сидящим вокруг костра людям Камчатка. – Под свою руку его беру. Наш малец, свойский. А это Волк, Жузла, – стал он называть прозвища друзей-приятелей, – Замчалка, Лебедь, Медведь, Бухтей, Баран, Шинкарка, Журка…
Начало как раз светать, и Ванька вгляделся в новых знакомцев. Были они большей частью молоды, кто его лет, кто постарше на год-другой. Лишь рябой Бухтей да сам Камчатка выглядели людьми опытными, пожившими. И еще сидел поодаль, насупившись и сгорбившись, совсем уж дряхлый старик, морщинистый, с волосами цвета прогоревшей золы, носом как у коршуна клюв, и с глазами черными, чернее ночи.
– Откуда будешь? – спросил у Ваньки долговязый, с подбитым глазом Жузла.
– У барина в услужении со усердием должность отправлял, только вместо награждения несносные побои получал, – прибауткой ответил Ванька.
– На офеньском говоришь ли?
Был офеньский языком особым, тайным, от офеней-коробейников произошедшим, лихим людям понятным и для нужд их сподручным.
– На офене мало-мальски ботаю, – ответил Ванька.
– А товар с безумного ряду на офене чего будет? – не отставал Жузла.
– Водка это.
– А немшоная баня?
– То изба пытошная.
– Ладно. А умеешь чего?
Ванька переступил с ноги на ногу, очи долу опустил.
– Петь могу.
– Да ну? Давай, спой!
Ухмыльнулся Ванька, подбоченился, плечи расправил и затянул:
– Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина,
Не водись, мой сын, со бурлаками,
Со бурлаками с понизовыми,
Со ярыгами со кабацкими,
Потерять тебе, сын, буйну голову.
– Хорошая песня, душевная, – похвалил Жузла, когда Ванька закончил. – Ты ее откуда слыхал?
– Ниоткуда, сам сочинил, – сказал Ванька, и морозом посреди лета его пробрало – от того, как сверкнул на него глазищами старик.
– Кто таков? – спросил он Камчатку, когда добры молодцы один за другим разошлись на работу, воровскую работу, черную.
– Юродивый это, – Камчатка нос опростал и на землю сплюнул. – Родом он с дальних земель: не то немец, не то француз, не то еще какой турок. По-нашенски говорит странно, не всегда поймешь, и себя не помнит. Лет ему, дескать, под триста, а с чего живет – неведомо. Прибился к нам и не уходит, а мы и не гоним.
– А ну, подойди ко мне, – позвал Ваньку старик, когда остались вдвоем. Голос у него был, словно ворон каркал.
Подошел Ванька, стал глядеть в сторону, не в глаза же такому смотреть – боязно.
– Ты песню по правде сам сочинил? – каркнул старик. – Или, поди, наврал?
– Сам.
– А ну, попой мне еще.
Смутился Ванька, не хотел петь, страшный был старик, с глазами черными, как воровская работа. Но отказать не смог почему-то, почему – сам не ведал.
– Бес проклятый дело нам затеял, мысль картёжну в сердца наши всеял, – запел Ванька с опаской.
– Хорошо, – похвалил старик. – А вот я тебе тоже кое-чего спою:
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
– Это чья же песня? – подивился Ванька.
– Моя, – сказал старик и засмеялся, словно филин заухал.
– А звать тебя как, старче?
Старик насупился.
– Я – Франсуа, – просипел он.
И добавил, помедлив:
– Я – Франсуа, чему не рад: увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея.
Старик с заморским именем закряхтел, закашлялся. Сунул руку в карман ветхого, латаного сюртука, долго шарил там и вытащил на свет божий вещь диковинную, цвета медного, на крендель похожую, только мелкую, с полпальца.
– Знаешь, что это? – спросил.
Ванька замотал нечесаной и патлатой русой головой.
– Это лира, – каркнул старик. – Но не простая – кабацкая, она такая на свете одна всего. Заберешь ее у меня?
– Зачем? – изумился Ванька.
Старик хмыкнул.
– Жить вечно будешь. Если руки на себя не наложишь, сколько захочешь проживешь, без счета.
– Руки на себя накладывать – грех, – разозлился Ванька. – Брешешь сам не знаешь чего.
– А ты послушай. С кабацкой лирой бить тебя смертным боем будут – и не забьют. В каменном мешке гноить будут – и не сгноят. Казнить пожелают – не смогут. Слава о тебе будет, как ни о ком другом. Так возьмешь?
Повел Ванька плечами, поежился. Точно ведь брехал старый черт, а не поверить нельзя было. Словно строка из песни, что тот спел, в душу вошла – «я сомневаюсь в явном, верю чуду».
– Ну, возьму, – сдвинув брови, сказал Ванька. – И чего с ней делать?
– Чего хочешь, – зашептал старик. – Любые дела делай, с тебя всё будет как с гуся вода. Воруй, режь, казни – всё нипочем. И песни слагай, у тебя хорошие песни будут. За них и девки станут любить, а дела твои прощать. На, забирай. Только знай: когда устанешь, притомишься так, что сил никаких нет, что всё невмоготу, другого ищи.
– Какого другого? – не сообразил Ванька.
– Такого же, как ты да я. Нашего сукна епанчу. Там сам поймешь.
Забрал Ванька у старика вещь медную, диковинную, пощупал, в карман упрятал и спать завалился. А вечером Камчатка его растолкал. С богатой добычей Камчатка вернулся, полный кошель у купца на гостином дворе срезал.
– Выпей, малец, – сказал и чарку поднес. – За упокой души.
– Чьей души? – спросонья переспросил Ванька и чарку принял.
– Старик юродивый, пока ты спал, помре.
Наутро пошел Ванька в Китай-город, к гостиным дворам присмотреться да к господским домам. Только не дошел: попали ему навстречу люди с дома Петрушки Филатьева, сей же момент скрутили и обратно в Петрушкин двор привели. Обрадовался купец, велел платье всё с Ваньки скинуть и сечь его нещадно. А как досекли до того, что и ходить Ванька боле не мог, приказал рядом с медведем на цепь посадить и ни того, ни другого не кормить вовсе. А сам гостей позвал, чтоб подивились, как медведь Ваньку порвет.
До ночи Ванька к цепи прикованный просидел, а как гости купеческие угомонились да по спаленкам разбрелись, выскочила из дома Авдотья, девка дворовая, и медведю плошку с объедками с господского стола поднесла.
На другой день собрались гости во дворе дивное зрелище смотреть, но медведь Ваньку не тронул, рычал только да пасть скалил. Так вновь ни с чем спать улеглись, а ночью Авдотья опять во двор – с подношением.
– С месяц назад, – скороговоркой забормотала, – повздорил купец с заезжим ландмилицким солдатом.
– И чего? – спросил Ванька, сытому медведю завидуя.
– Цепами солдата угостили, а он возьми да помре. В сухой колодезь его сбросили, куда сор высыпают, там и лежит.
Наутро снова гости во двор выбрались на медвежью камедь глядеть. И закричал тогда Ванька, заблажил истово:
– Слово и дело за мной государево!
Взяли Ваньку в «Стуколов монастырь». Так люди знающие канцелярию тайных и розыскных дел называли, что в Преображенской слободе царь Петр Алексеевич основал. Вздернули Ваньку на дыбу, и что купец недосёк, то плетьми исправили. А донос получив, к Филатьеву наведались и из сухого колодезя ландмилицкого солдата вынули. К вечеру поменяли уже Ваньку с Петрушкой местами на дыбе, а наутро доносчика и отпустили, в награду пашпорт ему выправив и десятью копейками одарив.
Путь от Преображенской слободы до Китай-города неблизкий, особенно когда с драной задницей и ноги не держат. Нанял на дареные деньги Ванька извозчика, с ветерком доехал. И с того дня загулял.
Не ходи ночью, прохожий, по Москве по каменной. И днем остерегись. Бродит по улицам московским Ванька-вор со товарищи. Всё, что видят перед собой, себе забирают, а кто отдать не согласный, того палками уговаривают, а то и гостинцем – билом на подвесе, что на кистенище ясеневом.
– Все воруют, – учил Ваньку, в царевом кабаке сидючи, Петр Камчатка. – Наш брат – это еще что. Купцы крадут, бояре воруют, князья грабят и разбойничают, не чета нам. Раньше светлейший князь Алексашка Меншиков обозами воровал, теперь курляндский граф Эрнстишка Бирон старается. Одна только царица-матушка Анна Иоанновна не ворует, да и то потому, что ей без надобности.
Воровское дело – кабацкое. Удалому добру молодцу дом иметь постыдно, богатства наживать зазорно. Добычу воровскую не в ларец кладут, ее в кабаке прогуливают. Здесь пристало и в карты играть, и совет держать, и с девками любиться, и от полиции прятаться, благо кабаков на Москве множество великое.
Выдумщиком оказался Ванька, да еще каким. Такие дела затеивал, которые друзьям его доселе и во снах не снились. К придворному доктору Ерлиху, что у самого Кремля жил в доме каменном, императрицей ему пожалованном, ночью впятером в окно залезли. Пока сундукам да ларцам раструску делали, Ванька в спальню к доктору сунулся, где тот в срамном виде с непотребной девкой лежал. Расстроился Ванька сильно от зрелища такого и одеялом доктору срам прикрыл.
В дом боярина Татищева на Варварке добрым молодцам никак не возможно попасть было. Великим забором тот дом обнесен был. Где во дворе сторожей поставил, боярин от досужего люда таил. Тогда купил Ванька на рынке курицу, в щель забора того протиснул, и когда от кудахтанья переполох поднялся, в ворота заколотил.
– Пустите, – взмолился, – люди добрые, курица сбежала от меня, окаянная, словить надобно.
Той же ночью в гости к боярину вся Ванькина артель явилась. Сторожей связали и сундуки обухами потрогали.
К попу Елистрату, соседу купца Петрушки Филатьева, Ванька один залез. Но нашел лишь попадьи сарафан да долгополый кафтан. Сарафаном Ванька побрезговал, а кафтан впору ему пришелся. Стал с того дня Ванька попом рядиться. По московским улицам, рогатинами по ночам заставленным, простому люду хода нет, а батюшке – с дорогой душой.
Год прошел, другой минул, выбился Ванька из обыкновенных крадунцов в коноводы. На Москве о новом атамане поговаривать стали. Дескать, крикнет кто по ночному времени: «Когда мас на хаз, так и дульяс погас» – лучше сразу добро отдать, по-хорошему. «В дом ваш войду, фонарь враз потухнет» крик тот означает. То Ваньки-вора присловица, а что за фонарь такой, то неведомо. Может, и жизнь хозяйская потухнет, с Ваньки станется.
Кабацкую лиру Ванька пуще глаза берёг. На себе носил, а как собирался в ночной «заход», в землю прикапывал. Старик, под мостом померший, из головы у него не шел, но кого ни спрашивал Ванька, никто о старике толком не знал. Зато песни хорошие складывались. Бывало, соберутся добры молодцы, добычу ночную поделят и давай Ваньку уламывать, чтобы спел. Тогда подбоченивался он, шапку ломал и говорил людям так:
– Писано в кабаке, сидя на сундуке.
А когда притихали все, заводил:
– Не былинушка в чистом поле зашаталася,
Зашаталася бесприютная моя головушка.
Бесприютная моя голова молодецкая!
Пять годов минуло, на Москве Ваньке прискучило. Собрал он шесть молодцов и на Волгу за собой увел, в понизовую вольницу, к атаману Мишке Заре. Много славных дел натворили там: с десяток гостиных дворов навестили, дюжину ярмарок покурочили, полсотни торговых стругов от товара облегчили. А уж сколько сундуков кованых распотрошили да кошелей очистили, то числом не счесть.
Ловили Ваньку не раз. И боем смертным били, и стул на шею вешали, чтоб пока плетьми секут, не ворочался, и в казематах морили без одежки и впроголодь. Не забили, не засекли и не уморили. Бежал из-под стражи Ванька – когда служивых подкупая, а когда так. А как матушка-императрица Анна Иоанновна помереть изволила, на Москву вернулся. Елизавета Петровна на трон уселась, надёжа-государыня, переметнулась империя великая с немецкого уклада да саксонского нрава на исконно русские. А вместе с ней и Ванька переметнуться решился.
2. 1741–1749
Всю осень рыскал по Москве Ванька, воров да разбойников проведывал, кто где жительство имеет, на ус наматывал. В кабаках часами сиживал, людей слушал, сам помалкивал. На таможенную заставу наведался, что да как с приезжими купцами делают, выспросил. А под Новый год явился в Сенат и у рейтара, что у дверей службу нес, поинтересовался:
– Кто на Москве наибольший командир?
Тем же вечером притопал Ванька на Воронцово поле, к «наибольшему московскому командиру» князю Кропоткину, и челобитную тому подал. Изумился князь, прочитавши, глаза протер и прочел по новой.
– Так ты, значит, вор? – спросил князь.
– Я не вор, не тать, только им под стать, – прибауткой ответил Ванька. – Но воров знаю. И разбойников. И лихоимцев. Где кто нахождение имеет, ведаю. Не только в Москве, а и в других местах. Посему ради государыни нашей желаю всех этих людей дерзких искоренить, а для того предлагаю себя в сыщики и доносители.
Тем же вечером приказал князь надеть на Ваньку солдатский плащ, чарку водки ему поднести и отправить в сыскной приказ.
Сняли с Ваньки в сыскном приказе пристрастный допрос. Признался он в мошенничестве и воровстве, а разбои и смертоубийства отверг. Князь Кропоткин, при том допросе присутствовавший, Ваньке поверил. Велел дать под его начало четырнадцать человек конвоя и подьячего, чтобы лиходеев изловленных подушно записывать.
Той же ночью прошелся по Москве Ванька, словно дворник с метлой. В Зарядье взяли два десятка воров с атаманом Медведем, бывшим Ванькиным дружком. В доме дьякона у порохового цейхгауза три дюжины лихоимцев взяли. В татарских банях – полтора десятка беглых солдат с фальшивыми паспортами. На стругах в устье Яузы – бурлаков с товаром, что без пошлины провезли. У Москворецких ворот на «печуре», квартире воровской – Бухтея с Лебедем и с ними три десятка разбойников.








