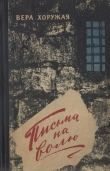Текст книги "Рассказы старых переплетов"
Автор книги: Роман Белоусов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Я, собственно, еще ничего не понимаю.
История очень запутанная.
Артур Конан Дойл
Находка KP положила начало восхождению Ганки по ступеням славы, имя его становится все более известным. Сам он, по замечанию некоторых современников, был неравнодушен к успеху. Преисполнившись мечтой о возрождении гения своего народа, горячо поддерживал идею о создании Национального музея, где были бы собраны памятники чешской старины. Мысль была не нова, но Ганка стал активно воплощать ее в жизнь.
Наконец, в апреле 1818 года музей открыть разрешили и объявили денежную подписку в его пользу. Пражский бургграф Франтишек Коловрат обратился с призывом к любителям старины. К концу мая удалось собрать более 60 000 флоринов – сумма по тому времени немалая. Кроме того, жертвовали богатые книжные собрания, рукописи, коллекции предметов по естественной истории и т. п.
Сам Ганка музею преподнес Краледворскую рукопись. Это был, пожалуй, самый дорогой экспонат музейного собрания.
Впрочем, среди пожертвований оказалась еще одна рукопись, не уступающая Краледворской.
Преподнес ее музею сам бургграф. Как и KP, это были остатки большой рукописи. Состояла она из двух листков пергамента, сшитых посередине. Видимо, когда-то они служили так называемыми передними листами в книжном переплете и были повреждены (обрезаны) переплетчиком. На пергаменте помещались два сравнительно небольших стихотворных фрагмента, написанных древним, весьма неудобочитаемым письмом, нанесенным каламом – тростниковой палочкой. Отныне они получат название «Сейм» (всего девять стихотворных строк) и «Суд Либуше» – 120 строк.
Появление новой рукописи означало еще одну сенсацию. Дело в том, что, судя по письму (непрерывному или связному – scriptio continua) и частому употреблению уставных букв, это был древнейший памятник чешской письменности, созданный на рубеже IX и X веков.
В стихотворных отрывках речь шла о полулегендарной Либуше, упоминаемой в летописи княжне-прорицательнице. Согласно древнему источнику чешской летописи Козьмы Пражского, созданной в первой четверти XII века на латинском языке, Либуше – одна из трех дочерей первого чешского князя Крока. Сестры славились мудростью, а младшая Либуше – знанием законов и обычаев народного права, что помогало ей творить справедливый суд. Начиналась рукопись такими словами:
Что ты, Влтава, воду замутила,
Сребропенную покрыла мутью?
И зачем вздымаешь к небу волны,
Небо ясное сокрыла тучей,
Плачешь средь вершин зеленоглавых,
Золотой песок со дна взметаешь?
– Как же мне не замутить водицы,
Если ссорятся два кровных брата,
Если из-за отчего наследья
Лютый спор ведут между собою.
(Перевод В. Луговского)
Кроме того, Либуше прославилась тем, что возвела укрепления Праги, сделав ее резиденцией чешских князей. От нее и ее мужа Пшемысла будто бы пошел княжеский род, который правил около пятисот лет.
Где была найдена рукопись «Суд Либуше» и как попала к бургграфу? На этот вопрос он толком ответить не мог. Рассказал лишь, что в ноябре получил по почте конверт с письмом и листами пергамента. В написанном небрежно по-немецки анонимном послании говорилось, что пергамент нашли в каком-то «хаусархиве» (домашнем архиве), где он столетия провалялся в пыли. «Поскольку мне хорошо известны взгляды моего господина, этого упрямого немецкого Михеля, – писал таинственный адресат, – известно его предубеждение против Национального музея, и он охотнее разрешил бы листы сжечь или оставить плесневеть там, нежели передать их музею, то мне пришло в голову послать их Вашей милости, анонимно. Если бы я назвал свое имя, меня бы выгнали со службы… Пишу карандашом, чтобы нельзя было установить почерк».
Так и осталось тогда неизвестным имя отправителя, где находится «хаусархив» и кто тот Михель, которого опасался автор письма.
Забегая вперед, скажу, что сорок лет пытались узнать имя человека, приславшего рукопись. Лишь в 1859 году, благодаря розыскам профессора пражского университета В. Томека, стало, наконец, известно, как была найдена рукопись «Суд Либуше». Дело было так.
Года за три до того, как бургграф получил по почте загадочное письмо, в замке Зелена Гора служил некто Йозеф Коварж. Замок находился близ города Непомука в Западной Чехии и принадлежал австрийскому фельдмаршалу графу Коллоредо-Мансфельду.
Разбирая однажды замковый архив в темной сводчатой комнате нижнего этажа, Коварж наткнулся на два согнутых пополам пергаментных листа. Прочесть написанное он не сумел, но понял, что рукопись очень древняя.
Тайком захватив эту рукопись с собой, он отправился в Непомук к сведущему и образованному человеку, декану местного собора Бубелю. Однако и тот не смог разгадать рукописный текст, поняв лишь, что он написан на древнечешском и что речь идет о суде Либуше.
Именно тогда и было опубликовано то самое обращение «к отечественным друзьям наук». Коварж рассудил так: если вернуть рукопись хозяину, тот наверняка ее уничтожит, ибо ненавидит все чешское, не говоря о том, что прогонит его с работы. Вот почему он счел за благо переслать ее в музей.
Оказавшись как-то по делам в Праге, он вложил найденные рукописные листы вместе с анонимным письмом в пакет и отправил по почте на имя бургграфа.
К тому времени, когда выяснили, как и где была найдена рукопись «Суд Либуше», виновника открытия уже не было в живых. Коварж умер в 1848 году. Установить подробности удалось благодаря очевидцам. В частности, объявился свидетель в лице жившего близ замка Зелена Гора деревенского священника, который и поведал об истории находки.
С тех пор «Суд Либуше» стали называть по месту находки Зеленогорской рукописью (ЗР).
Вернемся, однако, назад, в 1818 год.
Присланную в музей столь таинственным способом ЗР действительно прочесть было трудно. И даже Добровский не смог одолеть текст, хотя обладал большим опытом чтения старых манускриптов.
Тогда свои услуги предложили два молодых филолога – Вацлав Ганка и его друг Йозеф Юнгман. Последний был известен как переводчик Д. Мильтона и Ф. Шатобриана. Впоследствии он станет автором многих трудов по литературе и языку.
К удивлению Добровского, эти двое его учеников разобрались в сложном тексте, прочитав его и установив порядок листов.
И вот перед старым ученым лежал переложенный на современный чешский язык текст поэмы «Суд Либуше». «Поразительно, – думал он. – Впрочем, скорее странно. Здесь что-то не так. Слишком много загадочного: неизвестно кем и где найдена, легкость, с которой ее прочли ученики…» Закравшееся сомнение перешло в уверенность: рукопись поддельная!
В частном письме он намекает: «То, что составители старого фрагмента легко его разделяют (на слова), легко читают и понимают лучше, чем вы или я, вполне понятно…» Месяц спустя, в феврале 1819 года, он высказывается еще определеннее: «Эта рукопись, которую ее защитники сами создали, безусловно, подделка, и наново на старом пергаменте зелеными чернилами написана, как я сразу, едва увидев текст, определил…» И далее: «…одного из них или даже обоих я считаю составителями, а господина Линду – переписчиком».
Мнение свое Добровский тогда не обнародовал, и ЗР преспокойно лежала в фондах музея, ожидая решения своей судьбы.
Что касается его учеников, обвиненных в подделке, то пока они лишь заявили, будто их учитель под старость стал страшно подозрительным и нестерпимо капризным.
Но кто был господин Линда, упомянутый Добровским как переписчик?
Фигура Йозефа Линды достаточно колоритна и заслуживает того, чтобы сказать несколько слов. Тем более, что его роль в истории появления рукописей, как выяснится, будет не последней.
Как и его товарищи, Йозеф Линда принадлежал к молодым чехам, мечтавшим о воскрешении славного прошлого своего народа. Подобно им, он находил в романтической любви к древности утешение от горькой действительности. Несомненно, Линда обладал поэтическим даром, он изучал старинные чешские хроники, прекрасно знал мировую литературу. Его исторический роман «Заря над язычеством, или Вацлав и Болеслав. Картина из отечественной старины», созданный в 1816 году и опубликованный два года спустя, стал заметным явлением на литературном горизонте той поры – первым чешским историческим повествованием. В нем он пытался приблизиться к языку древних славян эпохи дохристианской Чехии. Писал он и пьесы, в частности «Ярослав из Штернберка в борьбе против татар». Кроме того, Линда был другом Ганки, они жили в одной квартире и даже ухаживали за одной девушкой, Барбарой, которая, однако, предпочла Ганку, став позже его женой.
Важно заметить, что еще в 1816 году Линда, тогда двадцатитрехлетний студент, нашел в переплете старой книги пергамент с рукописным отрывком старинной чешской песни XI–XII веков, получившей название «Вышеградская песня».
Свидетелями этой находки были все тот же Ганка и семейство Мадлей, у которого квартировали друзья.
Но если хозяев дома легко было убедить в подлинности рукописи, то с таким знатоком и строгим критиком, как Добровский, дело обстояло сложнее. Так и не поверив в подлинность «Вышеградской песни», он объявил ее подделкой, хотя поначалу она его «самого ввела было в обман».
Видимо, тогда же Добровский стал настороженно относиться ко всему, что выходило из-под пера Линды. Вполне понятно, почему он заподозрил Линду в создании ЗР.
Между тем, список ЗР попал к польскому археологу И. Раковецкому и тот издал ее в 1820 году (замечу, что этот список оказался у Раковецкого благодаря брату Й. Юнгмана, переславшему его в Польшу).
Следом за Раковецким ЗР перевел на русский язык адмирал А. С. Шишков, тогдашний президент Российской академии. К прозаическому переводу был приложен текст оригинала, заимствованный у Раковецкого, – до этого, в том же 1820 году, А. С. Шишков перевел также прозой и издал KP со своим предисловием и примечаниями. Позже, в 1846 году, появился русский поэтический перевод Н. В. Берга; ему же принадлежат подражания KP.
И только в 1823 году ЗР была напечатана на чешском языке в журнале «Крок» братьями Й. и А. Юнгманами. После этого появилось ее отдельное издание. Надо сказать, что братья были убеждены в научной ценности обеих рукописей и принимали самое деятельное участие в их судьбе. К изданию ЗР один из них написал предисловие, другой – послесловие, и вообще они всячески пропагандировали находки.
Однако усилия братьев, как, впрочем, и других, не погасили возникших подозрений насчет ЗР. Назревал спор. И он разразился, приняв форму общественного скандала, после того, как Й. Добровский опубликовал в 1824 году заметку «Литературный обман».
В ней маститый ученый назвал найденный памятник «поддельным мараньем», созданием плута, который «решил надуть своих легковерных земляков». Но ничем серьезным свое подозрение не подкрепил. Скажу лишь, что он усмотрел различие в языке ЗР и KP, которую продолжал считать древним подлинным памятником. К мнению Добровского присоединился другой известный ученый того времени словенец по происхождению Е. Копитар, служивший в венской библиотеке. (Зная хорошо Ганку, он считал, что тот в состоянии «открыть, то есть сфабриковать какой-нибудь фрагмент и из эпохи Александра Великого». Невысокого мнения был он и о личных качествах Ганки, называл его ненадежным человеком, готовым и покривить душою, если бы это потребовалось.)
С ними вступили в полемику представители молодого поколения чешских ученых – Й. Юнгман, В. Ганка, В. Свобода.
На заметку Добровского первым откликнулся В. Свобода. Он приводил доводы в защиту подлинности ЗР, впрочем, довольно поверхностные, подчас прибегая к общим фразам вроде такой: «Каждый, конечно, признает, что даже в языке этого памятника совершенно ясно обнаруживается древность».
Патриарх чешской славистики вновь опубликовал две статьи подряд. В одной из них он писал, что «некоторые ученые из чрезмерного патриотизма приняли эти поддельные листы (ЗР) за подлинные», в то время как они – творение какого-нибудь «находящегося еще в живых чеха, который и бросил их в почтовый ящик, чтобы таким образом тайно подарить чешскому Национальному музею».
И на этот раз Добровский повторил свое мнение, что ЗР явно подражает KP – «в тоне, в повторениях, в отдельных словах и кратких выражениях, а также в десятисложном размере, который прежде не употреблялся». Из этого он снова делал вывод, что «автор, руководимый патриотическим желанием открыть еще более древний памятник чешской поэзии, предпочел при некотором знании древнеславянского и русского языков самостоятельно составить такой памятник по разным источникам».
Затем следовал вывод: «ЗР не существовала до появления KP».
После этого некоторое время вопрос оставался открытым. Но Й. Добровский до самой смерти в 1829 году был убежден в своей правоте и Й. Линду называл не иначе, как «чешским Макферсоном» [7]7
Дж. Макферсон в 1762 г. опубликовал поэмы легендарного барда Оссиана, якобы собранные им во время странствий по горной Шотландии. Полемика по поводу подлинности «Поэм Оссиана» растянулась более чем на столетие, но уже современники догадывались, что это мистификация.
[Закрыть].
Следует сказать еще об одной рукописи, четвертой по счету, найденной вскоре после ЗР, в 1819 году. На этот раз древний пергамент был обнаружен в переплете старой книги, всего один лист, на котором кто-то записал «Любовную песню короля Вацлава» (ЛПКВ). Нашел пергамент скриптор университетской библиотеки Й. Циммерман. Как и Коварж, он отослал рукопись бургграфу. Но в отличие от него не скрыл своего имени. Напротив, в сопроводительном письме подчеркивал причастность к находке, которую счел древнейшим отрывком чешской поэзии XII века.
Теперь найденные редчайшие памятники старочешской поэзии наглядно свидетельствовали, что у чехов, так же, как у болгар, сербов, русских, был свой эпос, своя древняя поэзия.
Один Й. Добровский и на сей раз отказался, правда, не сразу, признать найденный пергамент. «Это явное и тяжелое подражание рыцарской любовной поэзии», а не подлинный текст древнечешской песни, заявил он.
К тому же рядом с Циммерманом возникала подозрительная тень Линды. Они были друзьями и вместе служили в университетской библиотеке. Странным выглядел и рассказ Циммермана о том, как была найдена ЛПКВ, записанная на поврежденном обрезке пергамента. Таких обрезков, по его словам, в переплете книги было больше. Он увлажнил обрезки пергамента, чтобы извлечь их из переплета, а затем разложил просушиться на окне. К несчастью, налетел сильный ветер и все листки, за исключением одного, улетели. Найти их не удалось.
Зато сохранившийся листок оказался ценным вдвойне. На обратной его стороне кто-то записал стихотворение «Олень» – то самое, которое было и в KP и повествовало о коварном убийстве доблестного юноши, сильного и красивого, как молодой олень:
Скачет олень по долинам,
Прыгает он по горам,
Носит по целому краю,
Носит крутые рога.
Режет крутыми рогами
Сучья в дремучем лесу,
По лесу летмя летает,
Скачет на быстрых ногах.
Хаживал молодец в горы,
Долом широким на брань,
Тяжкие нашивал стрелы,
Вражию мочь поражал.
Доброго молодца нету! —
Лютый нагрянул злодей…
. .
Быстрые кречеты вьются,
Из лесу к дубу летят,
Голосом жалким выводят:
«Молодца враг погубил!»
Горькими плачут слезами
Красные девы по нем.
(Перевод Н. В. Берга)
Ганка поспешил заявить, что письмо ЛПКВ ему кажется «на столетие старше KP» и что это – небольшая часть какого-то погибшего сборника. Это означало, что неожиданно подтвердились древность и подлинность KP. К Ганке присоединились его единомышленники и друзья. С тех пор мнение их взяло верх, все вроде бы признали найденный пергаментный листок древнейшим.
На доводы скептиков, пытавшихся робко высказывать сомнения в подлинности ЛПКВ, никто не обращал внимания. Кроме них, никому не казалось странным, что текст двух стихотворений – памятников различных эпох («Олень» на обороте ЛПКВ – первая половина XIII в. и «Олень» в KP – начало XIV в.) – абсолютно идентичен в правописании, в то время как правописание в ЛПКВ и в обнаруженном на ее оборотной стороне стихотворении «Олень» различно, хотя оба эти текста написаны одной рукой.
Но усомниться в подлинности ЛПКВ значило бросить тень и на KP. Вера же в подлинность KP была тогда незыблемой, а сама рукопись – святыней, о которой говорили лишь в хвалебном и торжественном тоне.
Забыв доводы Добровского, ЛПКВ по-прежнему признавали шедевром древней поэзии, как шутили скептики, «хотя бы из одной вежливости к королю», то есть Вацлаву I, которому приписывали авторство.
Разрешить недоумения и подозрения мог только всесторонний анализ этой рукописи – палеографический, лингвистический, исторический, но прежде всего химический. Впрочем, это касалось всех обнаруженных шедевров. Однако пройдет без малого сорок лет, прежде чем создадут особую комиссию по исследованию пергамента и чернил ЛПКВ.
Пан библиотекарьС этой стороны тайна темнее, чем прежде.
Уилки Коллинз
Между тем Ганка и Свобода издали KP на двух языках – чешском и немецком. Это случилось в год, когда умер Й. Добровский. Будь он жив, выступил бы с критикой, поскольку издатели поместили, кроме KP, под той же обложкой и три другие найденные рукописи – Вышеградскую песню, ЗР и ЛПКВ, в подлинности которых, как мы знаем, Й. Добровский сильно сомневался.
К новому изданию Ганка написал небольшое предисловие (вернее, исправил старое). Свобода – историко-критическое введение и предисловие от переводчика. В нем он рассказал об истории открытия KP, о ее значении. И как бы между прочим заметил, что кроме KP он предлагает кое-что еще из древнечешской поэзии: два отрывка о Либуше и две любовные песни, найденные в старых переплетах.
Далее он писал: «Если бы удалось найти гораздо больший остаток этих древних народных песен, этих великолепных цветов настоящей поэзии! Какая бы это была ценная находка для нашего народа! Ведь его, действительно, постигла в этом отношении тяжелая судьба! Сколь многие звуки этих песен потерялись в шуме битв и раздоров! Как много сокровищ погибло в пепле, в пожаре городов, замков и монастырей! Сколь многое раздробил медный кулак фанатизма, сколь многое расхитили завоеватели и бесполезно истлело на чужбине, а это незаменимая потеря! Сколь многое погибло здесь, на родной почве, оставленное без внимания выродившимся поколением внуков!»
За этим – вывод, нечто вроде напутствия: «В книжных переплетах должны мы искать драгоценные памятники нашей старины, свидетельства культуры наших прадедов».
По его подсчетам, из песен KP дошла малая часть, а «погибло более 168 стихотворений». Возможно, когда-нибудь они отыщутся, мечтал Свобода. Много говорил он и о событиях, лежащих в основе исторических песен KP. Его поддержал историк Ф. Палацкий в статье о новом издании KP. Исследуя тексты рукописи, он пытался установить, какие события прошлого в них отражены, где они происходили, и жили ли герои, воспетые в песнях. Чуть ли не каждому факту удалось найти историческое подтверждение, упоминание о нем в древних летописях либо в других источниках. Вообще в огромной литературе по изучению KP даны ответы на многие вопросы, связанные с ее исторической основой. Исследователи проявляли поистине необузданную фантазию и изобретательность, доказывая историчность содержания песен. Доходили до того, будто летописец Козьма Пражский, живший в начале XII века, «черпал из поэтического источника», то есть знал древние песни, собранные в KP, и пользовался ими при создании своего знаменитого труда.
В той же статье Ф. Палацкий разбирает KP с художественной точки зрения, восторгается поэтическим языком, оригинальными образами. Эти же суждения о KP и других памятниках Ф. Палацкий повторил и в первом томе своего известного пятитомного труда «История чешского народа в Чехии и Моравии».
В 1835 году появилось третье издание KP. К этому времени ее перевели на несколько языков, и Ганка напечатал образцы этих переводов.
Таким образом, древний памятник признали во всем мире. Однако тогда же раздался голос, требовавший немедленно допросить свидетелей, имевших отношение к найденным рукописям. Это был Е. Копитар, ранее, как и Й. Добровский, сомневавшийся в подлинности ЗР и ЛПКВ. Теперь он во всеуслышание заявил, что считает подделкой и KP.
Его выступление прозвучало дерзким вызовом – большинство ученых уверовало не только в KP, но и в ЗР. Например, Ф. Палацкий, признанный авторитет, специально изучавший ЗР, пришел к выводу, что рукопись подлинная и относится скорее всего к первой половине X века.
Того же мнения был и известный историк П. Шафарик и многие другие. Скептики во главе с Е. Копитаром пребывали в абсолютном меньшинстве.
Тем не менее Ф. Палацкий и П. Шафарик задумали исследование, которое положило бы конец недоверию, подозрениям и спорам. Первый считался единственным знатоком латинской и чешской палеографии, второй – автор нескольких капитальных трудов по филологии, этнографии, истории культуры, принесших ему европейскую известность.
Труд Ф. Палацкого и П. Шафарика «Древнейшие памятники чешского языка» вышел в свет в 1840 году и сразу стал как бы классическим образцом подлинно научного издания своего времени.
Кроме самих памятников, в нем читатель находил обширные комментарии и примечания. Авторы всесторонне описывали памятники, анализировали их тематику, вели полемику с противниками их подлинности. В связи с этим немало места уделяли они опровержению доводов покойного Й. Добровского, прежде всего его выводов относительно ЗР.
Как мог такой ученый муж, писали они, утверждать, что эта поэма – плод шутника-сочинителя? Если бы это было так, то следует признать, что в 1818 году в Чехии незаметно для современников появился человек, палеографические, исторические и филологические знания которого намного превосходили познания всеми уважаемого Добровского, и это чудо учености осенило мир своим необыкновенным светом, таинственно, просто ради шутки. «Нет, – восклицали авторы, – для этого нужна поистине слепая вера при неверии!»
Они указывали на ошибочные с их точки зрения выводы Й. Добровского, упрекали его в неточности исторического и лингвистического анализа (в основном это относилось к ЗР), опровергали его предположение о возможных авторах, доказывая, что Линда, Ганка и Юнгман не могли сочинить поэму «Суд Либуше».
Заодно досталось и Е. Копитару за «страсть подозревать подлог во всех древнейших памятниках чешской литературы, открытых в новейшее время…» Позицию Е. Копитара объясняли литературной нетерпимостью, желчностью, завистью к чешским ученым и даже «нечистыми побуждениями», намекая на будто бы существующую его связь с австрийскими властями, заинтересованными в принижении чешской самобытности.
Заслуженные ученые, мнение которых казалось непререкаемым, вполне авторитетно заявляли, что после самого тщательного исследования пергамента и способа писания, у них нет оснований признать ЗР подделкой новейшего времени. И последнее доказательство – данные химического анализа, проведенного хранителем музея химиком Й. Кордой. Еще в 1835 году он исследовал чернила и пришел к заключению, что «рукопись эта в высшей степени древняя».
Одним словом, отныне надолго возобладает мнение, что подлинность рукописей вне всякого сомнения. Нападать на эти древние памятники – драгоценные сокровища народного чешского духа – считалось поступком нравственно предосудительным. «Любые сомнения в их подлинности, – пишет советский славист А. С. Мыльников, – рассматривались чуть ли не как акт национального предательства». И скептики приравнивались едва ли не к агентам австрийского правительства.
Теперь, когда KP и ЗР, казалось, укрепились в своих «гражданских правах», культ рукописей достиг апогея. Художники создавали на темы песен картины и иллюстрации, поэты посвящали им стихи, композиторы сочиняли к ним музыку, герои их ожили на сцене, а одному из них – Забою – перед костелом, где когда-то нашли KP, воздвигли памятник (ныне он перенесен в другое место). Песнями восторгались многие европейцы, справедливо усмотрев в них богатые поэтические возможности чешского языка. Мицкевич упоминал их в лекциях, посвященных славянским литературам. Пушкин, по словам Ганки, намеревался будто переводить их – у него в библиотеке имелся текст KP. (Хотя это и так, однако, как полагает Л. С. Кишкин, зная Ганку, нельзя поручиться, что желаемое не выдавалось за действительное.) Гёте восхищался художественной выразительностью KP и перевел некоторые песни, а Люциан Семеньский, переводчик KP на польский язык, пытался даже по ее образцу создать польский эпос и написал поэму «Трубы в Днепре». Словом, как потом шутили, «не было, по-видимому, никого, кроме Ганки, кто сомневался бы в подлинности рукописей».
Между тем неутомимый Ганка, верный девизу «Вперед», начертанному на его печатке, продолжал выпускать одно за другим новые издания своего детища. Им буквально овладел, по словам современников, «бодрый дух предпринимательства».
В 1843 году вышло пятитомное полиглотное (восьмиязычное) издание, так называемая Малая Полиглотта. Затем последовали новые издания. В большинстве их принимали участие Ф. Палацкий и П. Шафарик как авторы комментариев или примечаний (перевод на современный чешский язык был выполнен графом Туном). Своим авторитетом они как бы осеняли KP, защищая от посягательства скептиков.
К 1847 году в Праге вышло уже девять изданий KP. В 1851 году появилось десятое, а через год так называемая Большая Полиглотта – двенадцатиязычное издание, где каждому переводу было предпослано предисловие переводчиков.
Популярность Ганки отныне можно было сравнить разве что со славой какого-нибудь национального героя. Его называли не иначе, как человеком, который вернул чехам былое величие. И каждый пражанин узнавал его по сутуловатой фигуре, облаченной в длинный сюртук, и странной широкополой шляпе в виде усеченного конуса.
Сам он вел весьма скромный образ жизни труженика науки и с 1823 года являлся хранителем библиотеки Чешского музея, где, собственно, и проводил все дни. Музейные и рукописные фонды знал прекрасно и не переставал радеть о их пополнении. Уже тогда это было самое богатое собрание книг и рукописей на славянских языках, и в этом немалая заслуга неутомимого Ганки.
Жил он тут же, при музее, в маленькой квартирке на первом этаже. Жилище его было обставлено довольно скромно, и бережливость доходила до того, что нередко хозяина заставали сидящим в полутьме – свечи зажигались, когда совсем темнело.
Ежедневно, в течение сорока лет, рано утром «пан библиотекарь» поднимался в музей, проходил в свой кабинет, садился за стол, заваленный книгами и старыми рукописями, и погружался в их таинственный мир.
Ганка был удивительно гостеприимен, радушен и внимателен. С удовольствием знакомил гостей с коллекциями музея, был счастлив показать пражские «замечательности», сводить приезжего в Чешский национальный театр.
Русские связи Ганки (его называли на российский манер – Вячеслав Вячеславович) – это особая тема, впрочем, отчасти затронутая в нашей дореволюционной литературе и в работах советских авторов – Л. П. Лаптевой и Л. С. Кишкина.
Каждый русский, кому случалось оказаться в Праге, считал долгом посетить Ганку. У него бывали ученые, литераторы, врачи, чиновники. С ним переписывались профессора петербургского и московского, харьковского и виленского университетов. И всякий, кто посещал его скромный дом, должен был оставить запись в знаменитых альбомах Ганки.
Мне довелось увидеть эти альбомы, которые сам он называл «памятными книжками». Их выдали мне для работы в научном читальном зале библиотеки Национального музея. Альбомами в прямом смысле их назвать трудно. Семь книжек под номерами, в переплетах красного цвета, размером с карманные блокнотики. Однако это не записные книжки, а различные малоформатные издания, использованные для записей. Так, под одним номером – книжка «Молитвы при божественной литургии», изданная в 1821 году в Париже; под другими, например, «Утренние молитвы» и «Божественная служба», пражские издания 1833 и 1854 годов, и т. д. Записи в них делали на пустых страницах в конце, на полях, форзацах – словом, всюду, где оставалось свободное от текста место. В книжку под номером 22, первую в ряду «альбомов», аккуратный Ганка вклеил листок с оглавлением, расположив по алфавиту фамилии «участников» этого альбома, что весьма облегчает пользование им – записи идут не по порядку, а как придется. Первые из них относятся к 20-м годам прошлого столетия и сделаны соратниками и друзьями Ганки: филологом Й. Юнгманом, историком Ф. Палацким, поэтом Ф. Челаковским, фольклористом В. Караджичем. Несколько кратких записей принадлежат Й. Добровскому, одна, на старославянском языке, относится к 1819 году. Людовит Штур, основоположник словацкого литературного языка, обращаясь к Ганке, написал: «Пока славянство будет жить и будут живы его песни, ваше имя и имя Забоя не умрут». Франтишек Челаковский вписывает по-чешски, по-польски и по-русски: «Для искренних сердец нет времени, нет пространства». Встречается такая сентенция; «Написанное пером часто живет дольше, чем мраморные статуи». Следующая запись от 1826 года: «Как Скленичка тебя любил своим молодым сердцем, так теперь взрослым любит тебя Франтишек Слама».
В изобилии представлены автографы русских гостей Ганки. Здесь встречаются самые разные фамилии, прежде всего писательские: И. Тургенев, А. Майков, И. Аксаков, Н. Надеждин, П. Вяземский, А. Хомяков, А. Кошелев и др. Н. Гоголь желает здравствовать Вячеславу Вячеславовичу и «работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских» (1845 г.), Ф. Тютчев шлет «братский привет русского чешской Праге» (без года), А. Толстой выражает Ганке «искреннюю благодарность за добрый совет» (1846 г.). П. Вяземский оставляет такую запись: «Слово дано от бога человеку на благо и с тем, чтобы люди друг друга разумели и вследствие того друг другу сочувствовали и помогали. Слово должно быть орудием мира и братского дружелюбия между народами и правительствами. Горе тем, которые употребляют этот дар во зло и обращают его в орудие вражды, лжи, ненависти, зависти и междоусобий…» (1853 г.).
Интересно отметить вот что: если автограф был подписан только фамилией и именем, педантичный Ганка своей рукой вписывает в скобках отчество, в другом месте уточняет год написания текста или, скажем, воинское звание подписавшегося, родственные отношения – жена, дочь такого-то. Есть женские автографы: Настасьи Баратынской, Авдотьи Бакуниной, Каролины Павловой. Встречаются целые стихотворения, например, пушкинское «Ангел», вписанное в 1828 году рукой Я. И. Сабурова (знакомого с русским поэтом) и пометкой Ганки: «родился в 1798 г.»; нотный автограф Шопена; силуэт Ганки на папиросной бумаге, набросанный неизвестным художником, и другие рисунки; стихотворные экспромты, вклеенные гравюрки. В одной из книжечек с надписью «Сувенир» оказался пригласительный билет с виньеткой, программка танцевального бала, шелковая трехцветная кокарда из сшитых вручную ленточек и прочие мелочи.