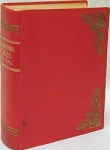Текст книги "Бирон"
Автор книги: Роман Антропов
Соавторы: Федор Зарин-Несвицкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Авессалом рассказал еще о своих предположениях, что Бирона привезли с собой депутаты от ландратов во главе с Густавом Левенвольде, что, очевидно, им помогал в этом граф Рейнгольд, этот трусливый красавчик, имевший у императрицы несколько тайных докладов.
– Спасайтесь же, – закончил Авессалом. – Спасайте свою родину, если она дорога вам! Надвигается ваша гибель!..
Как оглушенные стояли друзья, слушая Авессалома.
– О, – закончил Авессалом. – Возьмите его, казните его, уничтожьте его. Я сам буду его палачом! Я буду как милости просить, чтобы его дали казнить мне!
Первая минута растерянности прошла.
– Мы должны принять меры, – сказал Дивинский. – Надо доложить об этом Верховному совету. Я еду к Дмитрию Михайловичу, – продолжал он. – Пусть Макшеев едет к фельдмаршалу Михаилу Михайловичу, а ты, князь, к Василию Владимировичу. Твое дело надо отложить, – закончил он. – Да к тому же его ждет палач.
– Отложить, – медленно проговорил князь и в бешенстве, стиснув зубы, добавил: – Но я не отдам его палачу! Я сперва убью его, а потом пусть его повесят!..
XXVIФельдмаршалы сейчас же приехали к Дмитрию Михайловичу, который уже успел послать нарочных за другим братом, Михаилом Михайловичем младшим, канцлером Гаврилой Ивановичем, Василием Лукичом и Алексеем Григорьевичем Долгоруким. К вице-канцлеру он счел излишним посылать, так как еще утром узнал, что барон так плох, что потребовал к себе пастора. Дмитрий Михайлович послал также и за Степановым.
Фельдмаршалы, зная, в чем дело, приехали мрачные и решительные. Потом приехал встревоженный граф Головкин, испуганный Алексей Григорьевич, сразу бросившийся с расспросами, но Дмитрий Михайлович холодно отклонил его расспросы, сказав, что дело чрезвычайной важности и требует не сепаративных разговоров, а общего обсуждения.
Последним приехал Василь Лукич, как всегда гордый и самоуверенный, но с тревогой в душе.
Наконец собрались все, в том числе и Степанов.
По приказанию фельдмаршала Макшеев, Дивинский и Шастунов остались в соседней комнате.
Дмитрий Михайлович коротко сообщил о приезде Бирона под покровительством депутации и, по-видимому, при участии обер-гофмаршала графа Рейнгольда Левенвольде. Потом несколькими энергичными словами он очертил положение вещей. Анна провозгласила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Трубецкой, Салтыковы, Матвеев, Барятинский возмущают гвардию. Василий Лукич удален из дворца. Императрица все теснее окружает себя врагами Верховного тайного совета. Необходимы решительные меры теперь же.
Граф Головкин слушал Дмитрия Михайловича, низко опустив свою старую голову. На лице Алексея Григорьевича была видна полная растерянность. Он весь как-то сжался и беспомощно смотрел по сторонам.
Дмитрий Михайлович, кончив свое сообщение, сел. Молчание длилось довольно долго. Его прервал фельдмаршал Долгорукий.
– Первое правило на войне, – начал он решительным голосом, – состоит в том, чтобы заставить врага бояться.
Фельдмаршал Михаил Михайлович кивнул головой.
– И мы заставим их бояться, – грозно продолжал Василий Владимирович. – Прежде всего надлежит арестовать Бирона.
Алексей Григорьевич весь ушел в свое кресло, словно старался стать совсем незаметным. Головкин быстро поднял голову.
– Это невозможно! – воскликнул он. – Во дворце императрицы!
– Во дворце императрицы, в ее апартаментах, на ее ложе, – где найдут! – сурово сказал фельдмаршал. – Не ради шутки давала она свою подпись и свое слово. Да и мы не позволим шутить с собою.
– Василий Владимирович прав, – вставая, произнес фельдмаршал Михаил Михайлович. – Мы не можем, не должны щадить этого выходца.
– Но это еще не все, – продолжал фельдмаршал. – Надо арестовать Салтыкова, Лопухина, Левенвольде, Черкасского и Барятинского. Сослать в Соловецкий монастырь новгородского архиепископа, и… – он обвел всех присутствовавших загоревшимися глазами и пониженным, грозным голосом закончил: – Казнить Ягужинского…
При этих словах Головкин порывисто вскочил с места и, протягивая руки, воскликнул дрожащим голосом:
– Фельдмаршал, помилосердствуй!
Но все хранили глубокое молчание. Никто не ответил на его слова.
– Дмитрий Михайлович! Что ж ты молчишь? – обратился он к Голицыну.
Но Голицын, нахмурив брови, молчал. Его брат, фельдмаршал, отвернулся. Это молчание было смертным приговором, и старый канцлер понял его. Его голова беспомощно затряслась, подкосились ноги, и он упал в свое кресло.
– Не время, канцлер, думать о твоем зяте, когда гибнет Россия, – тихо, но внятно прозвучали слова Дмитрия Михайловича. – Василий Петрович, – обратился он к сидевшему за соседним столиком Степанову, – именем императрицы, по постановлению Верховного тайного совета пиши смертный приговор графу Павлу Ивановичу Ягужинскому… А также указы об аресте Салтыкова, Черкасского, Левенвольде и иже с ними.
Наступило глубокое молчание. Было слышно только тяжелое дыхание старого канцлера да скрип пера Степанова.
– Приговор готов, – сказал Степанов, кладя перед Дмитрием Михайловичем лист бумаги.
Дмитрий Михайлович молча подвинул лист к канцлеру.
Головкин оттолкнул от себя лист и встал:
– Я полагаю, господа члены Верховного совета избавят меня от необходимости подписывать смертный приговор мужу моей дочери!..
Его голос дрогнул.
– Ты – канцлер, – жестко заметил Василий Владимирович.
– Но не палач, – ответил Головкин.
Все промолчали на его слова.
– Я не могу больше присутствовать в заседании совета, – снова начал канцлер. – Господа члены совета благоволят снизойти к моей дряхлости и болезненности.
– Ты свободен, Гаврила Иванович, – сдержанно произнес Дмитрий Михайлович. – Мы уважаем твои чувства.
Головкин сделал общий поклон и, согнувшись, словно сразу действительно одряхлел, неровной походкой вышел из залы заседания.
Рука Алексея Григорьевича заметно дрожала, когда он подписывал смертный приговор. Он весь был охвачен ужасом перед наступающими событиями.
Степанов подал к подписи указы об аресте. Члены совета, один за другим, молча подписали их. Затем в залу заседания были призваны офицеры.
– Вы сейчас же поедете в полки, – распоряжался Василий Владимирович. – Ты, – обратился он к Шастунову, – к себе в лейб-регимент. Дивинский – в Сибирский, Макшеев – в Копорский. Возьмите достаточные наряды солдат с заряженными ружьями. Дивинский арестует Черкасского, Макшеев – Салтыкова, Шастунов – Рейнгольда Левенвольде. Всех обезоружить и держать под домашним караулом. В случае малейшего сопротивления без пощады пускать в ход оружие.
Фельдмаршал отдавал приказания резким, отрывистым голосом.
– Идите! Помните о великом доверии, оказанном вам отечеством! Оно сумеет наградить всех своих верных сынов!..
Ошеломленные приятели, взяв указы, молча вышли.
– А завтра утром я сам арестую Бирона, – сказал фельдмаршал Михаил Михайлович. – И заставлю ее принести присягу в Архангельском соборе, всенародно, на верность подписанным ею кондициям.
– Завтра мы будем их судить, – сказал Василий Лукич. – Пора кончать!
У Шастунова все путалось в голове. Он слишком много пережил в немного часов. И теперь на его голову свалился новый удар. Этот указ об аресте Салтыкова и всех его сторонников, среди которых ближайшим другом Семена Андреича был его отец.
Два его друга тоже были ошеломлены неожиданным приказом. Особенно Макшеев, у которого было много приятелей среди сторонников Салтыкова.
Шастунов схватился за голову.
– Алеша, дорогой, – обратился он к Макшееву. – Ведь у Салтыкова мой отец!
– Ладно, – хмуро ответил Макшеев. – Не тревожься. Пусть черти унесут меня в ад, ежели я не отпущу твоего отца! Пусть едет назад к себе!
Шастунов обнял Алешу.
– Спасибо! Теперь я поеду к господину обер-гофмаршалу.
Друзья распрощались и направились в разные стороны исполнять свои опасные поручения.
Потрясенный и негодующий, ехал домой Головкин. Уже давно его сердце не лежало к верховникам. Теперь они нанесли ему последний удар. Казнь Ягужинского он считал излишней жестокостью. Он сразу увидел в них своих врагов. Его мягкой, уклончивой душе были противны всякие излишества в жестокости. Но что делать? Единственный человек, который своим советом мог бы помочь ему, Остерман, влиятельный и хитрый член Верховного совета, был при смерти.
«Ну что ж, а вдруг ему лучше? – мелькнула мысль в голове Головкина. – Попробую». И он приказал кучеру ехать к вице-канцлеру.
Головкина сперва не хотели принимать, но он был настойчив, и его допустили к Андрею Ивановичу.
Андрей Иванович лежал в постели, укутанный до самого подбородка теплыми одеялами. Слабым, умирающим голосом он спросил Гаврилу Ивановича, что привело его в такой поздний час. Глубоко взволнованный, старый канцлер передал ему решения Верховного совета. Остерман слушал его с закрытыми глазами и ничем не выдавал своей мучительной тревоги.
– Хорошо, – сказал он, выслушав Головкина. – Я слаб и болен, но я постараюсь помочь тебе. Я ведь тоже член Верховного совета. Что бы они ни решили, а «сентенцию» они не посмеют привести в исполнение без согласия императрицы. Дмитрий Михайлович не захочет навлечь на себя нарекания. Я знаю его. Он ведь законник, – заметил с тонкой улыбкой Остерман. – Даже слишком законник, что иногда вредно… Завтра они не казнят твоего зятя, а мы подадим особое мнение. Твой зять не будет казнен! – уверенно закончил он.
Головкин уехал от него несколько успокоенный. Но лишь только он вышел, Остерман резкими звонками призвал слуг и приказал позвать Розенберга. Когда тот явился, он твердым голосом продиктовал ему несколько коротких записок. Это были записки к Густаву, к императрице и к Салтыкову.
Он предупреждал о надвигающейся опасности и советовал Салтыкову немедленно в ночь сменить все караулы, заменив их безусловно преданными людьми, а наутро занять весь дворец военными нарядами в боевом снаряжении. Собрать всех своих приверженцев и вручить Анне челобитную о восстановлении самодержавия. Об этом же он написал Анне, прося, по прибытии Салтыкова, объявить дворцовому караулу, что он сменяется по ее приказанию. Густаву он написал, чтобы он не пугался, если придут его арестовывать, и спокойно ждал бы дальнейших событий.
С этими записками Розенберг тотчас же разослал нарочных.
Теперь, когда Василий Лукич уже не жил во дворце, доставить записку императрице не представляло особых затруднений.
– Мне кажется, я умираю.
– Не позвать ли баронессу? – спросил Розенберг.
– Нет, не надо ее беспокоить, – ответил Остерман. – Мне надо отдохнуть.
XXVIIКогда Лопухина опомнилась и собрала свои мысли, она почувствовала, что Рейнгольд для нее бесконечно дорог. Она не хотела, не могла его лишиться. Что с ним сейчас? Быть может, он уже арестован и ему грозит плаха? А если нет, какие минуты проводит он сейчас один, униженный, оскорбленный! Своей измене она не придавала большого значения. Все приняло такой оборот только потому, что Рейнгольд убедился в ее измене при другом и был унижен им!
Она хорошо знала Рейнгольда. Если бы он узнал об ее измене стороной, он ничем не показал бы ей этого. Но тут…
Ее охватило безумное желание увидеть его. Она нередко бывала у него в квартире. С обычной решимостью она крикнула свою камеристку и приказала ей принести костюм, в котором она была на костюмированном балу во дворце после обручения покойного императора с княжной Екатериной Долгорукой. Это был костюм кавалергарда.
Она живо оделась в него, накинула на плечи меховой плащ, покрыла свои пышные волосы огромной гренадерской шапкой, прицепила портупею с маленьким палашом и обратилась в юного прапорщика. Камеристка лукаво усмехнулась. Она жила у Лопухиной давно и не то еще видывала…
Во главе значительного отряда князь Шастунов быстро приближался к дому Рейнгольда. «Не знаю, арестую ли я его, – думал Арсений Кириллович. – Во всяком случае, я не возьму от него шпаги, пока не убью его… или он меня…»
Он приказал поставить у всех выходов часовых и вошел в дом. Тяжелым молотком он ударил в медный щит. Дверь открылась, и на пороге показался Якуб. Увидя во дворе солдат, он сразу сообразил, что его господину грозит опасность. Он хотел захлопнуть дверь, но было поздно, Шастунов уже вошел.
– Граф дома? – спросил он.
– Не знаю, я сейчас справлюсь, – ответил, поворачиваясь, Якуб.
– Мы пойдем вместе, – сказал Шастунов, удерживая его за руку.
Но Якуб сильным движением вырвал руку и бросился наверх по лестнице. В два прыжка нагнал его Шастунов и, выхватив пистолет, в бешенстве изо всей силы ударил Якуба по голове ложей пистолета. Якуб взмахнул руками, без стона упал и покатился по лестнице вниз.
Шастунов вошел в комнаты. Все слуги, очевидно, уже спали.
Он прошел одну, другую комнату, направляясь на свет, выходивший из щели неплотно притворенной двери.
– Якуб, это ты? – послышался знакомый голос.
– Нет, это я, – с холодным бешенством ответил Шастунов, широко распахивая дверь.
Рейнгольд вскочил и глядел на него с удивлением и ужасом.
– Вы? – пролепетал он. – Что надо вам?
– По постановлению Верховного тайного совета вы арестованы, – медленно ответил Шастунов, наслаждаясь растерянным видом врага.
Смертельная бледность покрыла лицо Рейнгольда. Он бросил взгляд на окно.
– Не рискуйте напрасно, – насмешливо произнес Арсений Кириллович. – Внизу солдаты. Верховному совету все известно. Вас завтра же будут судить. Приговор известен заранее. Но я хочу, – продолжал Шастунов, приближаясь к Рейнгольду и с ненавистью глядя на него, – хочу оказать вам милость. Я избавлю вас от руки палача. Берите вашу шпагу и защищайтесь. Иначе я просто убью вас!
С этими словами князь обнажил шпагу.
Слабый свет двух свечей освещал просторную комнату. Сальные свечи горели неровным светом, и то увеличивались, то уменьшались тени противников на белой стене.
Рейнгольду не было выхода. Если он откажется драться, Шастунов просто убьет его. Он видел это по неумолимому, жестокому выражению глаз молодого князя. Конечно, Рейнгольд предпочел бы быть арестованным. Мало ли что может случиться? Здесь же, он чувствовал, смерть к нему ближе.
– Ну что ж, я жду, – нетерпеливо произнес князь, играя шпагой.
– Я готов, – с внезапной решимостью проговорил Рейнгольд, беря со стола брошенную на него шпагу.
Рейнгольд был выше ростом, сильнее, опытнее Шастунова. Борьба на шпагах, на палашах была хорошо знакома ему еще с тех времен, когда он состоял при герцоге Фердинанде и вступал в единоборство с лучшими рыцарями…
Легко и свободно он перекрестил воздух шпагой и стал в позицию. По тому бешенству, с каким нападал на него князь, он решил, что князь скоро утомится, и с рассчитанным хладнокровием отражал его удары. Он был почти уверен в своей победе над этим пылким мальчиком… Но скоро его уверенность начала сменяться ужасом. Недаром Шастунов брал уроки у знатнейшего в Париже maitre d'armes [48]48
Учителя фехтования (фр.).
[Закрыть]итальянца Бенотти, у которого занималась фехтованием вся придворная аристократия. Свет свечей отражался на кончике его шпаги, и эта светлая точка сливалась в глазах Рейнгольда в одну ослепительную молнию, по всем направлениям бороздившую воздух. Казалось, силы князя увеличивались с каждой секундой. Рейнгольд уже чувствовал усталость в руке и медленно отступал к стене. На его лбу выступил холодный пот, зеленые и красные круги вспыхивали и гасли перед его глазами. Он уже прижался спиной к стене. Он видел перед собою сверкающую молнию шпаги князя и его горящие ненавистью и торжеством глаза. Страшным ударом князь, как бритвой, разрезал его тяжелый атласный кафтан от самой шеи до пояса.
«Погиб», – пронеслось в голове Рейнгольда.
Пронзительный крик раздался за спиной князя. Он на мгновение обернулся и увидел исполненные ужаса черные глаза. Этот миг погубил его. Рейнгольд воспользовался случаем и, вытянув руку, нанес князю прямой удар в плечо.
– А, подлец! – шатаясь на ногах и роняя шпагу, воскликнул князь.
– Рейнгольд! Убийца! – услышал он знакомый голос сквозь туман, заволакивавший его сознание.
Лопухина бросилась к нему.
– Не время заниматься им – надо спасаться, – торопливо говорил Рейнгольд, выдвигая ящики стола и беря заветные мешочки.
Его не удивил и не обрадовал приход Лопухиной. Для него, охваченного животным страхом, не существовало никого!
Он не слушал, что говорила ему Лопухина, не обращал на нее никакого внимания, торопливо накидывая на себя брошенный при входе в комнату Шастуновым плащ.
– Прощай, – сказал он. – Тебе нечего бояться. Я дам тебе знать… – И он выбежал из комнаты.
Уверенным шагом прошел он мимо солдат. Увидя у ворот унтер-офицера, он обратился к нему и сказал:
– Князь приказал тебе осмотреть сейчас же весь двор. Иди.
Унтер-офицер отдал честь и поспешил во двор. Очутившись в безопасности, граф облегченно вздохнул.
Как ни спешил Алеша исполнить данное ему поручение, гонцы Остермана опередили его. Когда он появился около дома Салтыкова с отрядом солдат Копорского полка, дом был погружен в безмолвие. Однако Алеша приказал открыть ворота. Оставил во дворе солдат и вошел в дом, переполошив всех слуг.
Но в доме никого не было. Даже сама Салтыкова была в эту ночь дежурной статс-дамой во дворце. Однако Алеша на всякий случай расставил вокруг дома и во дворе сторожевые посты, строго приказав никого не выпускать из дома, а сам поспешил в Мастерскую палату, куда было приказано явиться им по исполнении поручений, так как члены совета направились туда из дома Голицына.
Подобная неудача постигла и Дивинского. В доме Черкасского остались одни женщины. Алексей Михайлович уехал…
Уже брезжил рассвет, когда Макшеев и Дивинский явились в Мастерскую палату. Их позвали в залу заседаний, где собрались верховники, кроме Головкина и Алексея Григорьевича Долгорукого.
Неудача предпринятого не особенно поразила фельдмаршалов.
– Ну что ж! – сказал Михаил Михайлович. – Они не уйдут от нас. Не сегодня – так завтра. А где же третий? – спросил он.
Никто не мог ответить ему, где Шастунов.
Отпустив офицеров, верховники приступили к обсуждению предстоящего дня и дальнейшей судьбы Бирона и остальных после ареста. Что все их главнейшие враги будут сегодня в их руках – они нисколько не сомневались. Но они не были бы так уверены в себе, если бы совершили объезд по Москве и заглянули бы в полки Преображенский и Семеновский. И если бы они знали, что сегодня, на 25 февраля, Черкасский и Матюшкин уже испросили у императрицы разрешение явиться к ней с представителями шляхетства и генералитета – просить о рассмотрении нового государственного устройства, – верховники тоже не были бы так спокойны.
Получив от Остермана угрожающие вести, Салтыков тотчас бросился в Преображенский полк, Черкасский – в Семеновский, а графа Матвеева и Кантемира послали к кавалергардам.
Секретарь Преображенского полка Булгаков радостно встретил Салтыкова.
– Пора? – спросил он.
– Пора, – ответил Салтыков.
В несколько минут Булгаков оповестил своих сторонников-офицеров, и скоро батальон полка в боевом снаряжении, с заряженными ружьями, в глубоком молчании двигался по улицам Москвы ко дворцу.
То же произошло и в Семеновском полку, а Матвеев и Кантемир вели с собою человек двадцать кавалергардов.
Императрица не спала всю ночь, лихорадочно ожидая событий. Как только явился Салтыков, она тотчас приказала отпустить караул и сменить новым.
Во дворец были введены кавалергарды и по две роты преображенцев и семеновцев. Они были расставлены у всех дверей и в залах, рядом с тронной. Остальные были расположены вокруг дворца.
«Ну, теперь пожалуйте, гости дорогие!» – со злобной улыбкой думала Анна.
Наступал решительный день.
XXVIIIЛопухина беспомощно стояла на коленях перед телом Шастунова. Она расстегнула ему мундир. Брызгала в лицо водой – все было напрасно. Шастунов лежал неподвижно, с плотно закрытыми глазами, и только слабо бьющееся сердце указывало, что жизнь еще не совсем покинула его. С отчаянием и раскаянием глядела Лопухина в прекрасное лицо князя. «Убит, убит, – думала она, ломая руки. – И убила его я, я, я!..»
– Пока еще нет, – раздался над ней тихий голос.
С легким криком вскочила она на ноги и увидела перед собой черную фигуру. Бледное энергичное лицо вошедшего было как будто знакомо Лопухиной; словно где-то она видела эти проницательные глаза.
– Не пугайтесь, – продолжал по-французски незнакомец. – Вы уже видели меня на балу у графа Головкина. Я – де Бриссак.
Лопухина тотчас вспомнила, как на балу она обратила внимание на стройную фигуру, всю в черном, с брильянтовой звездой на груди.
– О, да, я помню вас, – произнесла она. – Вы угадали сейчас мои мысли. Вы поможете ему? Да?
Она смотрела на него прекрасными, полными слез глазами.
– Я для этого пришел, – спокойно сказал де Бриссак.
– Вы знали? – в изумлении воскликнула Лопухина.
– Я знал это, женщина, – строго ответил де Бриссак, наклоняясь к князю.
Он легко поднял его и осторожно положил на диван. Лопухина с тревогой и суеверным страхом следила за всеми движениями де Бриссака.
– Он будет жить? – с трепетом спросила она.
– Он будет жить, – медленно повторил он.
– О, – произнесла Лопухина, молитвенно складывая руки.
– Теперь уйдите, – сказал де Бриссак. – Вы мешаете мне.
Его голос был повелителен.
Лопухина колебалась.
– Еще один вопрос, – робко сказала она. – Когда я увижу его?
– Ваши пути не встретятся больше, – сказал де Бриссак. – Вы навсегда ушли с его пути… О, – добавил он. – Не торопите страшного дня, когда вы вновь увидите его. Лучше, если бы день этот никогда не настал! Вы увидите его с высоты эшафота, измученная, опозоренная, в изодранных одеждах, и не будете в состоянии даже крикнуть, потому что… {64}
Он замолчал.
Ужас непонятный сверхъестественный, охватил Лопухину, и, громко вскрикнув, она бросилась вон из комнаты…
Де Бриссак быстро осмотрел рану на плече, вынул из кармана тонкий бинт, банку и флакон. Положил на бинт мази и перевязал рану. Потом накапал в стакан несколько капель из флакона, долил водою, приподнял голову Шастунова и влил ему глоток в рот. Щеки Шастунова порозовели, глаза открылись. Он сделал движение и поднялся на диване. Увидя де Бриссака, он удивленно взглянул на него и спросил:
– Виконт, вы здесь? Почему?
– Чтобы спасти вас, – спокойно ответил де Бриссак.
– А, да, помню, – произнес Шастунов, потирая лоб. – Помню, этот негодяй ранил меня. Да, это был предательский удар. Я увидел… Он убежал! – воскликнул князь, торопливо вскакивая с дивана. – Ах! – вырвалось у него; он почувствовал мгновенную боль в плече.
– Он убежал, ушла и она… Навсегда, – тихо ответил де Бриссак. – Вы теперь здоровы, рана на плече пройдет через два дня.
– Дорогой друг, – с чувством сказал Шастунов. – Хотя моя жизнь и никому теперь не нужна, но все же ею я обязан вам, и она принадлежит вам. Что моя жизнь? Я растерял все! Я потерял отца, любимую женщину и, кажется, нанес нечаянный удар тому делу, которому служил. Но… благодарю вас!
– Не надо, – ответил де Бриссак. – Ваш жизненный путь еще долог, и не моей воле вы обязаны жизнью. Теперь прощайте. Я уезжаю из России. Я сделал здесь все, что было можно сделать; теперь поеду дальше.
– Я увижу вас? – с невольной грустью спросил Шастунов.
Де Бриссак пристально взглянул на него и ответил:
– Мы увидимся, но через долгие годы и в новые времена. Прощайте, юный друг. Но если вы не увидите меня, то получите обо мне вести…
Он пожал руку Шастунову и вышел в другую дверь.
Шастунов вздохнул и начал собираться. Его плащ исчез.
– Делать нечего, – с брезгливой гримасой произнес он, накидывая на себя плащ Рейнгольда.
Он застал членов Верховного совета в Мастерской палате. Макшеев и Дивинский уже ушли.
Шастунов подробно доложил обо всем происшедшем, не утаив и о поединке. Он только не упомянул имени Лопухиной.
– Следовало бы тебя за это судить, – сурово сказал Василий Владимирович. – Ты не смел затевать с ним поединка, когда был послан арестовать его. И что же! Ты упустил врага, получил рану и нарушил приказание! Да, тебя следовало бы судить. Но теперь не такое время, – продолжал он. – Ты еще можешь искупить свою вину. Приходи сюда опять часа через три за приказаниями. Мы должны кончить сегодня днем то, что не удалось нам исполнить ночью…
Опустив голову, Шастунов вышел. Голова его кружилась, плечо ныло, ему хотелось пить и спать. Он поехал домой, выпил вина и лег спать, приказав Ваське разбудить себя через два часа.
Несмотря на решимость и уверенность в победе, верховники все же вполне понимали всю важность и опасность затеваемого ими дела. Арестовать Бирона во дворце императрицы! Арестовать первых сановников государства! Казнить одного из важнейших лиц империи! Сослать первенствующего члена Синода!
Но решение было принято. Утром Верховный совет явится к императрице. Фельдмаршал Голицын арестует Бирона. Дома Салтыкова и Черкасского окружены. Им не спастись. Сегодня же они будут арестованы, и императрица сегодня же присягнет в Архангельском соборе на верность кондициям, иначе «лишена будет короны российской».
Члены совета тут же, в Мастерской палате, кое-как расположились, чтобы вздремнуть часок-другой. Но отдых их был недолог…
Едва взошло солнце в каком-то кровавом тумане, как они были разбужены Степановым. От своих курьеров, отправленных им, как всегда, во дворец с указами к рассмотрению императрицы, Степанов получил странные и тревожные вести.
– Что случилось? – спросил Василий Владимирович.
Расстроенный Степанов сообщил, что дворец окружен войсками, что один за другим прибывают во дворец представители шляхетства, генералитета, гвардейские офицеры – целой толпой.
Дмитрий Михайлович кинул тревожный взор на своего брата-фельдмаршала.
– Надо ехать и нам, – решительно произнес Василий Владимирович.
В это время явились за приказаниями Макшеев, Дивинский и немного оправившийся Шастунов.
Им велели ехать во дворец, куда поспешили и верховники.
Больше тысячи людей толпились в дворцовых залах. Аудиенц-зала была заполнена преимущественно гвардейскими офицерами. Несколько в стороне верховники увидели, к своему изумлению, и Черкасского, и Барятинского, и князя Трубецкого с Матюшкиным.
При входе в аудиенц-залу их встретил капитан Альбрехт, стоявший в дверях и отсалютовавший фельдмаршалам.
– Ты разве начальник караула? – спросил его пораженный фельдмаршал Михаил Михайлович.
– Начальник дневного караула, ваше сиятельство, – ответил Альбрехт.
Михаил Михайлович нахмурился.
– Отчего меня не известили о прибытии семеновцев и преображенцев? – спросил Василий Владимирович. – Кто здесь распоряжался?
– По повелению ее величества сегодня войсками гвардии командует генерал Салтыков, – ответил Альбрехт.
Фельдмаршалы переглянулись.
– Василий Владимирович, ужели мы обыграны? – тихо произнес Михаил Михайлович.
Василий Владимирович покачал головой.
Дмитрий Михайлович подошел к Матюшкину и Трубецкому.
– Что все это значит? – спросил он.
– Императрица пожелала выслушать сама мнения шляхетства, – уклончиво ответил Матюшкин.
Черкасский был, видимо, взволнован. Стоящий рядом с ним Кантемир что-то горячо говорил ему.
Огромная зала вся гудела от сдержанных голосов, и в этом сдержанном гуле было что-то гневное и угрожающее. Из толпы офицеров иногда вырывались громкие фразы:
– Кто смеет ограничивать волю государыни?! Долой верховников!..
Верховники слышали это, видели враждебные взгляды и чувствовали приближающийся какой-то роковой момент.
Но вот все стихло.
Широко распахнулись двери, и в предшествии церемониймейстеров с золотыми жезлами вошла императрица. За ней следовала блестящая свита офицеров, ее статс-дамы и фрейлины.
Императрица казалась очень бледной в своем траурном платье, с небольшой короной на голове. Она выглядела моложе и стройнее. Большие черные глаза сверкали решимостью и словно затаенной угрозой. Впереди статс-дам шла герцогиня Мекленбургская, отдала всем поклон и опустилась в кресло.
Взойдя по ступеням трона, императрица остановилась, отдала всем поклон и села. Как-то напряженно и нервно прозвучал ее голос, когда она обратилась к присутствующим:
– Для блага моих подданных решила я выслушать мнения представителей «общества» о лучшем государственном устроении империи нашей. Не о благе своем помышляем мы, но токмо о благе державы нашей, вверенной нам всемогущим Богом. – Она замолчала и устремила напряженный, ожидающий взор на князя Черкасского.
Грузная фигура князя Черкасского заколыхалась. Он двинулся к трону в сопровождении Татищева, державшего в руках челобитную.
Все словно замерли.
Верховники подались вперед и тесной группой стояли почти у самых ступеней трона.
– Ваше величество удостоит выслушать всеподданнейшую челобитную всего шляхетства, – низко склоняясь, произнес Черкасский и, сделав шаг в сторону, уступил место Татищеву.
Бледная Анна кивнула головой.
Татищев выступил вперед и громким голосом начал читать.
Челобитная начиналась благодарностью императрице за подписание кондиций, но вместе с тем говорила, что «в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа состоит в стороне предыдущего беспокойства», что еще не были в Верховном совете рассмотрены представленные шляхетством мнения и потому представители «общества» всепокорно просят императрицу, дабы императрица всемилостивейше соизволила «собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилий рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласным мнением по большим голосам форму правления государственного сочинить и вашему величеству к утверждению представить».
Верховники вздохнули свободнее по выслушании челобитной.
Анна расстроенно и смущенно оглянулась вокруг. Она сразу словно опустилась, глаза ее погасли. Она не того ждала. Ее обнадежили, что ее будут просить о восстановлении самодержавия! А теперь опять то же! И опять эти верховники настоят на своем проекте, и опять она останется у них в несносном порабощении!
– Нечего обсуждать, – раздался вдруг голос из толпы гвардейских офицеров, – быть самодержавству по-прежнему!
– По-прежнему! По-прежнему! – раздались голоса.
– Обсудить! Обсудить! – раздались новые крики.
Невероятный шум поднялся в аудиенц-зале.
– Господа представители шляхетства! – закричал Василий Лукич, поднимая руку.
Шум на мгновение смолк.
– Надлежит все обсудить зрело, с соизволения всемилостивейшей государыни. Мы купно рассмотрим проект Верховного совета.
– Не хотим!
– Обсудить!
– Самодержавие!
– Долой врагов отечества!
Снова раздались крики.
Императрица протянула руку, и крики смолкли. Бледный, с горящими гневом глазами, обратился Василий Лукич к князю Черкасскому.
– Вот что вы сделали! – крикнул он. – Кто позволил вам присвоить право законодателя?