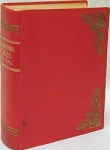Текст книги "Бирон"
Автор книги: Роман Антропов
Соавторы: Федор Зарин-Несвицкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
Несмотря на свою ограниченность, даже Рейнгольд был поражен таким простым, но гибельным для противников планом действий.
Свое письмо Остерман заканчивал словами: «Я стар и болен, но я велю принести себя во дворец на носилках, когда наступит решительная минута отстаивать державные права моей государыни».
Остерман бегло просмотрел написанное и твердой рукой подписал письмо.
– Оно должно быть передано сегодня же, – резко произнес он.
– А если императрица не послушается и побоится? – неуверенным голосом спросил Рейнгольд.
– Она послушается, она теперь решится на все, – с загадочной и жесткой улыбкой произнес Остерман. – Теперь мы напишем твоему брату. Его присутствие здесь необходимо.
– Но его арестуют! – воскликнул Рейнгольд.
– Ты думаешь? – усмехнулся Остерман. – Пиши же.
Уже стемнело. Рейнгольд зажег стоящие на столе свечи и приготовился писать. Несколько мгновений Остерман стоял молча. Потом опять заходил по комнате.
– «Дорогой и высокородный друг, – начал он. – Ныне на престоле российском воцарилась, как вам известно, новая императрица. Со смерти Великого Петра, как при блаженной памяти императрице Екатерине, при вступлении ее на высочайший престол, так и при вступлении на престол ныне почившего отрока-императора, представители Лифляндии, в лице ландратов, являлись с просьбою к новым государям подтвердить известные лифляндские привилегии. Надлежит и ныне явиться к всемилостивейшей государыне, – диктовал Остерман, – таковой же депутации во главе с вами, высокородный господин, как лифляндским ландратом».
Рейнгольд невольно остановился, пораженный простым выходом, придуманным вице-канцлером.
Не обращая внимания на его изумление, вице-канцлер продолжал диктовать. Дальше он переходил уже на дружеский и откровенный тон и раскрывал свою игру. Ходатайство о подтверждении лифляндских привилегий должно быть только предлогом для приезда Густава, присутствие которого необходимо в настоящую минуту для спасения императрицы.
И Остерман кончил неожиданно ударом для Рейнгольда:
– «Под видом слуг депутации или иными какими путями во что бы то ни стало, не теряя минуты, необходимо доставить в Москву Бирона с семейством…»
Рейнгольд уронил из рук перо и вскочил с места.
– Господин барон! – воскликнул он в гневном волнении. – Вы играете головой моего брата и моей!..
– Твоя голова вообще мало стоила, – холодно и жестко произнес Остерман, – а теперь, – медленно закончил он, глядя на Рейнгольда зловещим взглядом, – я за эту пустую голову не дал бы ни одного пфеннига. – Садись и кончай письмо.
– Но, господин барон!.. – начал возмущенный Рейнгольд.
– Ты, кажется, забыл, – тихим, свистящим шепотом произнес Остерман, – что я еще член Верховного тайного совета, что, если я захочу, твоя ненужная голова завтра ляжет на плаху, и никто не вздохнет о тебе, кроме, может быть, твоих любовниц! Но и они будут вздыхать о тебе только до вечера! А к ночи возьмут других!.. Впрочем, насмешливо закончил Остерман, – никто не мешает тебе сейчас уйти от меня… Например, к фельдмаршалу Василию Владимировичу, и… принести оттуда смертный приговор себе. Я не думаю, чтобы фельдмаршал долго колебался в выборе между Левенвольде, отправившим первое письмо через брата императрице в Митаву, и вице-канцлером, членом Верховного совета Остерманом.
Левенвольде до крови закусил губу и покорно опустился на стул у письменного стола.
– Я готов, – угрюмо произнес он, беря снова в руку перо.
Как будто ничего не произошло, Остерман продолжал диктовать. Он подробно описал положение, свои планы и выражал уверенность в смелости Густава, которого не могут испугать опасности.
Когда Остерман перечел и подписал письмо, он спросил Рейнгольда:
– Есть у тебя верный человек? Цел ли тот, кто так искусно обманул всех и провез твое письмо к брату?
Рейнгольд утвердительно кивнул головой.
– Тогда, – сказал Остерман, – пусть сейчас же, немедленно скачет к твоему брату. Пусть не отдыхает ни днем ни ночью. Пусть опередит самого черта! Скажи, что я дам ему дворянство и деньги. А теперь дай ему на дорогу.
С этими словами Остерман открыл ящик стола. Рейнгольд был поражен, увидев, что ящик был почти доверху наполнен золотыми монетами. Он никогда не думал, чтобы Остерман был так богат.
И он был прав. Остерман никогда не был богат, и из этого золота не было им истрачено на себя ни гроша. Это был секретный фонд, который Остерман тратил по своему усмотрению. Из этого фонда он не раз выручал в трудные минуты иностранных резидентов, как, например, герцога де Лирия, доносившего своему правительству, «что на земле нет почти снега, как нет и денег в моем кармане». Помимо некоторых резидентов, деньги шли также в карманы их секретарей и писцов.
Вице-канцлер знал, кому давал и за что давал, и никто никогда не спрашивал у него отчета. Но зато иногда Остерман поражал всех своей необычайной осведомленностью.
Не находя нужным объяснять Рейнгольду назначение этих денег, Остерман обеими руками, не считая, зачерпнул золота и передал Рейнгольду.
– На, на его расходы. Жалеть не приходится.
Рейнгольд забрал деньги, потом взял запечатанные Остерманом письма и глубоко вздохнул.
– Так, значит, сейчас, немедленно, – повелительно сказал Остерман, – ты отправишь гонца к брату и передашь письмо императрице.
– Я сделаю это, – пересохшими губами ответил Рейнгольд.
Он был напуган и чувствовал себя на краю гибели. У него даже мелькнула мысль пойти с этими письмами к Дмитрию Михайловичу, но он сейчас же понял, что если бы ему даже и удалось отправить Остермана на плаху, что во всяком случае было довольно трудно, то уж он сам, наверное, угодил бы под топор.
Он вышел от Остермана, проклиная себя в душе за то, что связался с этим дьяволом. А когда он ушел, Остерман громко проговорил:
– То, что она боится сделать для России, она сделает ради своего любовника и сына, или лишится их обоих! Ей нет отступления!
Остерман погасил свечи, сел в кресло, хорошенько закутал в мех ноги, закрыл глаза и скоро действительно задремал…
XXМежду тем князь Дмитрий Михайлович торопился закрепить свою победу. Совместно с Василием Лукичом и при участии генерала Матюшкина он выработал текст особого соглашения, в котором предусматривалось, чтобы в Верховном совете не было больше двух персон одной фамилии, и говорилось, что члены «такого первого собрания» должны рассуждать, «что не персоны управляют законом, но закон управляет персонами», и еще «буде же, когда случится новое и важное дело, то для оного в Верховный тайный совет имеют для совета и рассуждения собраны быть – Сенат, генералитет, коллежские чины и знатное шляхетство».
Под этим согласительным документом подписались представители шляхетства во главе с Матюшкиным, подписались Черкасский и Трубецкой, много штаб– и обер-офицеров, четырнадцать кавалергардов и другие.
Соглашение быстро покрывалось подписями, и Дмитрий Михайлович торжествовал. Он совсем не считался с оставшимися в стороне непримиримыми кружками, вроде кружка Новикова, справедливо оценивая ничтожество их сил. Еще меньше видел он опасности со стороны сторонников самодержавия, которых даже не было ни видно ни слышно, кроме Феофана, да и то, по-видимому, боявшегося верховников.
Наступал наконец день величайшего торжества верховников – день присяги. В этот день верховники, как бы перед лицом Бога и народа, лишали императрицу самодержавной власти. Отныне все должны понять, что они не рабы. Что они приносят клятву на верность не самодержавной, неограниченной монархине, а государыне и отечеству. Что отныне воля государыни не обязательна, если она клонится ко вреду отечества.
Десятки тысяч присяжных листов были заготовлены Сенатом по распоряжению Верховного совета. Были заготовлены также указы за подписью императрицы, и многочисленные гонцы, нарочные от Сената, офицеры и сержанты, полетели во все края империи, ко всем губернаторам и воеводам с этими указами и присяжными листами. Скрепя сердце, не смея ослушаться, Феофан отправил с тем же нарочных от Синода в епархии.
Всю ночь, предшествовавшую знаменательному дню, верховники не спали.
С раннего утра в Мастерскую палату, где они заседали, начали являться, вызванные повестками, высшие чины для принесения присяги и подписки присяжных листов. Остальными присяга приносилась в Успенском соборе и четырнадцати церквах Москвы. В каждой церкви столицы жителей должны были приводить к присяге особо назначенные для того лица из шляхетства и генералитета. В числе этих лиц были и Черкасский и Матюшкин. Одно это должно было доказать императрице полную победу верховников.
Весь гарнизон Москвы был поставлен на ноги Михаилом Михайловичем. Был издан строгий приказ немедленно арестовывать всех, уклонявшихся от присяги. Но таких не было. Ощетинившись штыками, стояли вокруг церквей, где приносилась присяга, отряды армейских полков. Звонили колокола, гремели пушечные салюты, и народные волны все текли и текли, и казалось, им не будет конца.
Москва впервые присягала на верность государыне и отечеству!
Гвардию приводил к присяге сам фельдмаршал Василий Владимирович.
Генерал Бонн приводил к присяге в лютеранской кирке жителей Немецкой слободы.
Два дня продолжалась церемония.
На третий день измученной, упавшей духом Анне снова приносили в большом кремлевском дворце свои поздравления и высшие чины, и представители Сената и Синода, и иностранные резиденты…
Анна получила письмо Остермана, но только горько усмехнулась, прочтя его.
Бороться, составлять разные конъюнктуры, говорить, просить, убеждать! Нет, она слишком устала для этого! Она измучена! Вся жизнь ее со дня избрания – сплошная пытка. Унизительный надзор, угрожающие намеки… и тяжелее всего разлука.
С какой тоской и любовью вспоминала она, в своем блестящем одиночестве, тихие дни в Митаве. Ласки детей, любовь Бирона, длинные зимние вечера в маленьком, тесном кружке преданных людей. Даже свои заботы о хозяйстве, хлопоты о деньгах. Все мелкие тревоги и незаметные радости…
Нет, она не может уже бороться! И зачем? И для кого? Пусть будет, что решила судьба!
И при этих воспоминаниях из ее глаз текли слезы; не слезы гнева и унижения лишенной власти императрицы, а слезы матери и любовницы-жены…
Когда утомленный церемонией Шастунов возвращался к себе, его еще на углу встретил Васька:
– Батюшка-князь пожаловали…
В первый момент сердце Арсения Кирилловича сжалось, но он вспомнил, что все уже кончено. Императрица сама подписала указы о присяге, и присяга уже принесена. Он поспешил к отцу.
Кириллу Арсеньевичу было за шестьдесят лет, но он казался старше. Он сильно хворал в последнее время и не мог ходить без палки.
Он довольно сухо встретил сына. Однако обнял и поцеловал его.
– Ну, вот, ты забыл обо мне. Я сам на старости лет приплелся в Москву. Хочу повидать государыню да посмотреть, что у вас тут творится. Ну, рассказывай.
Старик сидел в глубоком кресле, опершись обеими руками на палку, и пытливо, острыми, проницательными глазами глядел на сына.
Сперва смущенно, но постепенно овладевая собой и воодушевляясь все больше и больше, Арсений Кириллович рассказывал все происшедшее. Смерть императора, избрание Анны, решение Верховного совета ограничить самодержавную власть императрицы, потом поездка в Митаву, согласие императрицы на кондиции, и кончил сегодняшним днем – принесением присяги на верность государыне и отечеству.
Но по мере того как он воодушевлялся, с восторгом говоря о грядущей свободе, о новом государственном устроении, – все мрачнее становился его отец.
Он внимательно слушал, изредка только справляясь о том или другом лице.
– Так, – медленно начал он, выслушав сына. – Что ж, ужели все так мыслят ныне? Ужели никого не осталось, кто служил бы императрице по старине? Или теперь уже всяк предписывает императрице всероссийской свои законы? И ты туда же полез? Пожалуй, ты и республики хотел бы? А? Может, государыня и вовсе не нужна?
– Батюшка! – воскликнул Арсений Кириллович. – Не против государыни мы, а против угнетения и рабства, против насилия и фаворитов…
– Молчи! – грозно крикнул старик, тяжело поднимаясь с места и сверкая глазами. – Или твой отец был рабом? Или позволил когда-нибудь унизить свою честь? Мы были соратниками и помощниками царей и слугами отечества, но мы никогда не были рабами! Отвергнув Божью помазанницу, это вы станете рабами немногих сильных фамилий! Вам не к лицу преклоняться перед императрицей, вам лучше в холопах служить у Алексея Долгорукого, что у покойного императора чуть не ложки воровал!.. Стыдись, Арсений, ведь ты Шастунов, ведь ты не ниже Долгоруких, ведь одного корня мы и нет знатнее нас. И помни, никогда Шастуновы ни у кого в холопах не состояли, и даже «они» не знатнее нас!..
– Батюшка, – вспыхнув, ответил Арсений. – Я не уроню своей чести; она дорога мне не меньше, чем тебе! Никогда ни у кого я в холопах не буду и не хочу, чтобы и другие были холопами. Мы все люди и все равны.
– Равны? – с насмешкой произнес старик. – Перед Господом Богом разве. Пожалуй, считай себе ровней своего Ваську, а мне он холоп… Одно скажу тебе, Арсений, пока есть во мне остаток сил, я буду защищать священные права самодержавной государыни. Не может быть, чтобы все отреклись от нее. А ее родственники? Салтыков, Лопухин? Я хорошо знаю Семен Андреича. Что ж, они тоже ее враги? Иди своей дорогой, Арсений. Не хочу упрекать тебя. Если на такое дело пошли такие люди, как фельдмаршалы да князь Дмитрий Михайлович, – то что ж с тебя спрашивать! Но знай и помни одно, Арсений: идя против государыни, ты идешь против своего отца. Каждый удар, направленный в нее, я постараюсь принять на свою старую грудь… Я не верю, что все покончено, что она покорна и все довольны. То, что крепло веками, не легко повалить в один день. Я не ждал, что на старости лет останусь одинок, что мой единственный сын, моя гордость и радость, восстанет на меня!
– Отец, отец! Что говоришь ты! – в отчаянии воскликнул Арсений. – Я – на тебя?!
– Да, – повторил старик. – Я пойду против вас, я буду бороться с вами всем, чем могу. И я надеюсь на победу… – Старик гордо выпрямился. – А если я паду, то, быть может, последний удар нанесет мне мой сын, повинуясь приказу своих господ! – Голос старика дрогнул. – Прощай, Арсений, – произнес он и, тяжело опираясь на палку, направился к двери.
Арсений бросился к нему, но старик отстранил его рукой и вышел.
Да, все это предвидел, все это говорил себе Арсений в день получения от отца письма. Но он надеялся, что все кончено и старик примирится с совершившимся. Но он хочет продолжать борьбу… Ужели еще не кончена борьба? Ужели отец лучше понял положение, чем он, живущий здесь? Не может быть! Он видел сегодня торжествующие лица фельдмаршалов, слышал, как сказал Дмитрий Михайлович, что слава Богу – все кончено и назад уже не повернуть…
Нет, отец ошибается! Он увидит, что императрица спокойна, и успокоится сам… Старик потрясен таким резким переворотом государственного строя. Он повидается со старыми приятелями – Дмитрием Михайловичем и Василием Владимировичем. Они яснее и лучше покажут ему всю пользу нового устройства…
Поздно вечером за вещами князя-отца приехал Авдей. Князя пригласил поселиться у себя в доме его старый приятель Семен Андреевич Салтыков.
XXIРейнгольд считал себя погибшим человеком. Мало того, что Остерман приказал ему отправить с его человеком письмо Густаву, то есть делал его своим сообщником, подставляя, в случае неудачи, под первые удары, он возложил на него еще обязанность – найти и подходящее помещение для ожидаемой депутации и семейства Бирона. «Тут уж прямо пахнет страной пушных зверей», – думал Рейнгольд.
Он проклинал этого хитрого старика, запутавшего его в интригу, и от сознания своего бессилия приходил в бешенство.
Если в первое время по смерти императора он принял участие в интриге против Верховного совета, то это было вызвано боязнью потерять все, что позволил приобрести ему случай. Но теперь, когда эта попытка осталась не открытой и он заслужил благоволение императрицы, когда он был назначен обер-гофмаршалом двора и не имел врагов среди верховников, – какого черта ввязываться ему в интриги, которые могут стоить ему головы! Он богат, знатен, отличен при дворе, имеет успех, обладает красивейшей женщиной обеих столиц! Какое ему дело до того, самодержавна ли Анна или нет?! И рядом с ненавистью к Остерману росло в нем и чувство злобы к брату.
«Они очень хитры, – думал он. – Брату, конечно, скучно в его медвежьем углу, ему хотелось бы власти, почести и денег! Легко все это добывать руками брата, подставляя его шею под топор!»
Но, несмотря на такие рассуждения, Рейнгольд все же усердно принялся отыскивать нужное помещение.
Ему посчастливилось. Сравнительно недалеко от Кремля, на берегу Москвы-реки, он нашел уединенный дом, затерянный в глубине просторного сада, окружавшего его. Этот дом выглядел снаружи довольно ветхим, но был удобен и отделан внутри. Владельцем этого дома был купец Сермяжкин из Гостиного двора. Когда у его лавки остановились сани Рейнгольда с ливрейными лакеями на запятках, он выскочил с непокрытой головой встречать почетного гостя.
Сермяжкин торговал персидскими товарами – коврами, шелками, всякой мелочью, трубками, кальянами, оружием, табаком, и, кроме того, был обойщиком и драпировщиком.
Когда Рейнгольд высказал ему свое желание нанять у него дом, он лукаво усмехнулся, окидывая взглядом красивого незнакомца. Ему хорошо были известны теперешние обычаи. Богатые господа любили уединенные домики для встреч со своими красавицами.
К числу таких любителей он отнес и своего посетителя и соответственно этому заломил несуразную цену. Но, к его радости и удивлению, посетитель не стал торговаться. И не только отвалил ему сразу за три месяца вперед, но еще набрал на большую сумму ковров, бронзы, шелковых материй и поручил ему в два дня убрать помещение, не стесняясь в расходах.
Он дал Сермяжкину указание, как убрать квартиру, сколько сделать спален, чем привел его в величайшее изумление. Очевидно, первоначальное предположение Сермяжкина об уютном гнездышке для влюбленных оказалось ошибочным, и теперь он решил, что молодой посетитель готовит квартиру по поручению какого-нибудь знатного родственника, приезжающего в Москву с семейством.
Сермяжкин не ударил в грязь лицом. Через два дня дом был обставлен и украшен внутри. Когда Рейнгольд посетил его, то пришел в восторг. Стены были красиво задрапированы шелковыми тканями, полы покрыты коврами, расставлена мебель, на стенах висели бронзовые канделябры, зеркала, в уютных спальнях стояли бронзовые кровати, покрытые шелковыми одеялами. Даже в буфете оказались вина и запасы съестного.
«Остерман за все заплатит», – думал Рейнгольд, очень довольный обстановкой дома. Он полетел к Остерману и доложил ему об исполнении поручений.
Императрица получила письмо, но молчит. Дом нанят и отделан – это стоило очень дорого!
– Сколько? – коротко спросил Остерман.
Рейнгольд сказал.
– На, возьми, – произнес Остерман, открывая заветный ящик. Он осторожно отсчитал нужное количество золотых. – Теперь будем ждать.
Остерман был спокоен, но не в таком настроении возвращался домой Рейнгольд.
Никогда будущее не страшило его более…
Все вопросы казались решенными. Императрица ни во что не вмешивалась. Верховный совет занимался текущими делами и вместе с тем энергично работал над обширным проектом преобразования, составленным князем Голицыным. В этих работах деятельное участие принимали Василий Лукич и Матюшкин. Матюшкин вносил поправки, клонящиеся к расширению прав шляхетства, и Василий Лукич усердно поддерживал его в этом. Он настаивал на увеличении числа членов Верховного совета и считал необходимым «рассмотрение нужд общественных выборными от шляхетства, чтобы народ узнал, что к пользе народной дела начинать хотят».
Князь Голицын, имея в виду главное – ограничение самодержавия, очень охотно соглашался внести поправки в свой проект, отводящий слишком много места аристократии.
Представители иностранных дворов с напряженным вниманием следили за ходом работ Верховного совета. «Относительно намерений старинных русских фамилий, – доносил своему правительству Маньян, – надо полагать, что они воспользуются столь благоприятной конъюнктурой, чтобы избавиться от ужасного рабства, в котором до сих пор находились, ограничив самовластие русских государей, которые могли по личному произволу располагать жизнью и имуществом своих подданных. Русские вельможи, наравне с низшими сословиями, не имели в этом случае никакого преимущества, которое ограждало бы их от расправы кнутом…»
Уверенные в своей силе, привлекшие на свою сторону большую часть шляхетства, верховники считали свое положение непоколебимым и, с сознанием исполненного перед родиной долга, смело смотрели вперед.
Необычайный подъем духа, горделивую радость испытывал Дмитрий Михайлович. Он был накануне осуществления своей заветной мечты. Он уже видел в своих грезах свободную Россию, великую и непобедимую, гордо шествующую впереди государств Европы!
Окончательная выработка проекта близилась к концу. Скоро должен был наступить великий день, с которого начнется жизнь обновленной России!.. Окружающие верховников торжествовали. Враги их низко опустили головы.
Друг верховников и сторонник самого широкого расширения прав шляхетства Григорий Дмитриевич Юсупов тоже торжествовал. Он отчасти приписывал себе, и не без основания, успех достигнутого соглашения.
Дивинский чувствовал себя бесконечно счастливым. Он уже считался женихом Паши и все свободное от службы время проводил у Юсуповых. Ждали только окончания придворного траура, чтобы сыграть свадьбу. Говорили, что коронация новой императрицы предстоит в апреле; тогда и кончится траур.
Федор Никитич с Пашей мечтали и строили планы будущей жизни. Даже холопы в доме Юсупова повеселели.
– Я говорила тебе, что тебя ждет счастье, – повторяла Сайда, когда от избытка чувств Паша целовала ее морщинистое лицо. – Амулет носишь?
– Ношу, ношу, милая Сайда, – весело отвечала Паша. – Милый, дорогой амулет! Я с ним не расстанусь во всю жизнь!..
Восточная комната княжны была любимым местопребыванием влюбленных. Паша сидела на низеньком кресле, у ее ног помещался Дивинский и, положив голову на ее колени, говорил ей о своей любви. Она слушала, перебирая его волосы, и в эти минуты нередко хотела умереть от полноты счастья! Ее несколько дикая красота расцвела полным блеском и под влиянием счастья стала словно мягче и теплее. Жизнь так хороша, а дальше будет еще лучше…
Дивинский только изредка видел своих друзей. Алеша по-прежнему вел самый беспутный образ жизни, вечно жаловался, зевая, что не может выспаться, и опять закатывался куда-нибудь в укромный уголок – на целую ночь… Шастунов не выглядел счастливым. Он побледнел за последние дни, был задумчив и часто раздражителен. Чуждался товарищей, был молчалив. И действительно, Шастунов чувствовал себя плохо. Он искренне любил своего отца, и происшедшая рознь причиняла ему страдания. Его надежды не оправдались. Он, конечно, поспешил навестить отца. Старик встретил его сухо и сдержанно. Он уже побывал и у Дмитрия Михайловича, и у фельдмаршала Долгорукого. Старик никому не передал содержания своей беседы с ними, но вернулся домой мрачнее тучи и долго в эту ночь говорил с Семеном Андреевичем.
Всякую попытку сына как-нибудь сговориться он решительно и сухо отклонял. Но Арсений Кириллович видел, как тяжело отцу, и мучился сам.
Помимо осложнений в отношениях с отцом, он мучился еще и ревностью. Лопухина словно изменилась к нему. Ее отношение стало неровным. Словно она чем-то была отвлечена или обеспокоена. Быть может, такое настроение было вызвано тем, что Степан Васильевич, как известно, был противником верховников, но от всяких разговоров на эту тему Наталья Федоровна уклонялась.
Она играла с ним, как казалось Арсению Кирилловичу. И сердце его болело, и он не находил себе покоя. Все чаще и чаще вспоминался ему Левенвольде, и он дрожал от бешенства при одном имени его. И если бы в эти минуты он встретился с блестящим графом, он, наверное, довел бы дело до ссоры и поединка…
Маленькая Берта, прислуживающая в остерии дочь Марты, с тревогой следила за своим постояльцем. Она часто задумывалась и грустила. Хотя у нее не было никаких надежд на князя, но она чувствовала себя несчастной, инстинктом влюбленной угадывая, что ее князь страдает от любовной тоски…
Но Шастунов не замечал ни ее вздохов, ни ее томных взоров. Также не замечал он, как худеет и бледнеет баронесса Юлиана.
После присяги ему опять случилось быть в дворцовом карауле, и опять императрица пригласила его к своему столу. На этот раз за столом не было оживления. Императрица, несмотря на то, что ее «дракон» князь Василий Лукич отсутствовал, была печальна и задумчива. Герцогиня Екатерина хранила суровое молчание. Так же была молчалива и дежурная в этот день статс-дама Прасковья Юрьевна, обыкновенно разговорчивая и оживленная.
Юлиана, соседка Шастунова, почти ничего не ела и едва поддерживала разговор с князем.
Притихла и Адель, и даже беззаботный Ариальд, по обыкновению стоявший за креслом императрицы.
В конце обеда Анна обратилась к Шастунову и сказала:
– У меня был твой отец. Он доставил нам подлинное удовольствие своей верностью и преданностью. Я рада, что его сын бывает при нашем дворе.
Она милостиво улыбнулась.
Шастунов встал и глубоко поклонился. Но сказать ничего не мог. Слова императрицы больно ударили его по сердцу.
Сейчас же после обеда императрица в сопровождении герцогини и Салтыковой ушла во внутренние покои.
– Что вы имеете такой печальный вид? – воскликнула Адель, когда ушла императрица. – Князь, – обратилась она к Шастунову. – Вас просто не узнать! Да займите же вашу соседку! Заставьте ее забыть о Митаве, о которой она чуть не плачет день и ночь. Она даже хочет проситься у императрицы уехать назад.
– Да? Вы тоскуете о Митаве? – рассеянно сказал князь.
Он поднял голову и едва ли не в первый раз за сегодняшний день прямо посмотрел на Юлиану. Его поразило скорбное выражение ее лица. На глазах ее выступили слезы. Нежное, похудевшее личико слегка покраснело.
– О, Адель, – сказала она, стараясь улыбнуться, – что ты болтаешь!
– Юлиана, милая, – бросилась к ней Адель. – Ведь мы друзья с князем… Разве он осудит тебя за то, что ты тоскуешь об отце?
– Нет, нет, – живо проговорил князь, с невольной нежностью глядя на печальную Юлиану. Несмотря на свои собственные печали, он вдруг почувствовал искреннее волнение при виде этих детски ясных глаз, полных слез. – Нет, – говорил он. – Я понимаю вашу тоску, баронесса, здесь, на чужой стороне, среди чужих людей…
– О, вы понимаете, – с грустной улыбкой произнесла Юлиана, глядя на него печальными глазами. – Да, – в волнении продолжала она, – здесь все чужие…
– А я с братом, – воскликнула Адель.
– Да, ты с братом, – тихо сказала Юлиана. – А кругом… Как грустно было мне на балу у канцлера, – продолжала она. – Как я чувствовала себя одинокой. О, никогда так не чувствуешь своего одиночества, как среди чужих веселых людей… Вам, наверное, было веселее, чем мне, князь, – закончила она.
Арсений Кириллович слегка покраснел. Ему почему-то стало еще тяжелее.
– Мне недолго было весело, – тихо ответил он.
Юлиана пристально взглянула на него и сейчас же опустила глаза. Она уловила в его голосе как бы отзвук страдания и, как ни странно, почувствовала словно облегчение. Но Шастунову надо было идти в караул. Он встал.
– Прощайте же, – сказала Юлиана. – Вы ведь знаете, что среди чужих и холодных людей вашей родины вы – наш единственный друг, – тихо добавила она.
– И верьте, баронесса, – друг верный и надежный, – с теплым искренним чувством ответил Шастунов, пожимая тонкую, трепетную руку Юлианы.
– Вы можете приходить к нам, – сказала Адель. – Вы знаете, что у нас отдельные апартаменты и отдельный вход. Артур так любит вас. Он скоро совсем будет вашим товарищем. Императрица хочет определить его к вам в лейб-регимент.
– Передайте вашему брату, – ответил Арсений Кириллович, – что я тоже люблю его и что все мы будем рады такому товарищу.
Милое, дружеское внимание девушек было отрадно Арсению Кирилловичу, и, сидя в караульной, слабо освещенной зале, он невольно вспоминал и печально-нежное лицо Юлианы, и оживленное личико Адели. Он смутно угадывал чувства, волновавшие Юлиану, но тут же в его душе вставало другое, прекрасное лицо с томным взглядом неотразимых черных глаз, и его сердце снова болело тоской ревностью, сомнениями.
«Да, мне надо было беречься черных глаз!» со злобой и тоской думал он, и словно раздражение поднималось в его душе против Бриссака. Он сказал меньше, чем знал!..