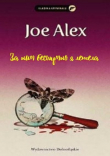Текст книги "Мальвы"
Автор книги: Роман Иванычук
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Ислам-Гирей опустил руку с плеча Мальвы, вспомнив: подобное уже где-то было. В памяти всплыли могущественный падишах Сулейман Великолепный и рогатинская русинка Роксолана, при которой расцвела Османская империя. И еще вспомнил хан сыновей Сулеймана, которых очаровательная Хуррем убила руками султана, чтобы подарить империи новый род от пьяного Селима.
– Принеси мне своего сына! – приказал Ислам-Гирей, и страшная угроза звучала в его словах.
– Он спит…
– Принеси мне своего сына!
Дрожь пронзила все тело Мальвы, спотыкаясь о подушки, она прошла в детскую комнату и принесла маленького Батыра. Мальчик спросонья скривил губки и прижался к матери. Лицо у него было смуглое, как у Ислама, а глаза – материнские.
Рука хана протянулась к ребенку.
– Что ты хочешь делать, хан? – воскликнула Мальва.
– Я буду мудрее Сулеймана Кануни*, – произнес он жестко. – Буду любить разумную казачку и убивать родившихся от нее сыновей!
_______________
* Речь идет о султане Сулеймане I Великолепном, женой которого
была Роксолана.
Мальва судорожно прижала мальчика к груди, а сын, еще не зная, что может твориться в царском дворце, в котором появился на свет, просиял в улыбке и пролепетал:
– Папа, папа, папа!
У Ислама-Гирея опустились руки.
– Воля аллаха, – вздохнул он. – Спи, Мальва. Меня ждут дела. Можешь не волноваться. Я иду писать письмо султану о том, что выступаю со своим войском в союзе с Богданом Хмельницким.
Стратон с нетерпением ожидал, когда Мария вернется из ханского дворца.
– Ну что? – встретил он ее на пороге и тотчас все понял: плечи у Марии опустились, склонилась голова, и глаза, в которых начала было тлеть искра надежды, молча говорили: <Мальва не пойдет>.
– Я так и знал, – глухо произнес Стратон. – Горя – море, пей его – не выпьешь. Но мы пойдем. Ты с грамотой, я – через Сиваш.
– Поздно ты собрался, Стратон. Если бы тогда послушал меня, мы вместе были бы там. Ты ковал бы пушки, я варила бы еду казакам, а Мальва, Соломия… – Мария ударилась головой о стенку и всхлипывала без слез. – Не могу, не могу я уйти… Тут мои дети…
– Дети?
– Да… Ты помнишь ханского воина, который приезжал за Мальвой? Я знаю, не ошибается мое сердце: это мой сын…
Еще несколько дней колебался Стратон, не решаясь оставить Марию, но тоска по казацкой свободе, которая воскресала где-то там, на Черном шляху, терзала душу, не давала спокойно жить. И наконец опустела хата Стратона, словно оттуда вынесли покойника. А Мария больше не появлялась на глаза людям, одна-одинешенька грустила в пустом доме, а иногда поздно вечером сеймен Селим видел женщину в черном, тихо стоявшую недалеко от ворот ханского дворца.
Стратон пробирался ночью через сивашские болота к казацкому Низу, пугая сонных стрепетов, сидевших на курганах.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Царь умер, да здравствует царь!
– Вы слепые кроты и безмозглые устрицы! – кричал султан Ибрагим на членов дивана, вошедших в тронный зал доложить о состоянии войны с Венецией. – Кто начал эту глупую войну? В Золотой Рог больше не приходят торговые суда с ценностями и тканями, опустел гарем, ваши головы отупели, но я промою их раскаленным свинцом.
Молча уходили от султана дефтердар, кадиаскеры и великий визирь Муса-паша, оставляя в тронном зале рядом с падишахом нового члена дивана недыма* Зюннуна. Где его нашел Ибрагим, никто не знал, но султан не разлучался с ним ни на минуту и доверял ему больше, чем когда-то Замбулу. Зюннун входил в султанский дворец, не спрашивая разрешения, и произносил всегда одну и ту же фразу, которая льстила самолюбию Ибрагима:
– Украсил всевышний аллах небо солнцем, месяцем и звездами, а землю дождем, красавицами и самым справедливым султаном Ибрагимом!
_______________
* Н е д ы м – партнер султана по выпивкам, который пользовался
правом приходить к нему в неприемные дни.
После этого недым садился на пол, вычерчивал мелом гороскоп, определяя, в каком зодиакальном созвездии находится сейчас солнце, и безошибочно указывал: в эту минуту в мечетях Багдада прославляют самого умнейшего падишаха, или же – сегодня ночью он встретит в гареме незнакомую красавицу, которую нельзя сравнить ни с кем в неге ее, и страсти, и похотливости; мог даже напророчить богатые дары от иноземных послов.
Потом они вдвоем пили вино, и султан читал Зюннуну свои стихи, а тот поднимал руки вверх и, закатывая глаза, смеялся или вздыхал – в зависимости от того, каким тоном декламировал Ибрагим.
Сам бог послал ему из Анатолии этого человека, без него Ибрагиму теперь не обойтись.
Иногда султан вызывал к себе великого визиря. Это были тревожные минуты для Мусы-паши. Семь потов сходило с него только при воспоминании о том дне, когда Ибрагим, по наущению своей матери, отдал ему печать. После первой официальной аудиенции падишах провел нового визиря к тайнику, находившемуся рядом с залом дивана. Он открыл дверь, окрашенную, как стены, и трупный смрад ударил в лицо – ужасное зрелище предстало перед глазами Мусы-паши: в небольшой комнатушке возвышалась гора человеческих забальзамированных голов.
– Видишь, Муса, – оскалил зубы Ибрагим. – Тут лежат те головы, которые хотели быть умнее головы падишаха. Полюбуйся, вот голова премудрого Аззема-паши. Гляди, чтобы и твоя сюда не попала.
У великого визиря подкосились ноги, он повалился на колени перед султаном:
– О султан, я буду служить тебе верой и правдой!..
Но с тех пор и доныне его преследовали почерневшие лица тех, кто прежде сидел на том самом месте под пятью бунчуками в зале дивана, где сейчас сидит он.
Воспоминание о страшном мавзолее лишало его смелости, он помогал султану торговать чинами, а все деньги, вырученные за это, честно отдавал Ибрагиму, по каждому пустяку шел советоваться с валиде К?зем, которая, избавившись с помощью янычар-аги от умного соперника – Аззема-паши, взяла власть в свои руки и оттеснила от государственных дел самого Нур Али и красавицу Тургану-шекер.
Пусть все идет по воле аллаха, а ему, Мусе-паше, только бы сберечь свою голову и должность. Пускай К?зем воспитывает для престола младшего султанского сына, родившегося от одалиски, он закрывает глаза на то, что тайно исчезают янычарские старшины, которые поддерживают Нур Али; Муса-паша будет молчать и тогда, когда неожиданно умрет Тургана и старший сын Ибрагима Магомет.
Великий визирь замечал какое-то подозрительное брожение в недрах дворца и в войске. Нур Али с тех пор, как печать ускользнула из его рук, не появлялся во дворе даже на заседаниях дивана; Тургана выставила возле своего гарема охрану из янычар; шейх-уль-ислам Регель с лицом святоши каждый вечер ходил молиться в янычарскую мечеть, а среди янычар появился откуда-то новый шейх Мурах-баба, который призывает воинов к самостоятельному походу на Венецию, обещая им бочки золота.
Муса-паша делает вид, что ничего не замечает. Он боится всех. Но пока что султан только угрожает во время аудиенции:
– Ты знаешь, какая кара ждет тебя, если в империи начнутся беспорядки. Иди и промой свой ослиный мозг, хватит мне думать за всех!
Недавно Муса-паша узнал от австрийского резидента в Стамбуле Ренигера о каких-то контактах Ислам-Гирея с казацким гетманом Хмельницким, потом услышал о том, что казаки вместе с татарами разгромили польские войска под Желтыми Водами. Что будет, когда Ибрагим узнает об этом? Чью тогда забальзамирует голову? Но Муса-паша молчал. Не надо подгонять беду. Хан все равно когда-нибудь пришлет своих послов.
А султан каждый день пирует. Сейчас он в горах Истранджа. Охота оказалась на удивление удачной – именно такой, как предсказал недым. Янычары-ловчие, с которыми султан выезжал на охоту, выгоняют на поляну стреноженных косуль, оленей, а Ибрагим прицеливается из ружья и убивает наповал одно животное за другим.
У падишаха хорошее настроение. Он обещает наградить недыма, хвалит ловчих, но из лесу вдруг долетает протяжный звук рога, знак о том, что кто-то приближается.
Ловчие на конях поскакали по лесной дороге и вскоре вернулись, ведя за собой султанского посланца-скорохода.
– Кто послал тебя сюда? – спросил Ибрагим, сердясь, что ему помешали охотиться.
– Муса-паша, великий султан… К тебе прибыли послы хана. Говорят, что у них неотложные дела.
– Ничтожные рабы! – затопал ногами Ибрагим. – Как они сказали неотложные дела? Ко мне, ловчий-паша! Пошли конников к татарским послам, пускай на привязи приведут сюда, если у них нет терпения ждать!
На следующий день перед обедом конники примчались к лагерю султана, таща за собой на веревке послов Ислам-Гирея, истерзанных, в рваных башмаках, со сбитыми до крови ногами.
Султан сидел в шатре на подушке, важный и спокойный. Он окинул несчастных послов взглядом с ног до головы и произнес:
– Мне сказали, что у вас ко мне неотложное дело. Если так, не к лицу звать султана во дворец, а со всех ног бежать к нему, где бы он ни находился. Сегодня я показал вам, как это делается. Говорите скорее, что там: хан помер или, может, море залило Крым?
– Пыль стоп твоих, Ислам-хан, недостойный лобызать твои ноги… простонал дрожащим голосом посол, – доносит тебе, что… что он выступает со своим войском против Ляхистана… ногайские полки Тугай-бея уже разгромили вместе с казаками ляхов на Украине… Хан просит тебя тоже двинуться за богатым ясырем, а в знак высокого уважения к властелину и воину велит передать тебе послание и вот эту украшенную драгоценностями саблю…
У султана от приступа безумной ярости потемнело в глазах. Ибрагим долго читал послание и вдруг вскочил, завопив:
– Как он, паршивый пес, посмел! Мы ведь договор подписали с Ляхистаном…
Послы стояли на коленях, склонив головы до земли; они уже не надеялись, что султан, как это принято, прикажет надеть на них почетные кафтаны. Они уже утратили надежду выйти отсюда живыми.
– Я пойду воевать не с Ляхистаном, а с Крымом и залью всю вашу ничтожную землю кровью, а вас – надо бить камнями и гнать до Золотого Рога! – дрожал Ибрагим от гнева. – Ну, что же вы стоите? – заорал он на ловчих. – Травите их!
Потом пришел черед и недыма, невозмутимо стоявшего в стороне.
– Что твой гороскоп? Почему ты не предупредил меня о черной вести, почему утаил ее от меня? Вы все, вы все против меня, все изменники! Султан выхватил из ножен саблю, подаренную послами, рубанул ею по голове единственного советника.
Недым замертво повалился наземь. Ибрагим в оцепенении замер над трупом друга.
– Зюннун… Зюннун…
Янычары возмущались в своих казармах: Ибрагим прогнал татарских послов, убил булук-пашу, который пришел с требованием отправить стамбульские орты на войну с Ляхистаном. Вспомнили теперь воины своих товарищей, которые в последнее время таинственно исчезали из казармы, проклинали имя валиде К?зем, заговорили о самой богатой в мире добыче, которая достанется шелудивым татарам; Мурах-баба произнес в мечети проповедь о распутном султане, который проводит время в роскоши и торгует государством и войском; янычары с медными котлами – символом бунта – уже хотели было выйти на улицу. Но их сдерживал Нур Али. Он еще не осмеливался поднять восстание.
Ибрагим заперся в тронном зале и никого к себе не допускал. Не стало верного недыма, султан оплакивал его и перебирал в памяти всех сановников и слуг: он больше никому не мог довериться. А действовать самостоятельно боялся. Во всех уголках дворца ему мерещилась смерть. Ибрагим запирал двери на все замки. Ему теперь подавали еду через окошко. Каждый раз гаремная прислуга шептала ему в щель о том, что одалиски желают утешить величайшего из великих, но он боялся пойти даже в гарем.
В тревожном одиночестве Ибрагим начинал понимать: он бессилен. Все делается без его ведома, и уже некому убеждать его в том, что он самый сильный и могущественный и что все боятся его гнева. Бразды правления неожиданно выскользнули из его рук: Крым самовольно начал войну с Ляхистаном, янычары сметают все на своем пути. Йени-чери, всюду йени-чери! Скоро весь мир обрушится на Османову империю, а разве сама империя не стала врагом и султанской жизни? Сквозь железные решетки смотрел в сад, раскинувшийся на склонах Босфора. Там пышно росли лотосы и гиацинты, дозревали манговые плоды, и вспомнил Ибрагим свой первый день султанского правления, когда он, свободный, нарядно одетый, вышел к цветам, а с его уст сорвались слова нежного стихотворения о тоскующем соловье. Не лучше ли было тогда пройти за ограду мимо рыбацких селений и затеряться в человеческом море?
Одиночество становилось невыносимым, хотелось забыться. Поэтому с нетерпением ждал шепота кяя-хатун. В обед подали через окошко еду и донесся голос гаремной прислуги:
– Жить в затворничестве к лицу лишь аллаху. Послушай, султан, я сообщу тебе новость, за которую ты озолотишь свою верную прислугу.
– Говори…
– Пророк сказал: разделил аллах страсти на десять частей и девять из них отдал туркам. Я видела в бане невиданной красоты девушку, которая воплощает в себе все десять частей греховной страсти…
– Кто она? – оживился Ибрагим, забывая о мучивших его душевных тревогах, о Крыме и Польше.
– О, она, наверное, не простая девушка. Я спросила ее, но она прогнала меня, как собаку. Но кяя-хатун все знает, я проследила, по какой улице проходит эта девушка каждый день перед заходом солнца… Если пожелаешь, сегодня она будет твоей.
Жители квартала, что вблизи Ат-мейдана, были свидетелями удивительного происшествия. В предвечерней мгле в сторону Золотого Рога прогрохотала по улице карета. Она остановилась лишь на мгновение, из нее выскочили двое мужчин с закрытыми лицами, набросили на проходившую по мостовой девушку серый плащ, и не успели прохожие опомниться, как карета исчезла в переулке.
На следующий день шейх-уль-ислам Регель спешил к янычарским казармам. От спокойствия святоши не осталось и следа. Глаза устремлены к небу, с уст срывались страшные проклятия, он с угрозой потрясал кулаками.
– Мурах-баба! – крикнул он, став на пороге казармы.
Вмиг прибежал дервиш, пал перед верховным духовником Регелем на колени и увидел, как у того от сильного волнения болталась в левом ухе серьга: Мурах-баба понял, что случилось нечто чрезвычайное и, возможно, в эту минуту будет решена судьба двора.
– Распутник на троне, преступник со священным мечом Османа осквернил мою единственную дочь! О проклятие, о аллах!.. Зови, зови сюда янычар-агу!
Нур Али мигом прискакал на коне. Он, собственно, ждал слова шейх-уль-ислама. Уже пробил час. Пятибунчужный скипетр завтра пронесут слуги над его головой. Пусть погибнет тот, кто не сумел оценить заслуг своего спасителя!
В янычарской мечети собрался диван без султана.
– Халиф Осман утверждал: мудрый султан – процветает государство, убогий умом и духом – и государство рушится, – обратился шейх-уль-ислам к Нур Али, алай-бегу и к пашам. – Чаша моего горя переполнилась, но я один должен оплакивать его и просить аллаха отомстить тому, кто обесчестил мою дочь. Но переполнилась чаша терпения и у всего османского народа. Амурат Четвертый оставил цветущую империю. Не прошло и десяти лет, как опустела государственная казна, пришел в упадок флот, венецианские суда штурмуют дарданелльские замки, христиане завладели Далмацией. И повинен в этом только один грешник и беспутный человек, которому аллах не дал ума для царствования.
– А кто повинен в том, – поднялся алай-бег, начальник спагиев, с ненавистью глядя на Нур Али, – кто виновен в том, что Ибрагим сел на трон?
– Мы спасали династию, – спокойно ответил янычар-ага. – Теперь есть престолонаследник, и недостойный господствовать над нами сейчас может сойти с престола.
– Есть престолонаследники, – уточнил алай-бег.
– Старший сын Ибрагима – Магомет, – резко ответил Нур Али и обратился к шейх-уль-исламу: – Янычары просят тебя, духовный отец, подписать фетву, в которой требуют отречения султана.
Совет окончился. Янычары вынесли из казарм котлы и стали бить в них ложками. Зловещий грохот пронесся над городом и всполошил людей, эхо ударилось в стону дворца. Сам Муса-паша вылетел на коне из ворот и изо всех сил помчался к казармам. Но янычары уже не подчинялись великому визирю. Нур Али только взмахнул рукой, возбужденные воины раздели Мусу-пашу и нагишом погнали по улицам, стегая нагайкой.
В Биюк-сарай шел гонец с фетвой. Он размахивал ею, чтобы никто не посмел приблизиться к нему: священная бумага давала ему право входить к самому султану. Кяя-хатун должна была открыть дверь тронного зала.
Гонец не упал на колени перед султаном – недостойно унижать всесильную власть фетвы. Ибрагим, желтый и сгорбленный, не кричал и не топал ногами. Не отрывая маленьких и поблекших глаз от свитка с печатью, он на цыпочках подошел к посланцу, немигающими глазами глядя на документ, в котором было сказано о его последнем дне, выхватил фетву и тут же порвал ее. Сжал в кулаке клочки бумаги и бросил в мангал.
– Дайте огня, огня! – прохрипел он, обращаясь к кяя-хатун, но на его зов никто не отозвался.
Обескураженный янычар попятился к выходу.
– Султан разорвал фетву! – заревели янычары и ринулись через площадь к дворцу. – Ибрагим нарушил закон корана!
Барабанный бой, звон медных тарелок, вой флейт раздались у главных ворот, распахнулись железные двери…
В зале дивана перед шейх-уль-исламом, пашами и Нур Али стоял Ибрагим, которого притащили сюда за руки евнухи. Он уже предчувствовал, что ждет его, но не мог поверить в это: слишком резким был переход в судьбе. Кажется, только вчера его освободили из темницы и посадили на трон, а сегодня снова отправят в заключение. Без султанских регалий и чалмы Ибрагим выглядел слишком жалким и немощным. Приглушенным голосом он спрашивал у вчерашних своих подданных, а ныне судей:
– Что это означает? Как вы…
Шейх-уль-ислам и Нур Али смущенно переглянулись. Может, им самим стало теперь странно, как могли они когда-то сопровождать это жалкое ничтожество в мечеть Эюба, а потом десять лет бояться порождения рук своих; возможно, подумывали о том, что завтра они возведут на трон такого же другого, и от этого ничего не изменится, а нынешняя расправа с Ибрагимом – только месть за личные обиды?.. Но спектакль закончился.
– Тебе, Ибрагим, советовали мы отказаться от престола, – промолвил Регель, – и, согласившись на это, ты бы доживал свой век в Эски-сарае. Но дьявол надоумил тебя глумиться не только над моей дочерью, но и святым кораном. За это ты будешь заключен в темницу и…
Пронзительный вопль оборвал речь шейх-уль-ислама, Ибрагим стал биться в истерике. Хлопал в ладоши, вызывая слуг, угрожал и замер, остолбенев.
– Смерть, – произнес Нур Али.
Тогда он упал на плиточный пол и стал умолять:
– Помилуй! Я хочу жить!
Ибрагима вывели, шейх-уль-ислам повернулся к янычар-аге.
– Кто это свершит? – спросил, прищурив глаза.
– Чорбаджи первой орты Алим.
– Но тебе известно, что чужеземец, который…
– Вот он и докажет, достоин ли командовать войсками Порты. Простому янычару достаточно ятагана, янычару-аге нужен еще и сметливый ум.
Подворье Биюк-сарая кишело от янычар, которые штурмовали ворота гарема. Там заперлась валиде К?зем с внуком Солиманом. Упали железные решетки, соскочила с петель дверь в комнату валиде: тихо покачивались подвешенные под потолком масляные лампы, на полу валялась разбросанная одежда, посредине комнаты лежал перевернутый миндер, в углу стоял кованный железом сундук. Кто-то открыл крышку, но вместо ожидаемого золота увидел в нем перепуганную насмерть К?зем. Она выползла из сундука и бросила горсть монет янычарам. Те бросились к ней, сорвали золотые серьги с ушей, стащили браслеты и перстни с рук и закололи ударами кинжалов.
Сына султана Солимана, которого янычары должны были доставить живым к Нур Али, не обнаружили ни здесь, ни в детской. Вдруг в стене открылась потайная дверь, и в гарем валиде вошла Тургана-шекер, ведя за руку семилетнего сына. Ее красивое лицо было усеяно морщинами, когда-то пленительные глаза, понравившиеся щедрому султану, грозно взирали на обезумевших янычар. Сын плакал, напуганный криком, но властная мать не обращала внимания на плач ребенка.
– На колени, рабы, перед султаном великой Порты Магометом Четвертым! – приказала она, и вмиг угас пыл вершителей судеб трона.
Янычары опустили ятаганы и пали ниц к стопам его светлости.
Первая орта готовилась к встрече нового султана, который завтра будет ехать из мечети Эюба, опоясанный мечом Османа. Чорбаджи Алим вспомнил, с каким волнением и надеждой он выносил из казармы чашу шербета для Ибрагима десять лет тому назад. Теперь он относился ко всему равнодушно. При Ибрагиме он ни на ступеньку не продвинулся по службе, хотя был примерным янычаром. Звание чорбаджи получил за убийство украинской пленницы в Багдаде, а за жестокую казнь турка Кер-оглы его даже не похвалили. Теперь братья по крови просили турок стать их союзниками. События в мире развивались не так, как хотел того Алим. Перемены, происходившие в Османской империи, тоже были не на руку. Валиде К?зем отменила набор в янычарский корпус иностранных детей. Корпус все больше и больше пополнялся турецкими подростками, которые, становясь взрослыми, остальных янычар называли презрительно – чужеземец, казак, Байда. Турция, которой Алим верно служил, не признала его своим.
Алим был готов ко всему: подать чашу шербета новому султану или шелковый шнур свергнутому. Что прикажут, что доверят? Бунт в душе утих, воля сломлена, возвращаться некуда, а жить как-то надо.
Поздно вечером к Алиму пришел Мурах-баба. Шейх янычарских дервишей с минуту проницательно смотрел на черноусого богатыря, потом заговорщически произнес:
– Око за око, зуб за зуб – гласит коран. Шейх-уль-ислам жаждет смерти Ибрагима. Святой отец милостиво вспомнил о тебе. Ты исполнишь приговор.
– Рука дающая всегда выше той, которая принимает, – холодно ответил Алим. Ни один мускул не дрогнул на лице.
<Такой хладнокровный убийца может удивить даже Османов!> – подумал Мурах-баба и указал Алиму на выход.
Медленно, словно тень, двигались по темным улицам четверо: чорбаджи и дервиш впереди, два палача сзади. Остановились возле дворцовой тюрьмы. Из темницы доносилось рыдание Ибрагима. Палач подал Алиму ключ. Мурах-баба кивнул головой. Какое-то время Алим стоял неподвижно, потом решительно шагнул к двери. Заскрежетал замок, рыдание Ибрагима оборвалось.
При свете факела чорбаджи увидел человека, которому обещал когда-то, что встретится с ним в стране золотого яблока. Встретились… В безумном страхе, который лишает речи, заставляет цепенеть, смотрел на него Ибрагим, и только глаза молили о пощаде.
Чувство, похожее на то, что родилось на мгновение тогда, в Багдаде, когда незнакомая девушка прошептала: <Казаче, соколик>, – вспыхнуло в душе.
…Тогда он начинал службу, теперь должен удержать то, что заработал; тогда хотел заслужить ласку властелинов, убивая рабыню, теперь – убивая правителя. Ибрагим стал ему таким же ненужным, как когда-то любовь Нафисы и вера в христианского бога. Но нет, оказывается, он еще нужен.
Чорбаджи первой султанской орты, приученный убивать, легко пронзил кинжалом горло своему бывшему покровителю.
Возвращались молча: впереди Мурах-баба с Алимом, следом за ним два палача. Вдруг Алима охватило чувство неуверенности, тревоги. Он оглянулся – придворные палачи шли, понуря головы. Алим замедлил шаг, чтобы поравняться с ними, но палачи снова отстали. Мурах-баба свернул с дороги в ворота, которые вели в комнату палачей. Чорбаджи резко повернулся, схватившись за палаш, на котором еще не застыла султанская кровь, но ему вмиг скрутили руки и заткнули рот куском сукна.
При свете факела, который освещал последние минуты жизни Ибрагима, палач зачитал приговор, написанный рукой шейх-уль-ислама Регеля, очень довольного местью:
<Султан убит, но род Османов священный. Чужеземец, обагривший руки кровью государя Порты, должен умереть. Турецкая кровь смывается лишь кровью>.
В последний раз пронзило мозг слово <чужеземец>, и это было страшнее смертного приговора. Всю жизнь он хотел сравняться с турками – и напрасно.
Когда шею уже стягивала холодная петля, в памяти Алима возникла проклятая им самим степь и ее высокая ковыльная трава… а в небе – белые облака… и резвые кони скачут к чужому черному небу над Босфором.
В эту ночь возле Мраморного моря в рыбачьем доме, приютившемся у южной стены Биюк-сарая, зажегся огонь. Рыбаки опускали в воду мешок с телом первенца казацкого полковника Самойла – янычара Алима.
К утру следы мятежа на Софийской площади были устранены. Народ собирался к дворцу сопровождать в мечеть Эюба нового султана.
Дервиши бежали впереди, выкрикивая осанну императору, более ревностные вскрывали себе вены в знак того, что всегда готовы пролить кровь за падишаха, толпа шумела, волновалась, прорывалась к процессии, чтобы лобызать следы копыт султанского коня.
Великий визирь Нур Али придерживал рукой семилетнего властелина империи, чтобы он не упал с коня. Магомет Четвертый плакал, потому что еще никогда не сидел на коне, крик повелителя трех континентов и пяти морей разносился над напыщенной Портой, вызывая чувство тоскливо-беспокойного страха.