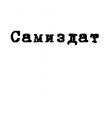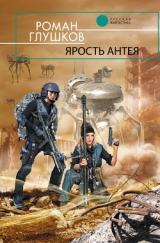
Текст книги "Ярость Антея"
Автор книги: Роман Глушков
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Субстанция вырвалась из жерла скважины не как гейзер или клубы дыма. Лев Карлович уверял, что ничего подобного он прежде не видел. Никто из присутствующих на буровой не успел даже глазом моргнуть, как был окружен горячим и непроглядным туманом. Несмотря на то, что весь персонал надел противогазы и комбинезоны химзащиты, проку от них не оказалось. Сам Ефремов сделал в жарком облаке лишь пару вдохов, а потом лишился сознания вместе с ассистировавшими ему коллегами.
Очнулись они столь же дружно спустя примерно сутки, но не в здании буровой, а кто где. В поселке при станции проживало двадцать четыре сотрудника, и каждый из них оказался накрыт белой мглой, даже те, кто находился в момент эксперимента вне башни. Субстанция в мгновение ока растеклась по поселку, но, когда люди пришли в себя, горячая подземная гостья уже исчезла. Но не бесследно. После себя она оставила такой разгром, что при виде его Льва Карловича едва не хватил инфаркт.
И было с чего. Практически все оборудование на буровой и в поселке – от кибермодулей и дорогой компьютерной техники до кухонных комбайнов и телепанно, – было разгромлено. И что самое обидное – уничтожили станцию не какие-то наноорганизмы из недр, а сами ее обитатели. Это они учинили здесь тотальный хаос, хотя фактической вины люди за него, конечно, не несли. Они занимались вандализмом не по своей воле, а под воздействием вызванной ими на поверхность субстанции, которая целые сутки властвовала над их рассудками.
Ефремов пришел в чувство лежа на полу у себя в кабинете. Противогаза на академике не оказалось, а комбинезон был изодран в клочья. Сознание Льва Карловича после возвращения к реальности оставалось на диво ясным, голова не болела и на теле не наблюдалось ожогов. Но в мышцах ощущалась такая ломота, словно хозяин буровой успел за минувшие сутки наколоть дров на целую зиму; в качестве физзарядки он всегда заготавливал поленья для своего камина сам, не доверяя эту работу кибермодулям. Догадка оказалась недалека от истины, поскольку любимый топор Ефремова валялся сейчас у него под рукой. Им он, похоже, и обратил убранство своего кабинета в груду обломков.
До академика не сразу дошло, что же стряслось. Однако когда ему доложили о масштабе разрушений, картина напрочь стертых у него из памяти событий понемногу прояснилась. Судя по всему, каждый сотрудник буровой внес свою лепту в разгром оборудования и, что еще хуже, – бесценной базы образцов грунта, видеоархивов и научной документации. Завладевшая сознанием людей, разумная – отныне Ефремов в этом не сомневался, – субстанция жестоко наказала геологов за их дерзкий эксперимент. Причем их же собственными руками. Была разбита на мелкие осколки и флейта, а электронные и бумажные носители с ее чертежами академик сам уничтожил в беспамятстве. Благо, у Готлиба Клейна остались копии, поэтому пульсатор еще подлежал восстановлению. А вот насчет остального оборудования, увы, сказать такое было уже нельзя.
Просто поразительно, какой погром устроили за сутки двадцать четыре далеко не воинственных и отнюдь не самых крепких человека. Что ж, результат первого контакта с Mantus sapiens был более чем очевиден. Оправившись от шока после, пожалуй, сильнейшего потрясения в своей жизни, Лев Карлович суммировал факты и пришел к выводу, что разумная субстанция вовсе не вызывала его на контакт, а, скорее, предостерегала от попыток дальнейшего проникновения на свою территорию. Намекала, как намекает рычанием один хищник другому о том, что последний вторгся в чужие владения. А когда он не только не понял намека, но и зарычал в ответ, хозяин набросился на дерзкого гостя и укусил его. Не смертельно, но так, чтобы наглец раз и навсегда уяснил, кто здесь диктует правила.
Обнаруженная Ефремовым разумная мантия Земли (вопреки нападкам коллег-скептиков, академик называл свое открытие только таким громким именем), совершенно очевидно, не питала любви к человечеству. Однако Душа Антея явно не предвидела, что столкнувшиеся с ней обитатели земной поверхности умудрятся воссоздать чужеродную для них технологию. И пусть воссоздание это больше походило на передразнивание, тем не менее мы смогли напугать Mantus sapiens настолько, что она решилась выйти из недр, чтобы восстановить статус-кво. А заодно продемонстрировать другие свои качества, познать которые мы были пока не в силах.
Это и беспокоило Льва Карловича, а также всех тех, кто поверил ему на основе уцелевших после катастрофы, скудных, разрозненных доказательств; из-за нежелания академика разглашать преждевременно детали своих экспериментов, он снабжал следивших за его работой коллег далеко не полной информацией о ней. Завладев разумом двадцати четырех человек, Душа Антея не обратила их в безмозглых сомнамбул, а подвигла на четкие, целенаправленные действия. Ефремовцы же, стреляя из флейты в скважину, действовали наудачу и понятия не имели, к каким последствиям это приведет. Получалось, что за время контакта подземная субстанция узнала о нас намного больше, чем мы о ней. Или же на момент нашей первой, как предполагалось, встречи разумная мантия уже была знакома с человеком?
Поставив себя на грань разорения и растеряв две трети сподвижников, Ефремов заказал новое оборудование и, осознавая, какой опасности он подвергается, рискнул продолжить геологоразведочные работы. Однако не тут-то было. Первый же погрузившийся в скважину киберразведчик сообщил, что на пятнадцатикилометровой глубине она перекрыта базальтовой пробкой. Которая, по всем признакам, была обработана Mantus sapiens и затвердела настолько, что теперь ее не возьмет даже самая прочная буровая коронка. Пробуренные от главного ствола диагональные боковые отводы внесли уточнение, что ефремовцы имеют дело не с пробкой, а с огромным непреодолимым щитом, обойти который не получится при всем старании. Так что если базальт на отметке 15,2 не вернет себе со временем привычные свойства, о дальнейших работах на Кольской Сверхглубокой можно забыть. Как и в тысяча девятьсот девяносто втором году, когда скважина была законсервирована впервые, все опять уперлось в несовершенство техники и недостаток финансирования.
Лев Карлович пережил и этот удар. Собрав по крупицам всю уцелевшую информацию, он углубился в ее анализ посредством тщательного компьютерного моделирования. А также взялся за создание новой флейты. Положение академика осложнялось тем, что из двенадцати существующих в мире сверхглубоких скважин, чьи бурильщики вышли на отметку 25, на тот момент функционировали всего четыре. Да и те после пережитых Кризисов балансировали на грани закрытия. Но Ефремов не терял надежды, что однажды хозяева этих буровых тоже наткнутся на Mantus sapiens, после чего его наработки окажутся востребованы и найдут больше сторонников в ученом сообществе. А пока ступившему на полосу неудач академику пришлось потуже затянуть пояс и заняться теоретическими изысканиями. Мурманский геологоразведчик не намеревался признавать собственное поражение. Он планировал взять у Души Антея реванш, встретив ее во всеоружии. Если, конечно, судьба вновь изволит столкнуть когда-нибудь Льва Карловича с обитающей в недрах планеты разумной формой жизни…
Петля новосибирского разлома замкнулась в кольцо ранним октябрьским утром, прохладным и на удивление погожим. Последние сорок с лишним километров своего кольцевого маршрута Тропа Горгоны преодолела всего за одну ночь. Аномалия промчалась по Мочищенскому району, повторно перерезала Обь вместе с островом Медвежий, вернулась на левый берег, миновала Кудряшовское кладбище и примкнула точно к северной оконечности первого разлома. Иными словами, достигла точки отсчета, откуда месяц назад и началась эта растянувшаяся во времени катастрофа.
Неподалеку от места стыковки Тропы собралась делегация из ученых, военных, представителей Комитета и журналистов. За их прямыми репортажами с места катастрофы затаив дыхание следил весь мир. Власти упорно отказывались давать комментарии, ограничиваясь лаконичной отговоркой: «Утро вечера мудренее. Давайте дождемся рассвета, тогда и поговорим». Журналисты не настаивали. Действительно, говорить до утра было не о чем. «Кольцевание» Новосибирска шло согласно прогнозам, а виды опустевшего города, демонстрируемые ежечасно по всем каналам, уже набили у телезрителей оскомину. Последнее активно освещаемое телевизионщиками событие происходило в полночь. Это был вывод из города эвакуационных команд, получивший от журналистов меткое сравнение с вытягиванием пустого невода. Вынужденные остаться в Новосибирске на свой страх и риск военные патрули состояли сплошь из добровольцев, согласившихся приглядывать за отказниками от эвакуации, чем бы в итоге ни обернулось их упрямство.
Предупреждение о сейсмическом ударе, обязанном случиться при образовании последнего разлома, передавалось в эфир несколько часов подряд. Поэтому все в округе успели подготовиться к грядущему землетрясению. А вот то, что случилось потом, хоть и предсказывалось Ефремовым, но мало кем воспринималось всерьез. Слишком уж невероятным казался подобный исход. Надо заметить, что Лев Карлович все-таки не был до конца уверен в этом своем прогнозе. Или, может быть, как ведомый на казнь смертник, просто отказывался верить в худшее, зная, что все завершится именно так…
Равный по силе пятибалльному землетрясению толчок произошел на рассвете, когда холодное октябрьское солнце только показалось из-за горизонта. Возникновение гигантского провала зафиксировали сотни установленных на вертолетах камер. Зрелище не оставило равнодушным телезрителей, следящих за новосибирскими хрониками. Однако когда колебания почвы ослабли и ожидавшая урочного часа делегация устремилась к разлому, его противоположный берег – тот, что находился на внутренней стороне этой окружности, – вдруг начал опускаться. Не доехав до места стыковки – ныне пересохшего озера Кривое, – делегаты остановились и в ужасе уставились на здания Кудряшовского района. А они, этаж за этажом, на глазах уходили под землю, как тонущие корабли, погружающиеся в морскую пучину.
Не только официальная делегация, но и все, кто пребывал сейчас во внешней зоне оцепления, могли наблюдать это явление. На первый взгляд казалось, что здания очерченного разломом города все до единого врастают в грунт. Или же наоборот, берег, на котором стояли свидетели катастрофы, медленно вздымается над Новосибирском. Истинная и полная картина происходящего была видна лишь пилотам вертолетов и телезрителям, внимающим ведущимся с воздуха репортажам.
Описать случившееся схематически можно на примере перемерзшего озера, в толстом льду которого прорублена сквозная канавка, имеющая форму большой окружности. Отрезанная таким образом от общего массива, льдина остается на плаву, но теперь всем своим весом опирается только на воду. Отчего неминуемо оседает относительно уровня ледяного покрова и образует в нем круглое углубление. Применительно к нашей ситуации следует добавить, что толщина льда в озере должна быть такой, чтобы болтающаяся в воде цилиндрическая глыба не перевернулась даже при сильной нагрузке на любой из ее краев.
Примерно на таком «плавающем» тектоническом образовании и оказалась «сердцевина» Новосибирска, когда ее буквально вырезала из земной коры сила, породившая аномальный разлом. А роль воды, что удерживала льдину на нашем наглядном примере, здесь играла старая знакомая академика Ефремова – разумная мантия. Она скопилась под городом в таком количестве, объем которого Лев Карлович не осмелился подсчитать даже приблизительно. Из-за нее же, судя по всему, оседание титанической плиты сопровождалось лишь умеренной мощности землетрясением (его я и ощутил тогда, в клинике). Концентрация под ней Mantus sapiens оказалась столь плотной, что каменная шайба диаметром под сорок километров и неведомо какой толщины опустилась на глубину четырехсот метров, словно лежа на плавно сдувающейся воздушной подушке. Вдобавок трение между гладкими монолитными стенами разлома было незначительным, что также ослабило силу сейсмических колебаний.
Верниковский поведал мне, что, когда члены делегации узрели погружающийся в белую мглу город, некоторые впечатлительные женщины попадали в обморок, а один слабонервный научный сотрудник скончался от сердечного приступа. По словам комбрига, впечатления от ядерных взрывов, что демонстрируются курсантам военных училищ на виртуальных тренажерах, и в подметки не годились шоку от зрелища, увиденного генералом наяву тем утром. Возможно, именно так давным-давно уходила в пучину океана легендарная Атлантида. Даже у тех, кто сидел сейчас перед телепанно на другом краю света, волосы от увиденного вставали дыбом.
Позже Александр Игнатьевич задумался над тем, что было бы, оседай тектоническая плита не целый час, а рухни вниз с четырехсотметровой высоты без какой-либо амортизации. Вряд ли укрепленные Душой Антея стены разлома выдержали бы такой удар. Порожденная им сейсмическая волна уничтожила бы все живое в радиусе полутысячи километров от эпицентра, а также до неузнаваемости изуродовала бы ландшафт новосибирских окрестностей, превратив их в непроходимую пустошь, испещренную завалами и глубокими трещинами. Случись такое, «Кальдера» точно напоминала бы вулканический или метеоритный кратер, а не то уникальное геологическое образование, какое она сегодня собой представляла.
Впрочем, многие городские сооружения развалились и от этой щадящей встряски. Пока тектоническая плита не погрузилась во мглу, было отчетливо видно, как повсюду обрушиваются наименее устойчивые здания. Их грохот был практически не слышен сквозь сотрясающий атмосферу низкочастотный гул. Он заглушал все прочие звуки, вызывал головную боль и ощущался не только барабанными перепонками, но и, казалось, всем телом. Болезненно скривив лица, Верниковский и прочие глядели на вздымающиеся над городом клубы пыли, коих с каждой минутой становилось все больше и больше. Усевшийся в этот момент перед телеэкраном, не сведущий в новосибирских событиях зритель мог подумать, что видит документальные кадры какой-нибудь военной хроники.
Вдобавок ко всему Mantus sapiens затягивала улицы подобно пороховому дыму. Она поднималась над городом ровной густой пеленой, как туман над гладью озера в безветренное утро. Или, вернее, это город погружался в белую субстанцию, исчезая в ней, словно гигантский мираж. Над ее покровом остались торчать лишь верхушки самых высоких небоскребов, так называемых «стоэтажников». Их в Новосибирске и прежде можно было пересчитать по пальцам, а после нынешнего катаклизма – уже по пальцам одной руки. Три из этих высоток рухнут в течение последующих двух месяцев, еще одна – за неделю до моей выписки из клиники. В день, когда я спустился – а, точнее, упал, – в «Кальдеру», над туманной пеленой маячил лишь шпиль штаб-квартиры сибирского филиала топливного концерна «Гидрогениум». Самый старый из местных небоскребов, как выяснилось, оказался на поверку и самым устойчивым.
Миновал час, и панораму раскинувшегося перед Верниковским города сменила другая – та, какую я увидел лишь три месяца спустя с берега «Кальдеры». Телевизионщики транслировали в прямом эфире репортаж за репортажем, которым предстояло уже завтра войти в анналы мировой документалистики. Самым впечатляющим из свежих видеороликов был тот, что засвидетельствовал образование водопада, который стал отныне величайшим водопадом планеты. За оседающей вместе с тектонической плитой Обской ГЭС постепенно росла и ширилась циклопическая стена воды. Через пятнадцать минут она падала на дамбу со стометрового отвесного склона, а к моменту, когда землетрясение прекратилось, ревущие воды Оби, должно быть, уже разрушили плотину до основания. Так это на самом деле или нет, мешал рассмотреть туманный покров.
Поначалу таких огромных водопадов было два. Но через несколько дней, когда уровень воды в отрезанной от истоков Оби понизился, северный водопад иссяк. Впрочем, на фоне иных происходящих здесь метаморфоз речные выглядели чуть ли не обыденным явлением…
Последняя глава славной летописи города Новосибирска завершилась весьма трагично. Но точка в его истории еще не была поставлена. Изуродованный и превратившийся в гигантскую аномалию город продолжал жить, пусть даже жизнь в нем приобрела совершенно диковинные формы…
Глава 6
Возможно, кто-то другой обрадовался бы такой выписке из психушки, какой удостоился я. Мне же от этой свободы хочется лить горючие слезы. Наилучший путь к отступлению отрезан. Отныне я словно плыву по течению быстрой извилистой реки, которая может вынести меня куда угодно. Но сейчас я переживаю вовсе не об этом. Все мои силы уходят на то, чтобы не дать себе утонуть в бурном потоке кипящих вокруг событий. Лишь барахтаясь как ошалелый, я имею шанс доплыть до спасительного берега. А когда выберусь на сушу и переведу дух, тогда и решу, в какую сторону идти дальше, раз уж назад дороги, судя по всему, теперь нет.
Сравнение самого себя с пловцом-экстремалом приходит мне на ум отнюдь не случайно. Когда я вижу, что за чудовище перевалило через железнодорожную насыпь, то и впрямь чуть было не бросаюсь с перепугу в холодные воды Ини и не пускаюсь вплавь к противоположному берегу. Хорошо, хоть Скептик не теряется и быстро наставляет паникера-брата на верный путь.
– Не туда, идиот! – одергивает меня братец, едва смекнув, что я вздумал искупаться. – Быстро чеши на мост, дурья твоя башка! Долбаный акромегал догонит тебя и в реке, и на мосту, но так хотя бы останешься сухим!..
Кибермодуль-акромегал, что гонится за мной тяжелой поступью, относится к тем гигантским промышленным роботам, которые передвигаются не на колесном или гусеничном шасси, а на шести высоких коленчатых конечностях. Подобная техника обычно используется на карьерах, лесозаготовках, сплавах или болотах. Наш стальной паучище, очевидно, принадлежит к технопарку находившихся в Первомайке стрелочного или электровозного заводов. Их производственные корпуса возвышаются по ту сторону железнодорожной насыпи, у стены «Кальдеры»; разлом прошел точно по территориям этих промышленных предприятий.
Чем прежде занимался этот акромегал – грузил рельсы или ворочал детали электровозов, – я понятия не имею. Передняя часть сигарообразного корпуса робота измята – надо полагать, он таранит все, что преграждает ему путь. А шесть таких же побитых, но вполне подвижных лап громыхают по аллее, с треском ломая попадающие под них березки и липы. Высота кибермодуля на вытянутых конечностях достигает седьмого или восьмого этажа, а длина корпуса сравнима с двумя сцепленными железнодорожными цистернами. Поэтому мне и в голову не приходит палить по монстру из автомата или подствольного гранатомета. Драпать со всех ног к мосту, а с него – на тот берег, – вот такой незамысловатый у меня план войны с разгулявшимся акромегалом.
На другой стороне Ини возвышается гряда каменистых холмов, прорезанная искусственным ущельем рельсовой магистрали, идущей к центру Новосибирска. Если кибермодуля задержит река – по мосту чересчур громоздкой махине не пройти, – я постараюсь взбежать от него на береговой склон. Он довольно крут, но не настолько, чтобы по нему нельзя карабкаться. А вот обутые в резиновые накладки конечности этого робота приспособлены для ходьбы лишь по ровным поверхностям, типа заводских площадок или городских улиц. Так что на склоне я удвою свои шансы оторваться от погони. А учитывая, что после форсирования реки лапы гиганта будут заляпаны скользким илом, возможно, мои ставки на победу поднимутся еще выше.
Бежать навстречу акромегалу, надеясь прошмыгнуть у него под брюхом, я не рискую. Враг лишь кажется неповоротливым, а на деле может изловчиться и отфутболить меня ножищей куда угодно. Или растоптать, как растоптал бы я, к примеру, ядовитый гриб. Приходится поступить не столь отважно: юркнуть в ближайшую подворотню, что ведет из одного двора-каньона в другой. С ходу протаранить двадцатиэтажку у кибермодуля не выйдет. Поэтому если я потороплюсь, то успею проскочить арку до того, как она обвалится.
Акромегал засекает мой маневр и рвется за мной, будто разъяренный пес, – за отскочившей от него жертвой. Удар стальной громадины о стену дома я не столько слышу, сколько чувствую, когда из-под низких сводов арки на голову сыплются куски штукатурки, а по дрогнувшим стенам пробегают трещины. Вслед за мной в подворотню врывается облако едкой пыли – не иначе, робот обвалил изрядный фрагмент фасада. Но, как и предполагалось, дом выстоял и не похоронил меня под курганом обломков.
Второй, более мощный удар кибермодуль наносит, когда я уже выскакиваю из подворотни в соседний двор, однотипный с предыдущим «каньоном». Арка опять-таки не обваливается, но, замешкайся я у здания хотя бы на мгновение, меня засыпало бы битыми стеклами, дождем хлынувшими из окон всех двадцати этажей. Я выбегаю на середину двора и сломя голову бросаюсь к ведущей на мост насыпи. Если подфартит, мне удастся взобраться на нее до того, как гигант раздолбит удерживающую его преграду.
Расчет оказывается верен. С четвертого удара враг пробивает-таки брешь в растянувшемся вдоль берега многоэтажном жилом комплексе. Стена развороченного дома еще не осыпалась, а робот уже врывается в пролом, не обращая внимание на бьющие ему по корпусу куски перекрытий и прочий тяжеловесный хлам. Акромегал не может перелезать через высокие отвесные преграды, но завалы преодолевает без труда. Особенно те, которые сам и нагородил.
Впрочем, кое-что я все же не предусмотрел. Но как в такой ситуации уследить за всем? Когда за вами по пятам гонится механический паук-переросток, задумываться об осторожности попросту нет времени. Поэтому и приходится влипать в неприятности, каких можно было бы благополучно избежать, ведя себя тихо и скрытно.
Штурм насыпи после резвого спринтерского забега становится для меня красноречивым напоминанием об утрате спортивной формы. Конечно, бригадные медики при помощи ударной физиотерапии слегка укрепили мою ослабшую в клинике мускулатуру. Но для полного ее восстановления требуется не пара дней, а, как минимум, полторы недели. Взбежав на насыпь, я хриплю, словно загнанная лошадь, и едва не теряю сознание, хотя еще полгода назад проделал бы подобный рывок почти не сбив дыхание и сохранив достаточно сил. Рухнув на подкосившиеся колени, я тем не менее в один голос со Скептиком тут же приказываю себе подняться и дуть к мосту. До него остается пара сотен метров и мне нужно, кровь из носу, оказаться у реки раньше, чем кибермодуль достигнет железной дороги.
Однако прежде чем продолжить бегство, я вдруг замечаю, как вдоль противоположного склона насыпи неспешно движутся трое кальдерцев. Если бы не их изорванная в клочья, замызганная одежда, на которую не позарились бы и бомжи, компания вполне сошла бы за обычных людей. Разве что чем-то сильно подавленных и бредущих в угрюмом молчании. В таком же настроении, не изменившись в лице и не издав ни звука, троица резко переходит на бег и бросается вверх по склону. Не заметить меня, торчащего на путях и не похожего на местного обитателя, сложно. А настигнуть и того проще. О прыти, с которой кальдерцы штурмуют откос, я не мог мечтать и в молодые годы. Как, вероятно, и мои новые противники, ставшие таковыми лишь благодаря вселившейся в них Душе Антея.
– Да чтоб вас, мудозвоны!.. – в сердцах выкрикиваю я. Какое проклятье я хочу обрушить им на головы, трудно сказать. Единственная кара, на которую мне хватает сил, – свинцовый дождь, да и тот кратковременный. Вскинув автомат, я выпускаю в бегущих врагов полмагазина патронов, стараясь, чтобы, как писал классик, никто не ушел обиженным. После чего разворачиваюсь и припускаю к мосту на подгибающихся от усталости ногах.
Имей я дело с обычными людьми, ни один из них не преодолел бы этот подъем под таким обстрелом. Но, как уже упоминалось, к кальдерцам в подобных случаях требуется особый огневой подход. Мне посчастливилось вывести из игры лишь первого угодившего под пули противника, который лишается головы, а вместе с ней и покровительства Mantus sapiens. Остальные двое не желают умирать даже получив от меня столько пуль, сколько хватило бы на расстрел куда более многочисленной банды, чем эта.
Бегать с недобитыми преследователями наперегонки – не самая здравая тактика, но приближающийся акромегал не оставляет мне выбора. Сцепись я с кальдерцами прямо здесь, подоспевший кибермодуль отрежет меня от реки и решит исход нашего боя в свою пользу. Загонять себя меж двух огней недопустимо, и я предпочитаю героической схватке не менее героическую пробежку.
Толком не отдышавшись, я проделываю очередной спринт за счет, наверное, одной лишь жажды жизни. Сердце выпрыгивает из груди, легкие горят, будто я вдыхаю полной грудью горсть молотого перца, а перед глазами пульсируют красные круги, которые отнюдь не способствуют меткой стрельбе. Дабы сохранить силы для битвы, я останавливаюсь до того, как ноги подкосились бы сами. После чего оборачиваюсь, крепко прижимаю приклад автомата к плечу и готовлюсь выдать вторую порцию свинца обоим кровожадным кальдерцам.
Поступь акромегала походит на бой огромного барабана и терроризирует слух почище забивающего сваю копра. И, несмотря на это, я ухитряюсь расслышать винтовочный выстрел, что раздается откуда-то с противоположного берега. Поневоле вздрогнув, я почему-то решаю, что сейчас заполучу промеж лопаток пулю – просто не сообразил, что избери стрелок мишенью меня, вряд ли я вообще успел бы о чем-либо подумать. Так и грохнулся бы на рельсы с перебитым позвоночником или разнесенным черепом, даже не поняв, отчего умер.
Куда именно целится стрелок, выясняется, когда бегущий впереди кальдерец спотыкается и падает навзничь с развороченной грудиной. И не успеваю я чертыхнуться, как второго моего врага постигает та же незавидная участь. Судя по чудовищным ранениям, какие оставляет оружие моего таинственного заступника, он ведет огонь из дальнобойной снайперской винтовки. Имелись ли в сопровождающей Ефремова группе снайперы, мне не уточнили. Но то, что по кальдерцам стреляет не пропавший академик, яснее ясного. Сомнительно, чтобы жрец науки научился под старость лет обращаться с тяжелой крупнокалиберной дурой. Да еще настолько виртуозно, что удосужился поразить подряд с большого расстояния две быстро бегущие цели.
Некогда высматривать, что за добрый самаритянин оказывает мне огневую поддержку. Забыв о двуногих преследователях, я гляжу, как шестиногий гигант взбирается на насыпь, и шпарю к мосту. Вот было бы здорово, окажись у моего доброжелателя еще и противотанковая ракетная установка…
Ничего такого по акромегалу с другого берега, к сожалению, не шарахает. Но я премного обязан неизвестному снайперу и за ту подмогу, какую он мне оказал. Только благодаря ему я достигаю моста раньше, чем кибермодуль настигает меня. Теперь нужно перебраться через Иню и попробовать взобраться на крутой склон ближайшего холма. Полагаю, у моего спасителя хватит ума не высовываться и рисковать собственной шкурой почем зря. Теперь от его снайперского прикрытия толку не будет. Если я не спасу себя сам, значит, никто другой мне уже не поможет.
Как и ожидалось, акромегал не суется на мост, предпочтя ринуться в реку выше по течению. Неглубокая Иня для такого гиганта не преграда. Развалив небрежным движением лодочную станцию и дощатый пирс, кибермодуль решительно ступает в воду, но не форсирует преграду, а делает то, чего я больше всего опасаюсь. Шагнув к мосту, махина приподнимает пару передних лап и, опираясь на остальные, бьет сразу по двум из трех мостовых опор. Затем еще и еще, пока бетонные колонны не начинают крошиться и разваливаться на куски.
Я как раз преодолеваю третий пролет, когда в грохот ударов вклиниваются лязг и скрежет. Основание моста и рельсовые пути вздрагивают и накреняются подо мной, отчего я чуть было не скатываюсь назад, во взбудораженную падающими обломками воду. Благо, край покосившегося пролета уже близко и я, совершив череду отчаянных скачков, перепрыгиваю на следующий, еще не поврежденный участок моста. А его восточный край утрачивает опору и заваливается в реку, подняв высоченный фонтан.
Разбушевавшийся робот, разумеется, на этом не останавливается и с немыслимой для стального гиганта резвостью перебегает по дну реки к последней опоре. Дотянуться до самого пролета он не может – не позволяет конструкция опорно-двигательного механизма. Вот и приходится акромегалу препятствовать моему бегству только таким способом. Не самым практичным, но все равно эффективным.
Последний пролет начинает крениться набок, когда меня и западный край переправы разделяет еще довольно приличное расстояние. Спуртом это проблему уже не решить. Не видя иного выхода, я шарахаюсь к боковому ограждению, которое после падения моста должно остаться над водой. Обхватив одну из распорок руками и ногами, я устраиваюсь на ней таким образом, чтобы когда конструкция окажется на боку, я лежал животом на широкой железной балке.
Позиция оказывается крайне удачной. Болтайся я на распорке, словно ленивец, наверняка сорвался бы с нее при рывках, что сотрясали пролет во время его падения. А так я отделываюсь лишь парой болезненных, но терпимых ушибов. Когда же последний фрагмент моста рушится, мне остается только быстро переползти на широкую балку – ту, к которой крепились распорки. На ней я могу встать на ноги и добежать до берега, не боясь утратить равновесие и навернуться в воду.
Стараясь не глядеть вниз, я добираюсь до нужной балки, поднимаюсь и, расставив руки в стороны, осторожно семеню по каркасу поваленного моста. Акромегал в это время топчется возле последней уничтоженной опоры, что напоминает теперь полуразвалившийся гнилой зуб. Я опасаюсь не успеть и потому спешу изо всей сил. И когда сенсоры робота меня наконец засекают, я нахожусь практически в полудюжине метров от цели.
Деформированный край пролета упирается в берег, и мне требуется лишь хорошенько оттолкнуться, чтобы соскочить на землю. Стальной паучище моих намерений не одобряет. Он уже движется следом, с шумом баламутя речную воду своими могучими конечностями. Пока робот преодолевает уклон прибрежного дна, я спрыгиваю на размокший глинистый спуск и даже не поскальзываюсь. Меня и противника разделяет лишь искореженный фрагмент моста. Я нахожусь у самого подножия холма, на который планирую забраться, поэтому сейчас враг может легко до меня дотянуться. Даже слишком легко, если принять во внимание мои подгибающиеся от усталости ноги и сбившееся дыхание.