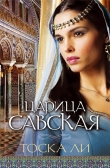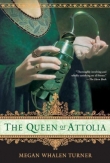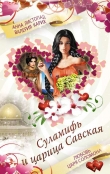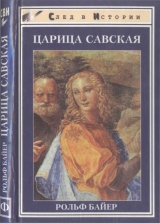
Текст книги "Царица Савская"
Автор книги: Рольф Бейер ( Байер)
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Глава 19
ИСКУСИТЕЛЬНИЦА
Французский романист Гюстав Флобер в течение всей своей писательской жизни находился под влиянием царицы Савской. Но ее образ не окутан, как у Лоррена, сиянием света, а сгущен в черные фантасмагории. Трижды он брался за перо, чтобы литературно возродить к жизни царицу Савскую. Одним из его персонажей был святой Антоний, тот монах-отшельник, который в 4 в. в египетской пустыне посвятил свою жизнь аскезе и отречению от всего земного. Отказ от мира и всего того, что украшает жизнь – богатство и власть, дружба и любовь, – был одной стороной, которая привлекала Флобера в святом Антонии. Другой же стороной была необузданная фантазия, одолевавшая монаха.
Вот святой Антоний читает Библию, и со страниц поднимаются лица, которые кажутся фантасмагориями изголодавшейся души, плоти и крови. И его одолевают семь смертных грехов, а одним из самых грозных образов является царица Савская. Она, когда-то посетившая царя Соломона, предстает и перед отшельником Антонием. Но то, что она ему предлагает, не имеет ничего общего с приносящими благо дарами. Она – это сладострастие и разврат в одном лице – искушает аскета, говоря ему, чего он лишится, если отвергнет ее.
Она восседает на белом слоне, «на голубых шерстяных подушках, поджав под себя ноги, с полуопущенными веками и покачивая головой… в таких великолепных одеждах, что от нее исходят лучи». Как похотливый вамп соскальзывает она со спины слона.
Но она находится также в союзе с высшими силами. «Ее талия затянута в узкий корсаж, который украшают двенадцать знаков зодиака. Туфли разные: одна черная с серебряными звездами и полумесяцем, другая белая с золотыми крапинками и солнцем посередине». Здесь ее описание явно совпадает с описанием Девы Марии. Вамп с атрибутами апокалиптической мадонны – вот куда занесла царицу Савскую фантазия Антония у Флобера. Но «ее унизанные кольцами руки заканчиваются такими острыми ногтями, что они похожи на иглы». Это напоминает нам об убивающей мужчин Лилит из еврейской легенды, у которой были вместо рук когти.
Но это еще не все: «Ее глаза обведены черной краской. На левой щеке у нее родимое пятно, и дышит она с полуоткрытым ртом, как будто ее стесняет корсаж». Родимое пятно тоже уже было, оно появляется в стихах персидского поэта Хафиза, а о ее «подобных звездам глазах» сообщает в 12 в. Гонорий. Но у Флобера все эти давно известные черты однозначно связаны с эротикой.
«Синтезированный» вамп – это определение наилучшим образом характеризует царицу. В конечном итоге она синтезирована во многих отношениях, т. к. разом собирает в себе все известные черты. Но, с другой стороны, не следует забывать, что эти черты утрируются в потоке разыгравшейся фантазии. Какой бы нереальной ни казалась царица Савская, к отшельнику она подходит так близко, как никакой другой искуситель. «Она дергает его за бороду, тянет за рукава, берет в свои ладони его лицо, требовательно поднимает руки». Она хочет стать для него всем, дать ему все земные сокровища. Среди них есть и стеклянный дворец, о котором мы уже знаем. Но все это не действует, поэтому ей ничего не остается другого, кроме как предложить себя, но странным, неестественным образом. Пусть Антоний смотрит ей в глаза, чтобы она стала такой, как он хочет, скорее плодом его воображения, чем живым существом.
«Возжелай всех, кого ты когда-либо встречал, от поющей уличной девки под фонарем до патрицианки, бросающей розы из своих носилок, возжелай все формы, все образы! Я – не женщина, я – мир. Стоит только упасть моим одеждам, и ты обнаружишь тайны моего тела».
Но Антоний не сдается, и царица улетучивается «с судорожными, прерывистыми рыданиями, которые звучат, как вздох или язвительный смех…»
А как же иначе: женщина, которая является миром, теряет себя как личность. Возлюбленная, желающая стать для возлюбленного всем, растворяется, превращаясь в ничто. Царица Савская, химера, которая хочет быть настоящей, может только уничтожить себя.
Противоречивый, реально-нереальный характер, который увидел зачарованный Антоний, нашел конгениального художника-иллюстратора. В 1888 г. Одилон Редон создал одну из своих самых зловещих литографий. Тонко очерченное лицо, обрамленное мастерски выписанными локонами, бездонные темные глаза – вот какой для него была царица Савская. Но рядом с ней спускается жуткое чудовище, демоническая птица с человеческим лицом, страшная и трудно определимая на вид – это то, во что превратился так хорошо нам знакомый удод Худ-худ. У Флобера царица подзывает его пронзительным свистом как «гонца своего сердца». Теперь он здесь, в полете, готовый опуститься на царицу. Вряд ли более таинственно был изображен загадочный контраст жуткого уродства и изящнейшего облика: глубокий символ необузданной фантазии, материальное воплощение которой было столь же притягательным, сколь и отталкивающим.
Эта крайне «черная» романтизация царицы Савской требовала прямо противоположного образа. Совсем иная царица встречает нас у французского поэта Жерара де Нерва ля. Как и Флобер, он многое почерпнул из популярного тогда справочника ученого Эрбло «Восточная библиотека». К тому же сам Нерваль владел древнееврейским и арабским языками, занимался тайнами Каббалы и совершил много научных путешествий на Восток.
Во 2-м томе его «Путешествия на Восток» есть «История царицы Востока», она содержит богатейший фактический материал и размышления, которые были результатом его религиозных и фольклорных исследований. Но автор приводит и совершенно новую легенду, в которой царица Савская кокетливо ставит Соломона на место.
Как и на персидских миниатюрах, они восседают рядом, облаченные в роскошные одежды и показывающие друг другу свои богатства. Но царь кажется безжизненным, как каменная статуя, с лицом, похожим на маску из слоновой кости. Рядом с ним – «белая дочь Востока», закутанная в легкий прозрачный газ. «Вы – великий поэт», – восклицает царица, намекая на написанную Соломоном «Песнь Песней», но при этом отчитывает польщенного царя перед собравшимся обществом.
Она называет его повелителем рабов, бичует его женоненавистническую жестокость: ведь Соломон прогнал свою воспетую возлюбленную Суламифь. Царица не прощает ему того, что он осмелился сказать: «Женщина горше, чем смерть!» И очаровательным образом напоминает ему о его морщинах, обвиняет в мстительной старческой непримиримости. Все это она делает с сияющей улыбкой и уничтожающим кокетством. Так, царь посрамлен женщиной, «газельи глаза» которой рассказчик не преминул упомянуть. Умудренность Соломона всего лишь возрастная, его мудрость носит черты ограниченности и узости.
Но это еще не самое худшее: пожилому царю выпала судьба отвергнутого любовника. В лице архитектора храма Адонирама у него появляется соперник, по-фаустовски раздвоенный, но по-прометеевски созидающий образ творца, во многом прообраз самого Нерваля. И вот они однажды встречаются: мятущийся, не знающий покоя художник и царица. Оба открывают друг друга, и обнаруживается тайное родство: оба кочевые посланцы пустыни, оба находятся в противоречии с самодовольными и сытыми современниками. Оба происходят от потаенной сущности огня, ищут свое место в будущем и не находят его в настоящем. Нерваль это искусно аранжировал, ведь он возводит происхождение обоих к братоубийце Каину. Поэтому оба принадлежат к отвергнутому, преследуемому каинову роду, к роду строителей городов и золотых дел мастеров, певцов и ясновидящих, как это сказано еще в Библии. Счастья это не приносит, спокойной любви им не суждено. Адонирам становится жертвой инспирированной старческой злобой интриги, его убивают, и царица сразу же после этого возвращается в пустынные дали.
Но и Соломон не стал счастливым. Ножки трона начинает неумолимо подтачивать «цирон», насекомое, которое обычно живет в навозной куче. Однажды трон рухнет, а вместе с ним и власть Соломона. Трон и великолепие царя стоят на «дражащих ногах»! Это место Нерва ль явно отыскал в исламской легенде о царице Савской. Разве однажды царица не показала жемчужины, которую нужно было просверлить? А разве Соломон не принес жука, который это сделал и протянул сквозь просверленную жемчужину крученую нить? У Нерваля жук превратился в навозное насекомое, которое подготовит конец царской власти Соломона. Итак, Адонирам убит, Соломон унижен, его власти грозит конец, царица Савская исчезла в просторах пустыни! Было ли это последним словом Нерваля?
Отнюдь! Если царица столь явно отвергла царя, то поэт должен еще теснее с ней соединиться! И произошло это ошеломляющим образом! Еще в 1841 г. Нерваль был помещен в парижскую лечебницу для душевнобольных, с 1850 г. его состояние все сильнее ухудшалось. Но душевное расстройство сочеталось с ясностью ума. Когда «произошло слияние грез с реальной действительностью», отягощая его все новыми лицами, когда безостановочно происходил распад личности, его память, остроумие и удивительное красноречие сконцентрировались на одолевавших его видениях. Он зафиксировал то, что должно было его уничтожить: он написал хронику деградации, в котором смешались вымысел и правда. Его новелла «Аврелия», последнее произведение Нерваля перед тем, как он повесился в темном парижском переулке, рисует нам историю этой жизни.
Аврелия – это актриса Женни Колон, потеря которой, по-видимому, неизлечимо травмировала Нерваля. Ее смерть побудила его сделать бессмертной свою утраченную возлюбленную в памяти и фантазиях. Она одолевала его во все новых образах, связанных с воспоминанием о матери, но носящих также черты «ангела меланхолии». Он видит сад, который приобретает черты предмета его любви, но картина жизни преображается в мертвый кладбищенский пейзаж. Его одолевает ужас, несмотря на то, что Аврелия воскресает в образе апокалиптической мадонны с лицом Изиды, символа всех образов, которые поэт раз и навсегда полюбил. Но картины безудержно растворяются во фрагментах грез, и вот перед нами последнее появление Аврелии:
«Моя подруга отправилась рядом со мной на белой кобыле с голубым чепраком. Она сказала мне: «Мужайся, брат! Это последний отрезок пути!» Ее широко раскрытые глаза поглощали просторы, и длинные волосы, пропитанные ароматом Йемена, развевались по ветру. Я узнал божественные черты мессии. Мы с триумфом полетели туда, и наши враги лежали у нас под ногами. В небе нас сопровождал удод, и лук из света сиял в руках у Апполиона. Волшебный рог Адониса снова зазвучал в лесах».
Это вознесение Нерваля на небо, инверсия душевного сошествия поэта в ад, происходит в сопровождении Аврелии (царицы Савской), а между ними скачет победоносный мессия. Для нас, узнавших долгую, многовековую жизнь повелительницы Сабы, это является потрясающим документом. Мы снова видим ладановый пейзаж ее йеменской родины, кочевую жизнь царицы, глаза, о бездонности которых сообщал Гонорий, длинные волосы, напоминающие нам о грозной Лилит. Так же как и в Средневековье она появляется «приносящей души». Все это переносится в глубинный поток фантазии угасающего поэтического гения. С полным правом мы можем утверждать: царица Жерара де Нерваля является самым необычным изображением этого персонажа, которое нам до сих пор встречалось.
Рядом с ним бледнеют другие творения романтически родственных душ, например, роман Шарля Нодье «Фея хлебных крошек», написанный еще до Флобера и Нерваля, роман английского романтика Л. Аберкромби «Эмблема любви» и «Билкис и Соломон» Джона Фримена. Артур Саймонс, находящийся под сильным влиянием Нерваля, написал эпическую поэму «Возлюбленный царицы Савской», вышедшую в свет в 1899 г. Там разворачивается история любовного треугольника, Соломон появляется в прежнем блеске, ему не страшен никакой Адонирам. Правда, Саймонс нетрадиционно трактует отношения любви и мудрости и заставляет Соломона говорить неслыханные вещи. Мудрость – это «болезнь» любви, вот что мы слышим, но это совершенно понятно, если иметь в виду чопорность викторианской эпохи. Однако царица продолжает высоко держать знамя мудрости, так что в конце, хотя и немного «невразумительно», любовь и мудрость воссоединяются. Там нет и следа от раздвоенности Антония или Жерара де Нерваля. То, что поэтически выражено в произведении, гармонично сочитается с чувствами и мыслями бюргера.
Это же относится и к истории Вильяма Батлера Йетса, который посвятил царице Савской три стихотворения. В 1919 г. Соломон целует лицо, колени и глаза царицы, и их беседы бесконечно и непрерывно вращаются вокруг таинств любви. Конечный итог земной мудрости таков: любовь «как конь бежит рысью по кругу в огороженном выгоне», но это поэтически так безгранично, что даже мир стал тесным выгоном.
В стихотворении «К женщине» (1919 г.) Йетс пошел еще дальше. Соломон может обрести мудрость лишь когда разговаривает со своими женами; это они способствуют возрастанию мудрости. Но что значит мудрость? Йетс не грезит о безобидном Нечто, наоборот, то, что ему удалось, это непрямая, но тем не менее однозначная «эротизация» того, что до сих пор считалось свойственным царице:
Когда царица Савская была его возлюбленной,
Когда она повелевала железом,
Когда оно от огня в кузнечном горне
Пенясь стекает в воду:
Острота ее желания
Наполняла и опустошала ее,
Счастье приходит во сне,
Дрожь сливает ее в одно целое.
В загадочном стихотворении 1921 г. «Соломон и ведьма» Йетс рисует картину «масла и фитиля, которые горят вместе» опять неприкрытый намек на эротически-сексуальное. Но останавливается ли время, заканчивается ли мир в любовных объятиях, фон остается мрачным и тревожным, ибо любовь несет в себе «жестокость». Подобно «паучьему глазу», она запечатлевает кроме радости также боль и страдания. «Быть может, брачное ложе приносит отчаяние», – вздыхает поэт. Но его последние слова таковы: «О Соломон, дай нам еще раз попытаться». Великие «Да» и «Напрасно» совмещаются в царице Савской, которая, возлежа на «поросшем травой лугу», дарит «дикие» лунные минуты.
Проявление «романтической» многозначности свойственно также и норвежскому писателю Кнуту Гамсуну, который называл свою возлюбленную царицей Савской. 9 декабря 1888 г. в «Гетеборгской газете» выходит его статья, обсуждающая картину Юлиуса Кронберга, посвященную царице Савской:
«Она – это современная эфиопка девятнадцати лет, стройная, соблазнительно прекрасная, величие и женщина в одном лице… Левой рукой она приподнимает с лица вуаль и направляет свой взор на царя. Она не темнокожая, даже ее черные волосы скрыты под серебряной диадемой; она выглядит как европейка, которая путешествовала по Востоку и загорела на солнце. Но ее глаза темного цвета, что выдает ее происхождение, их одновременно тяжелый и огненный взгляд заставляет вздрогнуть зрителя…»
Даже Гамсун, отнюдь не романтик, «романтически» относится к царице, она представляется ему двоякой – ее образ переливает разными оттенками, между притягательным очарованием и зловещим демонизмом.
Они были отданы на произвол колониализма в Африке, с 18 в. их увозили в Америку из западноафриканских государств. Оторванные от родины, миллионы рабов гнули спины на плантациях Южной Америки. После Гражданской войны чисто формально уравненная в правах, но не в общественном и культурном отношении, «низшая раса» в течение долгого времени подвержена дискриминации! И не только в Америке и Африке, это относится и к черным африканцам, которые на Антильских островах, на Ямайке и Гаити находились под португальским и французским господством.
И тем не менее их самосознание не было сломлено угнетением, не погибло под жестоким гнетом. Сформировать «черное» самосознание было к тому же бесконечно трудно, потому что не было основной национальности и отсутствовал общий культурный опыт. Только в песнях, танцах и преданиях сохранилась первоначальная общность.
В 1748 г. на острове Барбадос родился некий Принс Холл, сын англичанина и «свободной» негритянки. В 1765 г. он приехал в Америку и обосновался в Бостоне. Днем работал, ночью учился, чтобы стать проповедником. Через десять лет Принс Холл – признанный лидер черной общины в Бостоне. Он принимал участие в борьбе за независимость против англичан и отличился в легендарной битве у Банкер Хилла. Инициатором освобождения чернокожих он стал прежде всего благодаря тому, что являлся основателем «цветного» масонского ордена в Америке. В 1784 г., преодолев многочисленные препятствия, был избран главой «Африканской масонской ложи». Масонское движение быстро распространилось среди чернокожих, в нем действительно царили товарищество и братство.
Глава 20
ЧЕРНАЯ ЦАРИЦА ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Царица Савская иногда изображалась как «черная царица». Можно ли считать ее чернокожесть плодом фантазий некоторых «белых» теологов, поэтов и художников? Что думают о ней «черные» люди? Этим вопросом открывается последний поворот ее удивительной истории.
Если до сих пор это были остановки на ее «жизненном пути», который переносил нас в давно ушедшие времена и частично в древние культуры, то теперь мы намереваемся идти по современному следу. В наше время она выросла в освободительную фигуру, олицетворяющую «черное самосознание». В эпоху средневековой романтики и готики она оставалась экзотическим образом, волнующим средневекового человека. Теперь же в среде «черных» людей Африки и Америки она непосредственно вторглась в мечты об освобождении угнетенных черных и цветных, вдохновляла их на освободительную борьбу.
Прошло много времени, пока чернокожим удалось заговорить во весь голос, отстоять свои права.
В июне 1797 г. он произносит речь перед масонами Менотоми штата Массачусетс, в которой взывает к духу черного братства. Не зря эта речь считается первым и значительным свидетельством «черного» голоса Америки. На Принса Холла произвела глубокое впечатление борьба за освобождение, которую цветные в 1791 г. вели на Гаити. Холл заверил гаитян в солидарности всех цветных американцев. При этом он бичевал расовую спесь белых и ссылался на библейские примеры:
«Эфиоп Иофор дал своему зятю Моисею хорошие советы по устройству правления… Следовательно, Моисей не погнушался выслушать поучения черного человека… Царь Соломон не погнушался беседовать с царицей Савской…»
Речь является первой попыткой привлечь царицу Савскую в историю черного освободительного движения. Глубокое уважение, с которым царь Соломон встречал черную царицу, было путеводной звездой для дальнейших попыток мобилизовать библейских персонажей для освободительной борьбы, а также принципиального протеста против «белой» интерпретации Библии.
С давних пор «белые» теологи и политики привлекали соответствующие отрывки из Библии, чтобы обосновать неравенство и развращенность чернокожих. Например, важную роль сыграла история сыновей Ноя – Сима, Хама и Яфета. Хам считался родоначальником чернокожих. Его сын Ханаан был проклят и отдан на вечное рабство потомкам Яфета, Яфет же был родоначальником белых. Черные теологи не могли терпеть это расистское толкование. В конце концов, царица Савская считается потомком хамитов в соответствии со скрижалями народов в 1-й Книге Моисеевой, где она через кушитов происходит от Хама.
Это подчеркивал также Джилберт Хейвен в речи против рабства, напечатанной в 1869 г. в Бостоне. В ней сказано, как относился Соломон к царице Савской: «с благоговением и учтивостью», и что в этой встрече царя отражается равноправие рас.
Столь глубокому уважению к царице Савской способствовал также английский «перевод при короле Джеймсе» Библии 1611 г. В нем древнееврейские и древнегреческие слова, обозначающие «Куш» и «Эфиопия» переводятся одним словом «Ethiopia»; царица Савская считается потомком Куша. Этим самым значительно расширяется значение понятия – в 16 и 17 в. «Ethiopia» обозначала всю черную Африку. Нет ничего удивительного, что черные христиане идентифицировали себя именно с царицей Савской.
В конце 19 в. впервые возникли независимые черные церкви. И в Северной Африке и в Америке они назывались Эфиопской церковью. В 1892 г. священнику Мангене Моконе в Претории (Южная Африка) удалось возвести Эфиопскую церковь в ранг охватывающей все племена национальной черной церкви, которая играла важную роль в южноафриканском освободительном движении. Церковь быстро завоевала многочисленных приверженцев, но длительное время вынуждена была опасаться бурской и английской нетерпимости. «Африка – африканцам!» – таков был лозунг черной церкви. Но где кроме небольшой Либерии в колониальной Африке существовало черноафриканское государство? Поэтому с неослабевающим вниманием следили за Эфиопией, древнейшим черноафриканским государством, которое никогда не было в колониальной зависимости. В 1895 г. «потомку» царицы Савской императору Менелику II удалось отразить натиск итальянской захватнической армии.
После этого крупнейший лидер черной церкви Южной Африки Джеймс Мата Дване написал Менелику II, что Эфиопия должна стать исходным пунктом освобожденной Африки. В афро-американ-ских кругах африканская империя стала страной надежды. В 1903 г. афро-американец Генри Эллис едет в Эфиопию, чтобы осуществить возвращение черных американцев. Но, как и Дване, ему не повезло. Правда, Менелик II радушно принял Эллиса, но возвращения американских чернокожих не поддержал. Гораздо хуже он обошелся с Дване. Император даже не ответил на его письмо.
На Ямайке тоже возникло движение за возвращение в Эфиопию. Там страстно ждали черного мессию. Все взоры были прикованы к Эфиопии, когда в 1930 г. пришел к власти Рас Тафари, более известный нам как Хайле Селассие, 225-й потомок царицы Савской. Называющие теперь себя «раста-фаритами» чернокожие приветствовали его как черного мессию. Но Хайле Селассие отнесся на удивление сухо к этим надеждам. Только в суггестивной музыке растафаритов «регги» продолжали жить надежды на освобождение из оков дискриминации и рабства.
У южноафриканского теолога Дж. Г. Ксаба тоже не выходила из головы история царицы Савской, особенно фраза: «… Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот мне и вполовину не сказано». Ксаба попытался воспринять вторую половину того, о чем умолчала царица. Для него она состояла в пророчестве из 66-го псалма, (стих 32): «Прийдут вельможи из Египта; Эфиопия прострет свои руки к Богу». В этом стихе из псалма Ксаба увидел тайну, которую не открыла царица Савская. Полный энтузиазма, он 26.10.1896 г. пишет епископу Тернеру, который поддерживал освободительное движение черных африканцев:
«Быть может, дерзко с моей стороны, Ваше Преосвященство, употреблять слова, с которыми обратилась царица Савская к царю Соломону, однако я все время повторяю: «И вот мне и в половину не сказано…»
Пророчество, которое было высказано в 66-м псалме, близится к своему исполнению. И робкое проявление христианства уже ощущается в близком окружении языческих краалей и городов. Я говорю особенно о южной части континента, где чувствуется приближение Евангелия… То тут, то там теплится слабый огонек, но Господь наш, который не различает национальностей, благословит этот труд, чтобы он приобрел силу. Пусть же Господь, князь мира, преумножит и расширит свое царство от западного побережья на весь континент, чтобы распространение Евангелия уничтожило власть невежества, тьмы и греха, и чтобы властвовал только царь Израилев и лев из колена Иудина».
Царица Савская служит теперь не только примером черной царицы, но становится черной пророчицей из Писания, стоит у истоков обещания освобождения чернокожих во всем мире. Конечно, то, что возникло в сознании черного человека, было политически неосуществимо. Но надежда на освобождение, которая содержалась в открытой тайне царицы Савской, не была предана забвению.
Другие лидеры чернокожих избегали конкретного географического определения, но многим из них стало ясно одно: достойная жизнь в Америке едва ли возможна. Несмотря на их участие в борьбе за независимость против Англии, несмотря на отмену рабства и предоставление гражданских прав, чернокожие оставались людьми второго сорта.
В октябре 1877 г. чернокожий журналист Джон Э. Брюс произнес речь, в которой в качестве единственного решения проблемы черных американцев предлагал возвращение в Африку. В речи Брюса появляется также и царица Савская:
«Прежде всего он (цветной американец) должен эмигрировать в Африку, потому что это его родина. Африка – это земля, богатая продуктами и обещающая каждому, желающему туда поехать небывалые сокровища. Существуют особые претензии черных американцев на эту землю. И эти претензии справедливо обоснованны. 150 миллионов наших людей живут по ту сторону Атлантики и прозябают там в темноте и суевериях; 5 миллионов живут на этой стороне, имея все преимущества, которые желательны для приобщения к цивилизации. Наш долг – принести свет тем пребывающим во тьме душам, чтобы вывести их на путь цивилизации. Веками черная раса не получала образования. Но так было не всегда, и история показывает то, что было сделано, и указывает, что могло бы быть сегодня. Африканцы владели Южным Египтом, как было сказано: «Эфиопия прострет руки свои к Богу, и когда царица Савская огромное богатство присоединила к сокровищам Соломона…»
Раса, которой был подарен удивительный континент Африка, может быть просвещенной и может достичь богатства, власти и положения среди наций земли».
Несметные богатства царицы Савской становятся залогом будущего богатства Африки; власть и сан черной царицы освещают из прошлого призрачное будущее. Как естественно был связан ее образ с обещанием спасения в стихе из псалмов!
Несравнимо более ригористичные и радикальные требования выставил негритянский лидер Маркус Гарви, одна из самых противоречивых фигур черного освободительного движения Америки. Он родился в 1887 г. на Ямайке, выучился на печатника и в 1907 г. обосновался в Кингстоне, где руководил стачкой печатников. Затем он уехал в Америку, в 1912 г. прибыл в Лондон, два года спустя вернулся на Ямайку и основал UNIA, «Ассоциацию всеобщего усовершенствования». Через два года он с большим успехом пропагандировал в Гарлеме освобождение чернокожих. В двадцатых годах UNIA выросла в мощнейшую организацию, число ее членов в 1923 г. составляло около шести миллионов. Даже критики, которые считали это число сильно преувеличенным, все же оценивали количество записанных членов в период расцвета UNIA в миллион.
Это массовое движение делало таким привлекательным призыв к «расовой гордости» чернокожих. Гарвей настолько увлекся, что даже пропагандировал «черный расизм», который во многом походил на его «белое» пугало. Гарви неутомимо трудился над возвращением негров в Африку. Он вел переговоры с Лигой Наций по поводу основания колонии в Африке и призывал создать черную армию для изгнания оттуда узурпаторов. В 1921 г. он объявил об образовании «Африканской империи» и сам себя назначил ее первым временным президентом. В Гарлеме он в роскошной униформе принимал грандиозные парады.
Говорят, что при оснащении межконтинентального флота поверенным в делах которого он был, Гарви впутался в сомнительные финансовые операции. Его стремительный взлет внезапно прервался, он предстал перед судом и получил пять лет каторжной тюрьмы. В 1927 г. был помилован американским президентом Кулиджем, но сослан на Ямайку. Последние годы жизни провел в Лондоне.
Жертвой его расового фанатизма чуть было не стала царица Савская. Приверженцы Гарви позволили себе использовать «еврейского» Соломона против «черной» царицы:
«Новый негр гроша ломаного не даст за происхождение от Соломона. Соломон был евреем. Негр – не еврей. Негр ведет свое расовое происхождение от царицы Савской, чем он гордится. Он гордится царицей Савской, но не гордится Соломоном».
Но такой расизм не везде был «гарвеизмом». Крупный теолог этого движения Джордж Александер Макгвайер написал «черный катехизис». Прокламировался «черный» бог, и царица Савская была включена в ряд знаменитых черных персонажей вместе с черным волхвом Валтасаром и черным Симоном Киренским, который нес крест Христа. С другой стороны, Макгвайер заявлял о равенстве перед Богом всех рас.
Среди черных евреев царица Савская тоже пользовалась большим авторитетом. Чернокожие евреи, вероятно, потомки эфиопских феладшей, эмигрировавших в Америку, в отличие от радикальных «гарвеистов», подчеркивают происхождение негров от евреев, как, например, крупный лидер черных евреев рабби Мэтью:
«Негр – это еврей, потому что он прямой потомок Авраама. Исаак, сын Авраама, был отцом Исава… и Иакова, кожа которого была гладкой, как кожа негра. Иаков, известный также как Израель, был отцом двенадцати колен, и царь Соломон, сын Давида, был правнуком колена Иудина. Царь Соломон был женат на царице Савской, которая вернулась в Африку, где родила сына, известного в библейской истории как Менелик I».
Рабби Мэтью повторяет эфиопскую легенду о царице Савской, которая, как доказывает это свидетельство, была значительной фигурой и для черных евреев. И все-таки получается двойственная картина. То, что объединяет оба «образа» царицы Савской – это ее функция символа пробуждающегося сознания черной идентичности. Этому сознанию было трудно развиваться и утверждаться, еще труднее оказалось избежать черного расизма. Но самым трудным оказалось распознать в фигуре черной царицы освобождение и человечность. Могло ли это произойти? Могли ли вообще гармонически соединиться политическое освобождение и неагрессивная человечность?
Воистину нам преподнесен дар – единственный в своем роде документе о царице Савской, который соединяет то, что кажется несоединимым. Речь идет о коллаже чернокожего художника Ромаре Бирдена. Вряд ли эта картина возникла случайно, потому что художник долгое время жил в Гарлеме и встречал там разных представителей «Гарлемского Ренессанса» (культурного движения), которые искали себе подобных в культурных негритянских кругах. Ромаре Бирден, вне всяких сомнений, один из самых крупных черных художников современности, наблюдал в Гарлеме все разновидности выражения «черного» сознания.
Страстно увлеченный негритянской темой, он принадлежит к художникам, которые не избежали влияния развитого искусства «белых». Пусть даже если он время от времени сводит свою палитру к черному и белому, выражая этим расовый конфликт, в конечном итоге он трансформирует сюрреалистические видения в мир жизни и чувств чернокожих. С 1967 г. его композиции приобретают все больше красочности, и в 1970 г. он рисует великолепную «Царицу Савскую».