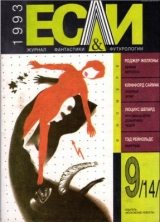
Текст книги "Журнал «Если», 1993 № 09"
Автор книги: Роджер Джозеф Желязны
Соавторы: Клиффорд Дональд Саймак,Роберт Альберт Блох,Теодор Гамильтон Старджон,Люциус Шепард,Владимир Успенский,Тэд Рейнольдс,Брентон Р. Шлендер,Борис Силкин,Лев Гиндилис,Виктор Ерофеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Но вот наступил Международный геофизический год (1957–1959 гг.), когда ученые шести десятков стран стали изучать Землю по единому плану. Важное место заняло изучение Мирового океана, который, как известно, занимает две трети поверхности нашей планеты. К тому времени усовершенствовались и приборы, и техника наблюдений, так что морское дно стало доступным исследованию.
Тут-то и обнаружилась интересная закономерность: по дну всех без исключения океанов змеится гигантский горный хребет, возвышающийся над морским, ложем на два с половиной – три километра. Он опоясывает Землю непрерывной цепью шириной две-три тысячи километров, а длиной более шестидесяти тысяч (для сравнения: длина экватора – «всего» 42 тысячи км). Куда уж тут Гималаям и Андам с Кордильерами!
Случайностью такая система быть не может. Мало-помалу дело прояснилось: вся эта махина – порождение неких грандиозных процессов, происходящих в мантии планеты. Усилиями американских, французских, английских ученых, к которым присоединились и наши отечественные, с 60-х годов постепенно развилась теория плитовой тектоники.
Она гласит, что твердь земная разбита на отдельные «чешуйки», или плиты, вечно перемещающиеся относительно друг друга. Там, где они «разъезжаются» в стороны, из недр поднимается молодая горячая материя, которая, застывая, и образует великий подводный Срединно– океанический хребет.
Представим себе могучий поток такого расплава, вздымающийся наверх и ищущий себе выход. Он его находит там, где «крышка» послабее, – в пределах сравнительно тонкой океанической коры. Поток раздвигает и «разгоняет» по бокам континенты вместе с плитами, на которых они «возлежат». Так осуществляется дрейф континентов, угаданный, но не доказанный в свое время Вегенером.
В областях подъема горячей материи из недр плиты «разъезжаются», а там, где она, постепенно остыв, погружается, они стягиваются, наползают, наезжают, подминают друг друга и образуют большие опускания земной коры. Вот, например, Южно-Американская плита, на которой «сидят» Перу и Чили, едет со скоростью чуть ли не шесть сантиметров в год. А ведь этот «кусочек» земной коры протянулся примерно на пять тысяч километров.
Впрочем, необходимо ответить и на старый каверзный вопрос: от куда силы берутся? Действительно, предложенная некоторыми учеными гипотеза, согласно которой радиоактивные элементы недр, распадаясь, разогревают мантию и та начинает «бурлить», не подтвердилась: этим элементам такие подвиги оказались не под силу.
А вот стремление более плотных материалов, слагающих Землю, уйти на глубину, а более легких – «всплыть», – тут уж энергии край непочатый. Чуть ли не полвека назад наш соотечественник академик О.Ю.Шмидт увязал геологическую историю Земли с ее астрономической «биографией», подчеркнув, что первоначально планета была однородной и лишь затем стала постепенно расслаиваться на ядро, мантию, оболочку. Это расслоение продолжается поныне, оно и «подпитывает» энергией могучие процессы, приводящие в движение целые материки.
Таким образом мозаика начала укладываться в стройную картину. Геология Африки и Южной Америки потому и сходна, что раньше это был единый массив суши. Австралия с Индией и Антарктидой – тоже «расставшиеся родственники». Молодые океаны, Атлантический и Индийский, «на глазах» растут, а старый, Тихий, «съеживается» за счет дрейфа обеих Америк на запад, а Евразии – на восток.
Словом, мысленно разрезав Землю, как арбуз «на вырез», ученые стали лучше понимать, как она образовалась, развивалась, как «устроена» ныне. Разумеется, понято далеко не все, но все же… Ибо, как сказал персонаж замечательной книги Рея Бредбери «Чудеса и диковины! Передай дальше»: «…На картах и на планах можно потрогать север, юг, восток и запад рукой, а потом сказать: вот мы, а вот Неизвестное – мы будем расти, а оно будет уменьшаться».
«– Да-а… – протянул экзаменатор и с любопытством посмотрел на Вольку. – А что ты можешь сказать насчет формы Земли?
Старик Хоттабыч что-то трудолюбиво забормотал в коридоре.
«Земля имеет форму шара», хотел было сказать Волька, но по независящим от него обстоятельствам отвечал:
– Земля, о достойнейший из учителей, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекою – Океаном. Земля покоится на шести слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир, о учитель!
…По ту сторону дверей Вольку встретил сияющий Хоттабыч.
– Заклинаю тебя, о юный мой повелитель, – сказал он, обращаясь к Вольке, – потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих?
– Потряс, – ответил, вздохнув, Волька и с ненавистью посмотрел на старика Хоттабыча.
Старик Хоттабыч самодовольно ухмыльнулся».
Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч».
Теодор Старджон
Когда ты улыбаешься…

Не говори правду людям. Никогда. Не помню, чтобы я когда-нибудь специально формулировал это правило, но всю жизнь следовал ему.
А Генри?
Впрочем, это неважно, можно сказать, что с Генри я никогда не считался.
Кто упрекнет меня? Я обнаружил, что мне по характеру надо быть одиночкой. Я мог делать кое– что лучше, чем другие, что само по себе уже награда. А наводить справки об убийствах, десятках убийств, за которые никто не поплатился, и не иметь возможности о них рассказать… Может, это мучило меня, но зато я поступал как человек во многих других случаях.
Мне помешал Генри.
Когда я был ребенком, то жил за три мили от школы и бегал на роликах, покуда не выпадал снег. Иногда мне было довольно холодно, иногда слишком жарко, а чаще всего я промокал до нитки. Но в любую погоду Генри ждал меня у входа. Прошло уже двадцать лет, но, стоит только закрыть глаза, и я вижу этот знакомый, преданный взгляд, чересчур подвижный рот, растянутый в улыбку, и слышу слова привета. Он, бывало, возьмет у меня книги, прислонит портфель к стене и трет мои руки, согревая, или подаст мне полотенце из спортивной раздевалки, если идет дождь или донимает жара.
Я не мог понять, что им движет. Его чувство было выше дружбы, дороже преклонения, но, видит Бог, от меня он не получал ничего взамен.
Это продолжалось много лет, потом он окончил школу, а мне пришлось кое-где застрять, и я получил аттестат позже. Пока Генри был рядом, я особо не старался; когда он исчез, школа показалась мне такой унылой, что я приналег и окончил ее.
После чего я начал крутиться, пытаясь обеспечить себе регулярный доход, не имея специальности. Я пристроился писать статейки в воскресное приложение одной газеты – из тех, что вызывают отвращение у приличных людей, – но это меня не смущало, потому что таковые их не читают.
Я писал о наводнениях, убеждая читателей, что Америку ждет гибель под водой, потом о засухе, рисуя картины смерти наших потомков на сухих, как пережаренный картофель, равнинах; строчил заметку о столкновении с кометой, а следом – о придурках, предсказывающих конец света; сочинял биографии великих патриотов, соразмеряя их с величиной передовой статьи, чтобы они ее не затмили. Это приносило деньги, совесть меня нисколько не мучила, и я жил в свое удовольствие.
Словом, много воды утекло за эти двадцать лет, пока я вдруг не встретил Генри.
Самое нелепое, что он совершенно не изменился. Даже как будто не повзрослел: те же жесткие волосы, уродливый широкий рот и веселые, блестящие глаза. Одет он был, как всегда, в чьи-то обноски: рубашка, судя по воротнику, на четыре размера больше, мешковатый костюм, свалявшийся свитер, который совершенно не вязался бы по цвету с костюмом, если бы и то и другое имело какой-либо цвет.
В этот осенний день, когда все, кроме него, уже ходили в пальто, Генри подбежал ко мне, задыхаясь и словно виляя хвостом от восторга. Я его тут же узнал и, не в силах сдержаться, принялся хохотать. Он тоже засмеялся, радуясь до неприличия. Его совсем не интересовало, почему я смеюсь, он снова и снова невнятно произносил мое имя; он всегда говорил невнятно из-за этой улыбки от уха до уха, красующейся на лице.
– Ну что, пошли! – заорал я, прибавив крепкое словцо – такое, от каких он всегда морщился. – Я поставлю тебе рюмашку, я поставлю десять рюмашек.
– Нет, – сказал Генри, улыбаясь, и слегка попятился, втягивая голову в плечи и съеживаясь. – Сейчас не могу.
Мне показалось, что он рассматривает мой твидовый костюм с жесткими складками на брюках и жемчужно-серую шляпу. А может, он заметил, что я разглядываю его одежду. Он замахал руками, как старуха, которую застали голой, и она не знает, что прикрывать.
– И вообще я не пью.
– Так будешь пить, – сказал я.
Я схватил его за руку и потащил за угол, в кафе Молсона; он робко вырывался, бормоча что-то сквозь свои крепкие неровные зубы. Мне нужна была выпивка и веселье, причем немедленно, и я не собирался тащить его к себе домой только потому, что на людях ему будет не очень уютно.
За одним из столиков кафе я заметил девушку, именно ту, которую мне больше всего не хотелось видеть. Как, впрочем, и быть увиденным. Правда, я не дрогнул. И все же: когда я наконец научусь справляться с такими, как она?
– Садись, – сказал я, и Генри пришлось сесть; я толкнул его так, что он ударился о край дивана. Я плюхнулся рядом, задвинув его в угол, чтобы он не смог выйти.
– Сти-и-в! – заорал я, оповещая всех присутствующих о своем прибытии. Бармен, правда, уже направлялся к нам, но я всегда так кричу, чтобы его подразнить.
– Иду, иду, – откликнулся он. – Что будете пить?
– Что ты пьешь, Генри?
– Да ничего. Я вообще не пью.
Фыркнув, я сказал Стиву:
– Две по сто, и к ним содовую, отдельно.
втягивая голову в плечи и съеживаясь. – Я не пью.
– Нет, пьешь, – ответил я. – Что это с тобой? Давай начнем сначала, с самой школы. Ты расскажешь мне историю своей жизни: все тяготы, трагедии, неудачи и триумфы.
– Моей жизни? – повторил он, искренне удивленный. – Боже мой, я ничего такого не достиг. Работаю в магазине.
Я смотрел на него, удрученно качая головой, и он тут же спрятал руки под стол, словно стесняясь неопрятных ногтей.
– Да, я знаю, я ничего не добился, – он взглянул на меня своими необычными блестящими глазами. – Не то что ты – каждую неделю в газете, и все такое.
Стив вернулся, неся виски, и я подождал, пока он уйдет. Я всегда делаю вид, что ворочаю большими делами и не хочу посвящать обслугу в свои проблемы. Могу поклясться, что Стив иногда скрипит зубами от досады, хотя и молчит. У хорошего клиента всегда чуть больше прав, так что Стиву приходится терпеть. Он ведь всего лишь бармен.
Когда он ушел, я поднял бокал:
– За кривую, что нас вывезет, за коня, что унесет, за идею, что все выразит, за вранье, что нас спасет.
– Честное слово, я не пью…
– Я намерен тебя угостить, так что отказываться бесполезно. – С этими словами я взял его бокал и поднес к самому его носу.
Генри успел приложиться как раз вовремя – иначе бокал угодил бы прямо за широкий воротник. Он сделал глоток, и его огромный рот чуть не завязался узлом, словно его прошили тесьмой. Глаза округлились и наполнились слезами, он попытался задержать виски во рту, но чихнул, сделал судорожный глоток и отчаянно закашлялся.
Я едва не лопнул от смеха. Как-нибудь в другой раз я включу магнитофон, повторю фокус – и прославлю старину Генри на века.
– Черт возьми! – выдохнул он, обретая дар речи.
Он вытер глаза потрепанным рукавом (видимо, платка у него не было).
– Крепкое, – сказал он, вымученно улыбаясь. – Неужели ты это пьешь? – последнее он почти прошептал.
– Ну да, вот так, – сказал я и допил остаток в его бокале. – И еще вот так, – и допил остаток в своем.
– Сти-и-в! – заорал я, хотя у Стива был наготове поднос с новой порцией, и я это знал. – А теперь – о том, о чем ты начал говорить, Генри, – сказал я, но умолк на время, пока Стив расставлял бокалы и убирал пустые. – Словом, о тебе. Ты заявляешь «нечего рассказывать», потом сообщаешь, что работаешь в магазине, и точка. Так вот, теперь я сам расскажу историю твоей жизни. Прежде всего: кто ты такой? В этой созданной Господом серо-зеленой Вселенной нет большего оригинала, чем ты. Заметь, это только начало.
– Но я… – заикнулся Генри.
– Ни одна гора, – перебил я, – и наоборот, ни один атом – новейший, расщепленный, выбрасывающий альфа-частицы – не значат больше, чем твоя самобытность. Вспомни землетрясение, вековой дуб, скачки или научное исследование и, клянусь Богом, я назову то же самое, но на тысячу лет раньше. А ты, – тут я наклонился и воткнул указательный палец в ямку над его ключицей, – ты, Генри, уникален – как на нашей планете, так и во всей галактике.
– Ну нет, что ты, – засмеялся он, освобождаясь от моего пальца, который пригвоздил его к стене.
– Ты уникален! – повторил я, обнаружив, что эти слова помогают выдохнуть через ноздри запах виски, – но это только начало. Уже сам факт твоего бытия – это чудо, не считая того, что ты когда– либо сделал, сказал или о чем мечтал. – Тут я убрал свой палец и откинулся на спинку дивана, одарив его улыбкой.
– Навряд… – сказал Генри и покраснел. – Слишком много таких, как я.
– Ни одного, – взяв свой бокал, я понял, что он уже пуст, и выпил его порцию, потому что мои губы уже были сложены подобающим образом. – Сти-и-в! – Пока бармен приносил новую порцию, я молча наблюдал, как Генри потирает свою ключицу. – Итак, мы начали с чуда. Куда направимся дальше? Как ты думаешь?
Он хмыкнул.
– Не знаю.
– Раньше о тебе кто-нибудь говорил такое, а?
– Нет.
– Ну ладно. – Я выставил указательный палец, но не тронул его, потому что он был к этому готов.
В огромном зеркале за спиной Генри я снова увидел ту женщину. Она рыдала. Это, надо сказать, вообще было ее любимым занятием.
– Почему я об этом говорю, Генри? – сказал я. – Ради твоей же пользы. Ты ходишь по этой земле и всем рассказываешь, что ничего не сделал. А ведь ты – уникум. Ну что, тебе лучше?
В ответ он пожал плечами.
– Нет… Просто я не думал об этом. Наверное, да. – Он взглянул на меня, пытаясь понять, чего я жду.
– Ладно. Это уже хорошо. Это облегчает мне задачу, потому что я намерен продолжить свой опыт. Так кто ты, Генри?
– Ну, ты сказал, что я… уникум. Чудо.
Я стукнул кулаком по столу, да так, что все подпрыгнули, даже плачущая девушка, отраженная в зеркале. А больше всех Генри.
– Не-е-е-т! Я скажу тебе, кто ты. Ты – бесцветность, ты зануда, ты ничтожество! – Я неожиданно наклонился к нему, а он шарахнулся, как змея от соли. – Думаешь, это парадокс? Полагаешь, я сам себе противоречу?
– Не знаю, – губы его задрожали, но он через силу улыбнулся.
– Выпей, – я снова поднял бокал. – За глаза, голубые и карие, за огонь, пылающий в них, не за тот,на котором варево, а за тот, что сжигает двоих.
– Нет, спасибо, – сказал Генри.
Я осушил свой бокал.
– Эта девушка плачет. Но я тебя слушаю.
– Да, слушай, я говорю все это для твоей же пользы. А она пускай плачет: в конце концов поймет, что слезами горю не поможешь. И перестанет.
– А почему она плачет, ты знаешь?
Еще бы я не знал! Но сказал только:
– Пустое… На чем я остановился?
– Я все время теряю, с самого рождения, – послушно напомнил Генри.
– Именно. Ты растерял свой потенциал. Ты начал, имея способность делать все что угодно, а сейчас не можешь ни черта. Вот я, например, – я начал с того, что почти ничего не умел, а теперь могу почти все.
– Удивительно, – сказал Генри с чувством.
– Ты все еще не понял, – продолжал я. – Поясняю. В наше время одни в чем-то совершенствуются, другие нет. Если тебе повезло: у тебя есть талант и работа, где он нужен, – ты далеко пойдешь. Если в твоей работе не нужен талант – ты все же проживешь. Если таланта нет, то, специализируясь в одной области, его можно почти заменить. Но в каждом случае все зависит от того, насколько ты владеешь ремеслом и сколь усердно вкалываешь. Я вот, например, совсем другой. С-т-и-и-в!
– Мне не надо, – жалобно произнес Генри.
– Принеси то же самое, Стив… Не перебивай меня, Генри, я делаю тебе одолжение. Кто я такой? Можно сказать: специалист без специальности. Таких парней, как я, очень мало. Если я долго делаю одно и то же, у меня вот здесь, – я похлопал себя по лбу, – зажигается красный свет. И тут же я закрываю лавочку и придумываю что-то другое. Что касается способностей – я думаю, они у меня есть. Но я предпочитаю ими не пользоваться. Потому что они загоняют меня в одно какое-то дело, а я не тот человек, которого легко поймать в мышеловку. Нет – шалишь!
– Ты талантливый журналист, – робко сказал Генри.
– Спасибо, друг, но ты ошибаешься. Журналистика – это не талант. Это навык. Это умение расставить слова, облечь свои идеи в привычные всем формулы. Это все равно что учиться печатать на машинке – ты просто переводишь свою молекулярную энергию в символы. Имеет значение не то, что ты пишешь, а то, как ты это делаешь… Что такое, ты, кажется, отвлекся?
Генри смотрел мимо меня в зал.
– Она все плачет.
– Не обращай внимания. Каждый день какая– нибудь женщина теряет мужа. Потом привыкает.
– А что – он умер?
– Окончательно и бесповоротно.
Он посмотрел снова на нее, а я – на его большой рот, на этот ряд крепких, неровных зубов. Его можно было понять – девушка привлекательная, да к тому же на горизонте чисто. Я задумался: что бы такое сказать Генри, чтобы он перестал улыбаться?
Он снова повернулся ко мне.
– Ты говорил о журналистике.
– Так вот. Предположим, ты пишешь один опус в неделю, и все написанное тобой заставляет читателя верить каждому слову. Предположим, в одной статье ты утверждаешь, что нас ждет конец света, а в другой, что мир вечен. Одна убеждает: хороших людей нет, просто каждый подавляет врожденные пороки. А другая провозглашает: никакое зло не убьет природного гуманизма человека. Понимаешь меня? И каждое слово любой статейки воспринимается как откровение, а вся серия – да она просто дышит правдой! Скажи мне, верит или не верит сам автор этой галиматьи тому, что пишет?
– Ну, я думаю… нет, не знаю. – Он снова взглянул на меня, пытаясь угадать, какого ответа я жду. Потом смущенно заговорил, видя, что я ему не помогаю: – Что ж, если ты сначала говоришь, что белое это белое, а потом – что оно голубое…
– То такой писатель сам не верит тому, что пишет, так? Я знал, что ты это скажешь. Но ты ошибаешься на все сто процентов. Такой писатель умеет верить всему, о чем пишет. Конечно, белое бывает белым. Но подумай: если взглянуть на материю через микроскоп, что мы увидим? Всего лишь частицы, которые уже не частицы, а точки с неясными свойствами. Другими словами – это область, где уже нет фактов и нет правил, которые мы установили для этих фактов.
Теперь давай двинемся в противоположном направлении, в космос, туда, куда только может проникнуть сильнейший телескоп. И что же мы увидим? Да то же самое! Область возможного и вероятного, область догадок и не больше.
У нас было бы для этого оправдание, если б мы думали, что все линейки сделаны из резины, а рулетка из макарон. Но мы знаем, что это не так. Почему же мы считаем, что там, наверху, все смутно, внизу все расплывчато, а у нас здесь, посередине, все выверено и точно, чисто и проверено? Я утверждаю, что «ничто» не является «чем-то», что «ничто» не докажешь «ничем», что «ничто» не вытекает из «чего-то». Более того: реальное – не реально, а идея, что мы живем в аккуратной начинке некоего бутерброда, – абсурд.
Но не можем же мы, не веря в реальность, ходить на работу, аккуратно получать зарплату и как-то жить. Остается одно: верить всему, что увидишь, услышишь, и особенно тому, о чем думаешь.
Генри заикнулся:
– Но я…
– Заткнись. Дело в том, что вера – это вещь особая. Знания помогают верить, и в то же время вера живет только рядом с невежеством. Для меня аксиома, что только полная, самая полная информация о данном предмете может развеять веру в него. И что только пустоты между ступенями логической лестницы дают возможность проникнуть невежеству, которое мы называем «интуицией» и без которого мысль никуда не движется. Итак, мы вернулись к тому, с чего начали: не специализируясь ни в чем, я оберегаю свое невежество и поэтому могу поверить во что угодно. Вывод: жизнь – это удовольствие, и я черпаю его полной ложкой.
Генри широко улыбнулся и покачал головой в знак восхищения.
– Я рад, если это так. – Рад, что ты счастлив.
– Не знаю. – На мгновение он закрыл глаза, потом повторил: – Не знаю. Можно… выйти?
– Но я не кончил разговор, мой мальчик, я только начал подбираться к теме.
Генри с тоской посмотрел на дверь и еле слышно вздохнул. Потом опять улыбнулся:
– Я просто хочу… ты понимаешь?
– Ясно. Использованное пиво сдают вон там – вниз по лестнице. – Поднявшись, я пропустил его. Я знал, что улизнуть из кафе он может, только миновав меня.
Почему я не хотел, чтобы он улизнул?
Потому что рядом с ним мне всегда было хорошо. У Генри есть черта, которую можно назвать «эффектом изумления»: даже если прочесть в его присутствии алфавит от «а» до «я», клянусь Богом, он будет изумлен. Это очень забавно. Впрочем, теории, которые я ему тут наплел, изумили бы кого угодно.
Именно тогда я и решил ему рассказать об убийствах.
Однако в этот миг комната покачнулась, и я вцепился в край стола, чтобы поставить ее на место. Это было мне знакомо: нужно срочно что-нибудь съесть, прежде чем снова залить в себя горючее.
Но тут я почувствовал, вернее, услышал какую– то суету. Генри, старый дурак, стоял рядом с плачущей девушкой. Когда она взглянула на него, лицо ее исказилось, она вскочила и так съездила ему по физиономии, что он покачнулся. Не успел я опомниться, как она выбежала из кафе, а Генри остался стоять, потирая щеку и улыбаясь.
– Генри!
Повернувшись ко мне, он снова посмотрел на дверь, потом приковылял к нашему столику.
– Сказал бы мне, что хотел приволокнуться, – возмутился я, – я бы тебя предупредил: она сейчас в «дауне».
– Ты не понял. Я просто спросил, не могу ли чем– нибудь помочь. Она как будто не расслышала, я спросил снова. А она пришла в ярость и огрела меня. Вот и все.
Я рассмеялся.
– Может, ты и помог: ей сейчас лучше взбеситься, чем сидеть вот так, терзая себе душу. Но все же, почему ты решил, что можешь с ней столковаться?
Он опять расплылся в улыбке:
– Я же сказал, что не хотел ничего такого, только пытался помочь. – И добавил, словно в этом была суть. – Она же плакала.
– А тебе какая выгода?
Он промолчал.
– Я так и знал! – я хлопнул его по плечу. – Тебя нужно переделать. Вот с этого и начнем. Мы избавим тебя от чересчур широких рубах и слишком узких взглядов. Мы узнаем, что тебе в самом деле нужно, и научим этого добиваться.
– Но я не… Серьезно, я…
– Заткнись. Элементарная истина, которую ты будешь учить до посинения, такова: не делай ничего просто так. Всегда спрашивай: «А мне какая выгода?» И не вздумай ударить палец о палец до тех пор, пока не услышишь: «Больша-а-я!» Сти– и-ив! Тогда у тебя в кармане новенького костюма всегда будет новенький бумажник, и никто, ни одна девица не посмеет съездить тебя по роже в таком гнусном кабаке, как этот.
Собственно, заведение Молсона – совсем не «гнусный кабак», но как раз в это время подошел Стив, и я хотел, чтобы он это услышал. Я заплатил, а сдачу оставил ему. Я даю на чай, немного, пенсов двадцать. А он не догадывается, что если сопоставить счета и чаевые, то последние составят как раз девять процентов – за обслуживание. В один прекрасный день он или сам додумается до этого, или я ему скажу, и это будет забавно. А секрет всего забавного в том, что надо учитывать мелочи.
На улице Генри остановился и стал переминаться с ноги на ногу.
– Ну что ж, до свидания.
– Никакого «до свидания», мы идем ко мне.
– Нет, – сказал он, – не могу. Мне придется…
– Что «придется»? Пойми, Генри, тебе надо помочь, хоть сам ты об этом не знаешь. И я помогу, хочешь ты того или нет. Я разве не сказал, что мы тебя сломаем и построим заново?
Он дернулся вправо, потом влево.
– Я не могу отнимать у тебя время. Пойду домой, и все.
Я понял, что если мне не удастся его переубедить, то останется одно: нести его на руках. Я мог бы это сделать, но мне не хотелось: всегда есть способ увернуться от тяжелой работы.
– Генри, – начал я и замолчал.
Он ждал, и не то чтобы нервничал, но ощущал некоторое беспокойство.
Типы вроде Генри не дерутся, не убегают, с ними можно делать все, что угодно. Но надо думать. Думать над тем, что бы такое сказать, самое правильное. Я придумал.
– Генри, – сказал я как-то по-настоящему мягко, искренне, и эта перемена поразила его больше, чем если бы я заорал. – У меня страшная беда, и ты единственный человек в мире, которому я могу довериться.
– Черт возьми. – Он подошел поближе и в сгущающихся сумерках взглянул мне прямо в глаза. – Почему ты сразу не сказал?
У каждого человека, если поковыряться в его душе, спрятан такой болтик. Остается только нащупать его. Сдерживая смех, я отвернулся и вздохнул.
– Это долго рассказывать… Не буду морочить тебе голову. Может, лучше…
– О, нет! Я пойду с тобой.
– Ты настоящий друг, – прошептал я и громко сглотнул слюну, как бы от волнения.
Мы подошли к парку. Я брел медленно, держа дистанцию, как на похоронах, а Генри семенил рядом, то и дело тревожно заглядывая мне в лицо.
– Это насчет той девушки? – спросил он.
– Нет. Она здесь ни при чем.
– А ее муж… Что с ним случилось?
– То же, что с бараном, который попер на овцу, да промахнулся, – я толкнул его локтем. – Понял? Короче, он ухнул в пропасть. – Мы как раз шли под фонарем, и я видел его лицо. – Послушай, однажды из-за этой улыбочки голова твоя расколется, как орех. Зачем ты все время демонстрируешь свои зубы?
– Что «почему»?
– Ее муж… в пропасть?
– А-а. Она вроде с кем-то переспала, а когда сказала мужу, он и навернулся. Знаешь, есть люди, принимающие вещи всерьез… Вот мы и дома. – Я пропустил его вперед, мы прошли по дорожке, потом через вертящуюся дверь. В лифте он уставился на стены, отделанные деревом.
– Очень красиво.
– Не так сыро, – скромно заметил я.
Двери скользнули в стороны, я провел его через холл и толкнул дверь ногой.
– Входи.
Мы вошли в переднюю и, естественно, наткнулись на Лоретту. На ее лице застыло дежурное выражение, с помощью которого она выдает злость за оскорбленные чувства. Я подтолкнул Генри вперед, наблюдая за тем, как негодование сменилось Светской Радостью.
– Познакомься, это моя жена.
Он отступил, но я снова толкнул его вперед. Он заулыбался, склонил голову и завилял хвостом.
– Хм, хм, – сказал он, сглотнул и начал снова, – как поживаете?..
– Это Генри, – сказал я, – мой школьный друг Генри, о котором я тебе рассказывал, Лоретта. – Никогда я ничего не рассказывал. – Он хочет есть, и я хочу есть. Сообрази нам что-нибудь. – Не давая ей вставить ни слова, я сказал: – Ужин на бумажных тарелках в моей каморке организовать легче, чем накрыть на стол, а? – Ей пришлось кивнуть, а я толкнул Генри к моей келье и сказал: – Прекрасно и спасибо, о, лучшая из женщин! – Она еще раз кивнула – уже соглашаясь. Войдя внутрь, я закрыл двойную дверь и, хохоча, прислонился к ней.
– Черт возьми, – сказал Генри, у которого загорелись глаза. – Ты не говорил, что женат. – Улыбка померцала, потом исчезла вовсе.
– Наверное, не говорил. Это же мелочь. Мы не говорим о воздухе, которым дышим, о насморке, о дороге на работу.
– Да, но, может быть, она… Может, мы ее беспокоим? А почему ты смеешься?
Я смеялся, вспомнив, как изменилось лицо Лоретты, когда мы вошли. Конечно, я опоздал и этим испортил обед, да плюс ко всему явился пьяным, а Лоретта приготовилась весь вечер демонстрировать свое негодование и никак не ожидала, что я кого-то приведу. Ах, Лоретта, такая учтивая, такая воспитанная! Скорее умрет, чем выдаст свои чувства незнакомому человеку.
– Я смеюсь, потому что, какое это беспокойство?
Он сел и сказал:
– Хорошенькая.
– Кто? Лоретта? Плохих не держим. Генри, а ведь я не такой, как все.
– А другие – разве такие, как все? – спросил он робко.
– Конечно, идиот. Говоря «не такой», я хочу подчеркнуть: совсем не такой. Это не обязательно лучше, чем другие, – скромно добавил я. – Просто не такой.
– В каком же смысле? – Ох этот Генри. Обязательно должен докопаться!
Как бы в ответ на его вопрос я достал футляр для ключей, взвизгнул молнией, нащупал бронзовый ключик от ящика стола и повертел у него перед носом.
– Все расскажу, когда запихнем что-нибудь в брюхо и останемся вдвоем.
– Это та самая неприятность, которая… та, где нужна моя помощь?
– Та самая, но это дело настолько личное и тайное, что я не позволю себе даже думать об этом, пока не запру дверь.
– Ну ладно, – сказал он, – хорошо. – Он явно подыскивал другую тему для разговора. – А можно я спрошу про ту девушку, чей муж…
– Шпарь, – сказал я, – хотя это не так интересно. Ты, Генри, здорово умеешь путать кошмарное с банальным.
– Прости. Но она выглядела ужасно… расстроенной. Я… мне кажется, не понял, что ты сказал? – Этот странный порядок слов он завершил знаком вопроса. – Она с кем-то еще… – Слова угасли, и Генри покраснел. – И муж об этом узнал?
– Не то чтобы узнал – она сама ему сказала. Понимаешь, ее втянули в какие-то опыты, ну что-то вроде испытаний нового лекарства, которое подавляет волю. Под воздействием этого снадобья, – я улыбнулся приятным воспоминаниям, – она была послушна, как овечка. Ты видел, что она совсем не дурнушка, скорее наоборот, значит, произошло то, чего следовало ожидать. Сагре diem [3] 3
Сатре diem – «лови мгновенье» (лат).
[Закрыть], говорят римляне в таких случаях, то есть – сверли и получишь нефть.
Генри смотрел рассеянно, но все же улыбался.
– А тот ученый, который дал ей это лекарство… В общем, она совсем не была виновата, то есть ее муж не должен был?..
– «Не должен был», – передразнил я. – Должен, если знать этого мужа. Один из тех идеалистов, кто считает любовь священной, и всякое такое. Кроме того, у него пол-лица осталось в Корее, и это сильно его удручало. Любовь – это чушь. – Откинувшись на спинку стула, я продолжал: – Он никогда бы ничего не узнал. Но этот медикамент похож по действию на «эликсир правды». Хотя человек, проглотив его, не выглядит «поддатым». Она пошла прямо домой, причем выглядела как всегда, но не могла ничего скрыть. Она и не знала, что ее, как бы это сказать… накачали. Ей подсыпали в кофе. Она рассказала мужу, что случилось, и не ручалась за свою будущую верность. Почти всю ночь он прокручивал это признание в своей голове, а потом встал, влез в машину, разогнался и ухнул в пропасть.
Генри улыбнулся два раза подряд, причем одна улыбка как бы наехала на другую.
– А теперь она только и делает, что пьет в баре?
– Она не пьет. Ты читал когда-нибудь «Леди– фантом» Уильяма Айриша? Там одна девица изводит героя одним своим присутствием. Она всегда оказывается там же, где он, днем и ночью, целыми неделями. Эта цыпочка из кафе, вроде бы такая смирная, пытается так же действовать на меня. Сидит там, где я могу ее встретить, и ненавидит. Ненавидит меня и плачет.








