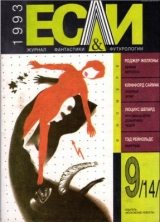
Текст книги "Журнал «Если», 1993 № 09"
Автор книги: Роджер Джозеф Желязны
Соавторы: Клиффорд Дональд Саймак,Роберт Альберт Блох,Теодор Гамильтон Старджон,Люциус Шепард,Владимир Успенский,Тэд Рейнольдс,Брентон Р. Шлендер,Борис Силкин,Лев Гиндилис,Виктор Ерофеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Виктор Ерофеев
СЮРРЕАЛИЗМ РЕАЛЬНОСТИ
В одном из давних интервью писатель и литературовед Виктор Ерофеев заявил, что Россия – рай для писателя, но ад для читателя. Эта мысль неплохо характеризует мир повести Люциуса Шепарда. Роман самого Ерофеева «Русская красавица», с успехом иллюстрируя этот же тезис, построен на том, что автор называет «мифо-поэтическим сознанием народа», он эти мифы обыгрывает и пародирует, делая реальностью самые невероятные фантазии. Представить себе, что в этих фантазиях кому-то приходится жить, трудно, а порой невозможно. По нашей просьбе обозреватель «МН» Елена Веселая беседует с автором о способности народа творить новые мифы. Предлагаем читателям сопоставить интервью со статьей Б.Шлендера «Американский идеал» – весьма занятные могут появиться наблюдения…
Яубежден, что мифы будут всегда – и культурные, и не культурные. Это сама основа человеческого сознания – мифотворчество. Я думаю, что мы сочинили даже реальность, в которой живем. Если на эту реальность посмотреть собачьими или кошачьими глазами, это будет совершенно другое. Во-вторых, мы сочинили собственный язык – это дырявая волейбольная сетка, которая наброшена на мир, и чтобы закрывать эти дыры, нужно создавать определенные мифы. Большие мячи, то есть общие, центральные идеи, не пролетают, а маленькие пролетают, и мы их как-то не замечаем, а маленькие-то самые важные. И для того чтобы не допускать пролета, это все накрывается определенной мифической вуалью, или мифо-поэтическим сознанием.
Меня всегда удивляла разница в восприятии мира между умными и глупыми людьми. Поскольку мир – это торжествующая глупость, я всегда думал: ну какой же должен быть редуцированный и идиотический мир в представлении дурака! А потом я подумал, что умный человек – это тоже не предел, можно идти и дальше, и, видимо, система постижения мира настолько в этом смысле иерархична, что каждый уровень интеллекта рождает свои собственные мифы. Так что это не только языковая проблема, но и проблема ума.
– Мне кажется, мир в представлении дурака предельно ясен. Дурак может все объяснить…
– Мы рассматриваем мир в системе простых оппозиций – тяжелый/легкий, светлый/темный. Наверное, мир строится по какой-то более сложной, не бинарной системе оппозиций. Дурак, объясняя мир, совсем его топит и губит – но еще больше губит мир отсутствие воображения.
Я так воспринимаю зарождение мифа: он рождается в разных уровнях интеллектуального сознания и одновременно в разной степени воображения. Например, литературные критики считают, что очень важна идея влияния, она ставится чуть ли не в центр критики, что свидетельствует просто об отсутствии воображения. На самом деле, писателю не надо ничего заимствовать. Он просто быстро все довоображает. И в общем, меня сейчас очень беспокоит, что в основном все мифы, в которых мы живем, – очень глупые и скучные. Они выпадают в осадок или в форме народных мудростей, или в виде рекламных объявлений. И мы в конце концов живем в жутко редуцированном мире. Это касается и самых мелких проблем: «пойти ботинки почистить», и Бога. Поэтому никакого отношения к реальности, если говорить всерьез, это не имеет. Имеет отношение к выживанию, к самонастраиванию на выживание. Система выживания порождает миф оптимистически-бодрого редуцированного сознания, которое торжествует над всем – в форме американского прагматизма, или русского идеализма, или немецкого отношения к труду…
Вообще реальность, с которой надо считаться, – присутствие бесконечных вульгарных мифов, которые только множатся.
– Но они все же меняются?
– Конечно, в зависимости от культурного контекста они видоизменяются, но эта довольно печальная идея повторения, которая просматривается – у Джойса, например, в «Улиссе», к сожалению, слишком верна, потому что повторения больше, чем движения, а идея совершенствования все реже и реже приходит в голову.
Но умный человек с воображением – как красивый и богатый, почти исключение, – этого все равно недостаточно. Поэтому меня поражает наглость людей, которые легко рассуждают о религии, о Боге. Если с точки зрения религиозного сознания Бог существует как реальность, то он все равно никак не связан с тем Богом, который создан людьми. Я сейчас прочитал очень грустную книгу «Исторический путь православия» – священник Александр (Шмеман) хотел воспеть путь православия, но, когда читаешь не изнутри, а извне, видно, какой это был бесконечный ужас – все эти споры и трактовки. Удивительно, что человеческое сознание выносило хотя бы приемлемый образ Бога в христианстве, но даже если самым вульгарным способом логически развивать идею Бога, то можно зайти гораздо дальше, чем эти христологические богословские споры. Веками спорили об очевидных вещах и, естественно, создавали миф Христа. Это не было откровением, это был сработанный, при очень большом влиянии византийских императоров, миф о Боге. И этот свежевыкрашенный Бог имеет очень отдаленное отношение к тому, который породил мир.
Есть такое французское слово «питтинесс» – мелочность, ничтожность даже. Мне кажется, что этим сейчас славен человек. Просто поразительно, насколько прочно люди способны находиться в плену своей глупости. И в конце концов то, к чему мы пришли, – демократия, это тоже не только крушение мечты о каком-то другом уровне человека, это просто негодный конец. Из этого уже не выберешься. Из коммунизма можно было выползти, а из этого некуда. Это как бы приговор – демократия. Как Америка – ну куда она вылезет? Уже никуда, все видно. И самое печальное, что нет альтернативы, – как бы по размеру, по ноге эта демократия людям.
– Но это происходит во многих странах. Что все-таки порождает мифы?
– Воля к жизни. Миф – это форма психологической стабилизации.
– У русского народа особая склонность к мифотворчеству. Почему?
Если представить себе, как народ мыслит о власти, как он мыслит о всех наших переменах, которые сейчас происходят, какими формулами он питается, то видно, что любой факт осмысляется мифо-поэтически. Любая перемена воспринимается, как метафора перемены, фактически не наполняется реальным историческим содержанием. Наверное, нужно действительно говорить о том, что народ внеисторичен, поскольку неукоренен в истории, а больше укоренен в поэтике мифа или в поэзии мифа. Это не хорошо и не плохо. То есть хорошо для культуры, потому что здесь можно разыгрывать Бог знает что, это и делалось тем же Пушкиным, и Достоевским, и Толстым. Но плохо то, что от такого архаического народа очень трудно ожидать адекватной реакции на какие-то исторические события. Это исторический паралич воли, который ведет к тому, что самые глубокие события и перемены не замечаются, замечаются какие-то иные вещи. У народа собственные точки отсчета. Собственно, и языки разные: когда разговариваешь, язык русского интеллигента абсолютно неприемлем, приходится переключаться на какие-то другие коннотации. И это не триумф двух культур, а постоянное недопонимание.
– Вы могли бы нарисовать портрет русского человека-мифа? Что русский человек в мифологическом плане думает сам о себе?
– У меня всегда было ощущение, что самосознание не самая сильная черта русского человека. Вообще, самосознание – это проявление глубокого индивидуализма. Я думаю, он как раз ничего этого о себе не думает.
– Значит, он думает о себе коллективном?
– О себе коллективном он думает совершенно полярные вещи. Сейчас, например, он считает, что американцы все скупили или просто у него все забрали. При этом он думает, что он самый лучший, а нынче его обидели. А с другой стороны, он все равно до сих пор себя считает «недоделанным», убежден в том, что у самого ничего не получится, и должен быть кто-то, кто гораздо лучше умеет, – такое абсолютно беспомощное уважение к чужому. Надо сказать, и то, и другое несовместимо, если думать в историческом аспекте. А в мифо-поэти– ческом плане это нормально. Сила и бессилие, соединение несоединимых качеств. Кстати, это свойство сюрреализма, как учат в учебнике – разорванный образ, не доведенный до общего знаменателя, а подвешенный в воздухе. Для культуры все это очень красиво, из этого можно что угодно лепить, но это не базис для правового государства, не основа парламентаризма…
– При этом есть в народе убеждение, что Россия должна сказать миру новое слово…
– Нам как бы изначально эта идея задана, просто она вечно извращается. Если выбросить все славянофильские измышления, а с другой стороны, освободиться от западнических, то можно сказать, что Россия – замечательная площадка для соединения двух могучих центров культур, западного активистского и восточного созерцательного сознания, которое переходит от созерцания к умному действию, почти к монашескому кодексу. И если представить себе на минуту, что русский человек нашел всебе возможность соединить это, это было бы не такой уж глупой идеей. У нас не только в крови, но и по замыслу русской культуры и русской истории это как бы заложено: хорошая восточная подкладка трехсотлетнего общения с монголами, и с другой стороны, вечная тяга к Западу, связанная всегда с извращением, даже не от Петра, а от Ивана IV, который тоже был своеобразным западником.
Просто, видимо, человек слаб, и русский человек в особенности, потому что ноги разъезжаются, и вместо плюсов, которые могли случиться, все превращается в минусы, то есть все эти возможности оказываются сидением между двух стульев. Вместо большого и неожиданного, нового мифа соединения двух культур создается сюрреалистическое сознание, раздрызг, паралич воли. Люди не те и не другие. В них нет уже той мусульманской жестокости, которую мы наблюдаем на наших южных границах – захватнической энергии, энергии победителя, но нет и всепонимания. Славянофилы, наверное, изначально были более правы, чем западники. Но это крах мечты еще более обидный, чем западнический крах – подумаешь, русские не такие, какими можно их представить. А здесь-то русские как раз прямо противоположны тому, какими можно их представить. Но интересно, что на каких-то вершинах культуры, на высотах ее эти минусы опять оборачиваются плюсами. Эта ситуация и порождает мифо-поэтическое сознание, которое очень стимулируется параличом воли.
Здесь и язык важен. Русский язык очень показателен. Он опять-таки в своем идеале мог бы быть языком, который соединял две суммы культур. Получив в своей основе такие разностилистические, разнолексические формулы, русский язык мог бы быть очень мощным. Но здесь деградация тоже налицо. Языковая магия и бесценная безынформативность языка, которая позволяла ему быть большим, чем он есть, и в этом его литературная сила, – превратились просто в язык дубовый, казенный и мертвый. Это очень интересно, но совершенно не исследовано.
– Другим народам уроки идут впрок, они как-то выкарабкиваются из трудных ситуаций. А мы, несмотря на рефрен «Так жить нельзя!», все на том же месте. Наш народ безнадежен, по-вашему?
– Я не утверждаю, что Россия безнадежна. Думаю, что у России было несколько довольно приятных периодов в истории, но совсем коротких. И начало века явно принадлежит к ним – Серебряный век и строительство Москвы – три четверти города было построено тогда за какие-то 30 лет, и сильные люди были не только в культуре, но и в политике, и в строительстве. Но мне кажется, что это чуть ли не греческий расцвет, после которого наступает полоса затмения. По крайней мере, сейчас, если смотреть на культуру, то это довольно печальное зрелище. Какие-то совсем элементарные страхи, и тоже мифо-поэтические, хотя и связанные с чувством паники по поводу того, что кушать хочется, а в кармане пусто. Потому культура-то была парализована, она паразитировала на несвободе, на безграмотности, люди были неинформированы, значит, можно было паразитировать на информации, люди были несвободны, значит, можно было паразитировать на 1/8 свободы.
Те потенции самостоятельного и оригинального развития, которые у нас есть, уж больно укороченные, а европейское начало все время разражается приступами дурного подражания.
Так что я не знаю, откуда силы возьмутся. Андрей Белый писал: до чего дошли, Гегеля переводят на русский язык. Что же, уже не могут читать в подлиннике? Он писал, совершенно не делая из этого снобистских выкрутасов, просто удивлялся. Бердяев походя нашел 300 с чем-то грубых ошибок в работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», не заглядывая в справочники. Все эти люди по сравнению с нынешними умами просто блестящи. И они ошибались, но нам-то еще надо дорасти до их ошибок!
Течет красавица-Ока
Среди красавицы-Калуги
Народ-красавец ноги-руки
Под солнцем греет здесь с утра
Днем на работу он уходит
К красавцу черному станку
А к вечеру опять приходит
Жить на красавицу-Оку
И это есть, быть может, кстати
Та красота, что через год
Иль через два, но в результате
Всю землю красотой спасет
Дмитрий Александрович Пригов
Клиффорд Саймак
Золотые жуки

День начался отвратительно. Артур Белсен, живущий напротив, по ту сторону аллеи, уже в шесть утра врубил свой оркестр, заставив меня подпрыгнуть в постели.
Белсен, да будет вам известно, инженер, но его страсть – музыка. И поскольку он человек технически подкованный, то не довольствуется тем, чтобы наслаждаться ею в одиночестве. Ему просто необходимо привлечь на свою сторону всех соседей.
Год или два назад его посетила идея создать симфонию, которую исполняли бы роботы и, надо отдать ему должное, оказался близок к ее реализации. Погрузившись в работу, он создал машины, способные читать – да, не просто играть, но читать музыку прямо с нот. Понятно, что попутно он сотворил машину для транскрипции нот. Затем сделал их добрый десяток, разместив в мастерской и подвале.
Теперь он их испытывал.
Плоды его титанических изобретательских усилий требовали, собственно, доводки, настройки, отладки, а Белсен был весьма придирчив к звукам, которые они издавали – совместно и порознь. Он много и подолгу возился с ними (соседи наглухо закрывали ставни) пока не получал тот результата, который его на данный момент устраивал.
Одно время соседи стали поговаривать о линчевании, но дальше разговоров дело, к сожалению, не двинулось. В этом-то и беда наших соседей – на словах они способны на что угодно, но когда доходит до дела, тут же – в кусты.
Так что конца его творчеству не было видно. Белсену потребовалось больше года, чтобы настроить ударные, что само по себе не подарок. Теперь же он взялся за струнные, а это оказалось куда серьезнее.
Элен села на постели рядом, заткнув уши, но это ее не спасло. Белсен врубил свою пыточную машину на полную катушку, чтобы, как он говорил, лучше ее прочувствовать.
По моим прикидкам, к этому времени он наверняка разбудил всю округу.
– Ну началось, – сказал я, вставая с постели.
– Приготовить завтрак?
– А что остается? – отозвался я. – Еще никому не удавалось уснуть, когда Белсен погружен в работу.
Пока она готовила завтрак, я прогулялся в садик за гаражом поглядеть, как поживают мои георгины. Да, не буду скрывать: я просто влюблен в георгины. К тому же приближались выставки, и несколько моих любимцев как раз должно было расцвести к ее открытию.
Словом, я отправился в сад, но не дошел. Это тоже одна из особенностей нашего городка: человек начинает что-то делать без всякой надежды на завершение, потому что всегда найдется кто-то, кто насядет на него со своими разговорами.
Мне выпал Добби. Иначе – доктор Дарби Уэллс, добродушный старый чудак с бакенбардами, сползающими на щеки, живущий в соседнем доме. Мы так зовем его – Добби, и он ничуть не возражает, поскольку это в своем роде знак уважения, которое мы испытываем к нему. В свое время Добби был довольно известным энтомологом и преподавал в университете, а имя «Добби» ему придумали студенты.
Но теперь Добби на пенсии, и заняться ему особо нечем, если не считать длинных разговоров с каждым, кого удастся заполучить.
Едва заметив его, я понял, что погиб.
– По-моему, это прекрасно, – начал Добби, облокачиваясь на свой забор и открывая дискуссию, как только я подошел достаточно близко, чтобы его услышать, – когда у человека есть хобби. Но мне почему-то кажется, что не стоит столь настойчиво демонстрировать его всей округе.
– Вы имеете в виду это? – спросил я, тыча пальцем в дом Белсена, откуда неслись скрежет и кошачьи вопли.
– Совершенно верно, – подтвердил Добби, приглаживая седые бакенбарды с выражением глубокого раздумья на лице. – Но, заметьте, я ни на одну минуту не перестал восхищаться этим человеком…
– Восхищаться? – переспросил я. Бывают случаи, когда я с трудом понимаю Добби. Не столько из-за его манеры разговаривать, сколько из-за его способа мыслить.
– Верно, – подтвердил Добби. – Созданная им машина для чтения нот – весьма хитроумное сооружение. Иногда она мне кажется почти человеком.
– Когда я был мальчишкой, – сказал я, – у нас стояло механическое пианино, которое тоже неплохо играло.
– Да, Рэндолл, вы правы, – признался Добби, – принцип был похож, но все эти старые пианино лишь заученно бренчали, а машины Белсена создают собственную музыку.
– Должно быть, она для такой же механической аудитории, – ответил я, не выразив ни малейшего восхищения. – Все, что я слышал, – это полнейший бред.
Мы спорили о Белсене и его оркестре, пока Элен не позвала меня завтракать.
Едва я уселся за стол, как она принялась зачитывать свой «черный список».
– Рэндолл, – решительно произнесла она, – на кухне опять кишмя кишат муравьи. Они такие маленькие, что их почти не видно, зато пролезают в любую щель.
– Я думал, ты от них избавилась.
– Ну да, я отыскала муравейник и залила кипятком. На сей раз этим придется заняться тебе.
– Ладно, – пообещал я, – займусь.
– То же самое ты говорил и в прошлый раз.
– Я уже собрался, но ты меня опередила.
– Это не все. На чердаке в вентиляции завелись осы. На днях они ужалили девочку Джонсов.
Она собралась произнести еще что-то, но тут по лестнице скатился наш одиннадцатилетний сын Билли.
– Смотри, пап, – восторженно воскликнул он, протягивая небольшую пластиковую коробочку. – Таких я раньше никогда не видел!
Мне не было нужды спрашивать, кого он еще не видел. Я догадывался, что в коробочке очередное насекомое. В прошлом году – марки, в этом – насекомые, потому что рядом живет энтомолог, которому нечем заняться.
Я нехотя взял в руки коробочку.
– Божья коровка, – сказал я.
– А вот и нет! – возразил Билли. – Оно гораздо больше. И точки другие, и цвет. Оно золотое, а божьи коровки оранжевые.
– Ну тогда поищи его в справочнике, – нашелся я.
Парень был готов заниматься чем угодно, лишь бы не брать в руки книгу.
– Уже смотрел, – к моему удивлению, сообщил Билли. – Всю перелистал, а такого не нашел.
– Боже мой, – резко произнесла Элен, – сядь наконец за стол и позавтракай. Мало того, что житья не стало от муравьев и ос, так еще и ты целыми днями гоняешься за всякой мерзостью.
– Мама, это не мерзость, каждый образованный человек должен знать, что его окружает, – запротестовал Билли. – Так говорит доктор Уэллс. Он говорит, что в мире семьсот тысяч видов насекомых…
– Где ты его нашел, сынок? – спросил я, подыгрывая парню, а то Элен слишком круто взялась за него.
– Он полз по полу в моей комнате, – ответил Билли.
– В доме! – завопила Элен. – Мало нам муравьев!
– Покажу его доктору Уэллсу, – сообщил Билли.
– А не надоел ты ему? – спросил я.
– Как же, надоел! – сказала Элен, поджав губы. – Этот Добби и приучил его заниматься разной пакостью.
Я отдал коробочку. Билли положил ее рядом с тарелкой и приступил к уничтожению завтрака.
– Рэндолл, – сказала Элен, дойдя до третьего пункта обвинения, – я не знаю, что делать с Норой.
Нора – наша уборщица. Она приходит дважды в неделю.
– И что она на этот раз натворила?
– В том-то и дело, что ничего. Она ничего не делает. Даже пыль не вытирает. Помашет для вида тряпкой, и все. А уж переставить лампу или вазу, чтобы убрать под ними!..
– Ну, найди вместо нее кого-нибудь.
– Рэндолл, о чем ты говоришь? Попробуй найди
в наше время уборщицу!.. Я беседовала с Эми…
Я слушал и вставлял по ходу дела междометия. Все это мне уже приходилось слышать раньше.
Сразу после завтрака я пошел в контору. Для посетителей было рановато, но я хотел заполнить несколько страховых полисов и сделать кое-какую работенку, так что лишний час-другой мне не помешал бы.
Вскоре после полудня позвонила взволнованная Элен.
– Рэндолл, – выпалила она без всяких предисловий, – кто-то швырнул валун в самую середину сада!
– Повтори, пожалуйста, – попросил я.
– Ну, знаешь, такую большую каменную глыбу. Она раздавила все георгины.
– Георгины! – завопил я.
– Самое странное, что нет никаких следов. Такую глыбу можно было привезти разве что на грузовике…
– Ладно, успокойся. Скажи мне лучше, камень большой?
– Да почти что с меня.
– Быть того не может, – возмутился я, но постарался взять себя в руки. – Это чья-то дурацкая шутка. В нашем городе шутников хватает.
Я перебрал в голове тех, кто решился бы на подобную канитель, но так ни на ком не остановился. Джордж Монтгомери? Но он человек занятой. Белсен? Тот слишком поглощен своей музыкой, чтобы отвлекаться на нелепые шутки. Добби? Но я не мог представить себе, чтобы он вообще когда-нибудь шутил.
– Ничего себе шуточка! – отозвалась Элен.
Никто из моих соседей, сказал я себе, на это бы
не пошел. Все они знали, что я выращиваю георгины для выставки.
– Слушай, я скоро буду, – сказал я, – и посмотрю, что можно сделать.
Хотя сделать можно немногое – разве что оттащить валун в сторону.
– Я загляну к Эми, – предупредила Элен. – Постараюсь вернуться пораньше.
Я положил трубку и занялся работой, но дело не клеилось. В голове были одни георгины.
Перестав сражаться с собой сразу же после полудня, я бросил бумаги в стол, купил в аптеке баллончик с инсектицидом и отправился домой. Этикетка утверждала, что средство наповал сражает муравьев, тараканов, ос, тлей и кучу другой нечисти.
Когда я подошел к дому, Билли сидел на крыльце.
– Привет, сынок. Нечем заняться?
– Мы с Тонни Гендерсоном играли в солдатики, да надоело.
Я поставил баллончик на кухонный стол и отправился в сад. Билли молча последовал за мной.
Глыба лежала в саду, точнехонько в середине клумбы с георгинами, как и сообщила Элен. Выглядел валун странно, то есть не так, как должен выглядеть кусок скалы. Он был чистого красного цвета и почти правильной шарообразной формы.
Я обошел камень вокруг, оценивая ущерб. Несколько георгинов уцелело, но лучшие погибли. Не было никаких следов, даже намека на то, каким образом эту глыбу доставили в сад. Она лежала в добрых десяти метрах от дороги, и чтобы перенести ее сюда из грузовика, потребовался бы кран, но и это невозможно, поскольку вдоль улицы протянуты провода.
Я подошел к валуну и внимательно рассмотрел его. Всю поверхность усеивали маленькие ямки неправильной формы, около полудюйма в глубину; были заметны и гладкие места, как будто часть первоначальной поверхности откололи. Более темные и гладкие участки блестели, словно полированные, и мне вспомнилась коллекция, которую я видел очень давно, у своего приятеля, увлекавшегося минералами.
Я наклонился поближе к одной из гладких, словно восковых, поверхностей, и мне показалось, что я различаю внутри камня волнистые линии.
– Билли, – спросил я, – сможешь ли ты узнать агат, если увидишь?
– Не знаю, пап. Но Томми сможет. Он собирает всякие разные камни.
Мальчик подошел поближе и стал рассматривать один из гладких участков, потом послюнявил палец и провел им по восковой поверхности. Камень заблестел, как атлас.
– Точно не знаю, – сказал он, – но вроде это агат.
Билли отступил назад и стал рассматривать камень с новым выражением лица.
– Послушай, пап, если это действительно агат – я хочу сказать, если это один большой агат – то он должен стоить кучу денег, правда?
– Не знаю. Возможно.
– Может, целый миллион!
Я покачал головой.
– Ну, не миллион, но…
– Я пойду приведу Томми, прямо сейчас!
Он молнией промчался мимо гаража, и пулей вылетел в ворота, направляясь к дому приятеля.
Я несколько раз обошел валун и попытался прикинуть его вес, хотя и не знал, как это делается.
Потом вернулся домой и прочитал инструкцию на баллончике с инсектицидом, снял колпачок и испробовал распылитель. Он был исправен.
Приготовившись, я опустился на колени у кухонного порога и попытался отыскать дорожку, по которой муравьи проникали в дом. Я не увидел ни одного, но знал по прошлому опыту, что они чуть крупнее песчинки и к тому же почти прозрачные, так что заметить их трудно.
Что-то блеснуло в углу кухни. Я присмотрелся. По полу катилась золотая капля, держась вблизи плинтуса и направляясь к ящику под раковиной.
Это была еще одна божья коровка.
Я направил на нее баллончик и прицельно брызнул, но насекомое, как ни в чем не бывало, продолжало свой путь и скрылось под ящиком.
Я возобновил поиски муравьев, но не обнаружил никаких следов. Ни один не появился на полу. Ни один не вылез из щели. Не было их ни в раковине, ни на столе.
С чувством выполненного долга я вышел, завернул за угол дома и начал операцию «оса». Я знал, что она окажется непростой. Гнездо располагалось в вентиляционном ходе чердака, и добраться до него будет трудновато. Разглядывая его с улицы, я решил: единственное, что мне остается – дождаться ночи, когда все осы уж точно окажутся там. Ну а я приставлю лестницу, подберусь к гнезду и задам им на полную катушку, после чего постараюсь слезть вниз с максимально возможной скоростью, но так, чтобы не свернуть себе шею.
Если честно, у меня было маловато желания выполнять эту работу, но интонации Элен за завтраком подсказывали, что на сей раз мне не отвертеться.
Около гнезда сновало несколько ос. Пока я смотрел, две осы показались из щели и замертво упали на землю.
Удивленный, я подошел поближе и обнаружил, что земля под гнездом усеяна гибнущими осами. Пока я их разглядывал, вниз упала еще одна, вяло дергая крылышками.
Я отступил в сторону, чтобы получше рассмотреть, что же происходит, но увидел лишь, как время от времени вниз падала очередная оса.
Итак, мне крупно повезло. Если кто-то убивает ос прямо в гнезде, то мне не придется возиться с ними.
Я уже было повернулся, чтобы отнести баллончик на кухню, когда с заднего двора прибежали запыхавшиеся Билли и Томми Гендерсон.
– Мистер Мардсен, – воскликнул Томми, – этот ваш камень и в самом деле агат. Ленточный агат.
– Что же, прекрасно, – отозвался я.
– Да вы не поняли! – воскликнул Томми. – Не бывает таких больших агатов, тем более ленточных. Они особенно ценные, а самый крупный – не больше вашего кулака.
Тут до меня дошло. Голова прояснилась, и я рванул бегом в сад. Ребята помчались следом.
Камень был прекрасен. Я протянул руку и погладил его. Это же надо, чтобы так повезло! Про георгины я к тому времени как-то забыл.
– Готов поспорить, – сказал мне Томми, глаза которого стали размером с тарелку, – что вы получите за него кучу денег.
Не стану отрицать: подобная мысль посетила и меня.
Я погладил камень просто для того, чтобы почувствовать его реальность.
Но камень покачнулся!
Удивившись, я толкнул сильнее, и он качнулся вновь.
Томми вытаращил глаза.
– Странно, мистер Мардсен. Вроде бы он не должен двигаться. Весит он с тонну, не меньше. Должно быть, вы очень сильный.
– Я не очень сильный, – ответил я. – По крайней мере, не настолько.
Неверней походкой я вошел в дом и убрал баллончик, потом вышел и уселся на ступеньки обдумать ситуацию.
Мальчишек не было видно. Наверное, они побежали рассказывать обо всем соседям.
Если это агат, как сказал Томми, – если это действительно один большой агат – то он должен представлять огромную музейную ценность, ну и, конечно, стоить соответственно. Но если это агат, почему он такой легкий? Его и десять человек не должны сдвинуть с места.
И еще, подумал я, какие права я могу на него предъявить? Он оказался на моей земле – это уже кое-что. Но если появится кто-нибудь другой и сообщит более веские доводы в пользу своей собственности?
И вообще, как он, в конце концов, попал ко мне в сад?
Все это еще не успело осесть у меня в голове, когда из-за угла выкатился Добби и уселся рядом со мной на ступеньки:
– Удивительные происходят вещи, – сказал он. – Я слыхал, что у вас в саду появился громадный агат.
– Так мне сказал Томми Гендерсон. Думаю, он не ошибся. Билли говорил, что он увлекается камнями.
Добби поскреб бакенбарды.
– Великая вещь – хобби, – сказал он. – Особенно для ребят. Они многое узнают.
– Ага, – вяло отозвался я.
– Ваш сын принес мне сегодня после завтрака насекомое.
– Я велел ему не беспокоить вас.
– Он поступил совершенно правильно, – сказал Добби. – Такого я еще не видел.
– Смахивает на божью коровку.
– Да, – согласился Добби, – определенное сходство есть. Но я не уверен… Честно говоря, я не уверен даже в том, что это насекомое. Оно больше похоже на черепаху, чем на жука. У него нет никакой сегментации тела, которая присуща любому насекомому. Внешний скелет чрезвычайно тверд, голова и ноги прячутся под панцирь, и полное отсутствие усиков!
Он с легким недоумением покачал головой.
– Конечно, визуального обследования недостаточно. Необходимо детальное изучение, прежде чем я попытаюсь классифицировать экземпляр. Вам, случайно, не доводилось найти еще несколько?
– Не так давно я видел, как один полз по полу.
– Вам не трудно будет в следующий раз, когда вы их увидите, поймать для меня одного?
– Ничуть, – сказал я. – Постараюсь отловить для вас парочку.
Я решил сдержать слово. После того, как он ушел, я спустился в погреб. Мне попались на глаза несколько жуков, но поймать я не смог ни одного. Пришлось плюнуть и признать поражение.
После ужина ко мне заглянул Артур Белсен. Он весь дрожал, но в этом не было ничего странного. Он вообще человек нервный, смахивает немного на птицу, и чтобы вывести его из равновесия, больших усилий не нужно.
– Я слышал, что камень в вашем саду оказался агатом, – сказал он. – Что вы собираетесь с ним делать?
– Пока не знаю. Продам, наверное, если кто– нибудь захочет купить.
– Он может стоить приличную сумму, – сказал Белсен. – Вы не должны оставлять его в саду просто так, без охраны. Кто-нибудь может его стащить.
– Ну, знаете, это уж как получится, – сказал я. – Сам я не в состоянии сдвинуть его с места и не собираюсь сторожить его всю ночь.
– А вам и не нужно сторожить его всю ночь, – сказал Белсен. – Я все устрою. Мы сможем окружить его проводами и подключить к ним сигнализацию.
Его слова не произвели на меня большого впечатления, но переубедить его не удалось: он вцепился в эту идею, как клещ. Белсен сходил в свой подвал, вернулся с мотком проводов и инструментами, и мы принялись за работу.








