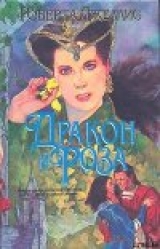
Текст книги "Дракон и роза"
Автор книги: Роберта Джеллис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Немедленно были посланы курьеры в Рим, но Генрих не собирался дожидаться ответа из медлительной папской курии. Наиболее насущные политические проблемы были решены. Наступило временное затишье, прежде чем его обступят новые проблемы, и сейчас есть время подумать о себе, как о мужчине. Он нещадно торопил совет и слуг с тем, чтобы приготовления к свадьбе шли быстрее, и он все чаще приходил в дом вдовствующей королевы, чтобы искоса взглянуть на Элизабет, когда она беседовала с его матерью.
Маргрит приводил в ужас такой метод его ухаживания, и она объяснила Элизабет, что он был застенчив с женщинами. Если принцесса и слушала эти разговоры, то это никак не отражалось на ее поведении. Она, казалось, лишилась всех чувств, и Маргрит не могла понять причину этого. Когда Генрих просил ее прийти, она приходила; когда он обращался к ней с замечанием, она отвечала. Она выглядела какой-то покорной и унылой, что совершенно не вязалось с ее обычной жизнерадостностью, но Генрих, кажется, не обращал на это внимания. Он, казалось, довольствовался тем, что поглощал ее физическую красоту короткими взглядами, удовлетворенный ее безжизненностью до тех пор, пока она не проявляла активного протеста.
Он не разговаривал со своей матерью о предстоящей женитьбе, оставляя за собой решение всех вопросов, даже тех, которые касались нарядов его невесты, которые он щедро предоставил.
Двадцать второго декабря Генрих направил всем дамам двора официальное приглашение прибыть к королю для празднования Рождества. Даже вдовствующая королева не могла придраться ни к выделенным комнатам, ни к их меблировке. Однако она была крайне недовольна тем, что ее комнаты находились далеко от комнат Элизабет, в то время как покои Маргрит примыкали к апартаментам ее дочери. Но лорд-управляющий двором короля, получив от Генриха строгие инструкции, был непоколебим. Когда Генрих сам приближался к ее комнатам, то выглядел испуганным и спрашивал себя негодующе, хотел ли он обесчестить свою будущую невесту, да еще в присутствии своей матери. Элизабет предпочитала уединение, и уважение Маргрит к своему сыну росло по мере того, как девушка немного оживала.
Трудно было указать точную причину, по которой щеки Элизабет вновь окрасились румянцем, а лицо время от времени освещалось улыбкой. Возможно, на нее подействовало великолепие двора, что напомнило ей дни более счастливой юности. Возможно, причиной явилось внимание Генриха, которое неуклонно становилось все более значительным. Маргрит догадывалась, однако, что депрессия Элизабет частично прошла из-за того, что она освободилась на время от жалоб, требований и придирок своей матери.
Конечно, Генрих сам прилагал усилия к тому, чтобы время проходило весело. С каждым вечером празднество становилось все более грандиозным, придворные появлялись в новых и более красивых одеяниях, музыка становилась веселее, а танцы продолжительнее. Элизабет не могла теперь пожаловаться на отсутствие к себе внимания. Генрих хорошо танцевал и приглашал ее на каждый танец. Но еще более удивительным было то, что он смотрел только на нее. К сожалению, в его глазах Элизабет удалось несколько раз подметить выражение, означавшее не любовь, а любопытство, осторожность и сильное желание. Все же это было лучше, чем ненависть или равнодушие, и поскольку ее мать не могла досаждать ей своими просьбами о предъявлении каких-то требований к Генриху, Элизабет нечего было опять беспокоиться по поводу презрения и неприязни, с которой относился к ней Генрих во время их первой встречи.
Канун крещения ознаменовался кульминацией торжеств.
В течение всего дня царило возбуждение по мере того, как один за другим поступали подарки, которые осматривались, сопровождались восклицаниями и выставлялись напоказ. День, однако, близился к концу, и Элизабет захотелось узнать, было ли все то, что продемонстрировал ей благосклонный Генрих, простой уступкой с его стороны, чтобы сделать ее уязвимой к еще более жестокому оскорблению. Столовое серебро, драгоценности и золотые украшения получила Маргрит. Аналогичный подарок, сопровождаемый корректным, хотя и беспристрастным письмом, был направлен вдовствующей королеве. Элизабет не получила ничего. Она вся дрожала, испытывая состояние, близкое ярости и ужасу, когда объявили о прибытии короля. Быстрым жестом он отпустил окружавших ее женщин и своих придворных. Элизабет вздохнула и взяла себя в руки. Генрих, однако, не сделал ничего, что могло бы ее взволновать. Он подошел и поцеловал ее руку.
– Мадам, – сказал он, оглядывая ее с головы до ног, – вы, действительно, белая роза.
«Это что, комплимент или жестокая насмешка?»
– Я только стараюсь не посрамить ваше собственное великолепие, сир.
Генрих рассмеялся, и Элизабет почувствовала себя немного лучше, ибо смех показался естественным.
– Я выгляжу сейчас настоящим щеголем, – признался Генрих, – но это необходимо и я, действительно, люблю красивые вещи. Мне захотелось самому преподнести вам новогодний подарок. – Он вынул из объемистого кармана камзола сумочку и коробочку. – Я не принес вам, мадам, столовое серебро, ибо все, что есть в королевских покоях, будет вашим. Это, – он отдал ей в руки сумочку, – для милосердия или ради удовольствия.
Элизабет сделала глубокий реверанс и опустила сумочку, которая была очень тяжелой.
– Это, – продолжил Генрих, открывая коробочку, – для ваших глаз и чтобы украсить вашу белую шею.
Элизабет еще раз присела в реверансе. Она почувствовала, как Генрих на мгновение посмотрел ей прямо в глаза.
Его слова были приятными и благопристойными, но чувство облегчения в ней перешло в негодование, а не в благодарность. Само назначение и красота бриллианта и сапфирового колье, которые он ей подарил, возбуждали чувственность. Разве он никогда не ошибался? Неужели всегда он говорил правильно, а эмоции выражал надлежащим образом? Молчание становилось заметным. Генрих ожидал с ее стороны должного выражения благодарности. Внезапный прилив чувств сковал горло Элизабет, когда она осознала, что он готов ждать нужного ответа вечность. Ничто, очевидно, не могло привести короля в замешательство.
– Благодарю вас, – произнесла она, задыхаясь, взяла коробочку и положила рядом с сумочкой.
– И это мой последний подарок до нашей свадьбы.
Невесть откуда появился свернутый в трубочку пергамент с печатями. На этот раз Элизабет без промедления взяла его, не желая больше разговаривать с этим «каменным» человеком, который мог только ставить ее в затруднительное положение. Глаза Генриха были прикрыты, а подвижные губы слегка искривились в предвкушении ее изумления. Достаточно было мимолетного взгляда на документы. Элизабет побледнела. У нее не было даже отсрочки до прихода разрешения папы. Генрих уже получил его от посла папы.
– Когда… – запинаясь, начала она.
– Я счастлив видеть вас такой радостной по поводу неизбежности нашей свадьбы. – Генрих поднял правую руку, чтобы привлечь ее внимание, и повернул на указательном пальце присланное ею кольцо. – Меня устроит, мадам, любой день в этом месяце. Я предоставляю вам честь определить дату нашей свадьбы.
Ожидал ли он, что она будет умолять его дать ей еще немного времени? Ни о чем она не будет умолять его. Хотел ли он задеть ее возможностью отвергнуть его предложение? Парламент попросил его жениться на ней. Это ее долг перед людьми и ее отцом, чтобы законная линия оставалась на троне. По воле Бога и во имя этой цели она должна пожертвовать собой.
– Восемнадцатое число было бы приемлемой датой, – сказала Элизабет наугад.
– Пусть будет восемнадцатое, – одобрил Генрих. – Я немедленно объявлю об этом двору.
Он сделал это очень естественно и с видимым удовольствием, удерживая ее руку в своей, а когда приветствия затихли, повернулся и поцеловал ее, что вызвало новые рукоплескания. Элизабет, чтобы не быть совсем уничтоженной, не отпрянула от его поцелуя, но никто, кроме Генриха, не знал, как холодны и безжизненны были ее губы во время этого недолгого знака внимания. Впервые она была весела и остроумна с придворными. Возможно, им казалось, что прошлая замкнутость Элизабет объяснялась задержкой со стороны Генриха объявления даты свадьбы. Такое мнение задевало ее гордость, но теперь судьбы Элизабет и Тюдора были связаны. Она все выдержит ради будущих детей, внуков Эдварда IV и законных наследников трона, и это должно быть ее целью при поддержке мужа. Существовало много способов успокоить ее гордость и показать Генриху, что она о нем думает.
– Ты был молодцом, Генрих, – сказала Маргрит, когда он подошел к ней, обойдя комнату.
– Я все еще хочу, чтобы этого не произошло, но насущная необходимость заставляет меня как можно скорее уладить вопрос по добровольному соглашению, – он улыбнулся при виде обеспокоенного лица матери. – Я вовсе не разочарован. Она прекрасна, и это меня очень радует.
– В ней есть и доброта, и сердечное тепло.
– Я этого не заметил.
– В этом ты можешь винить только самого себя.
Губы Генриха сжались.
– Я не могу ей дать того, что она хочет.
– Ты ошибаешься, сын мой. Она хочет только того, чего жаждут все женщины – твоей любви.
– Возможно, – Генрих опустил глаза. – Но я не могу любить дочь Эдварда.
– О, Боже, – прошептала Маргрит, – ты никогда не перестанешь ненавидеть? Что за тяжкий грех ты несешь в своем сердце? Именно закон Божий повелевает нам прощать и даже возлюбить врагов наших.
– Эдвард и Ричард мертвы. Я не могу ненавидеть ни мертвых, ни, я надеюсь, живых. Но я не могу доверять дочери Эдварда. Подумай, матушка. Я люблю тебя. Существует ли на свете что-нибудь, чего я не мог бы тебе дать? Смею сказать, нет…
– Сир, – Фокс слегка запыхался, и Генрих тотчас к нему повернулся. Фокс говорил шепотом. Генрих улыбнулся.
– Итак? Господи, сохрани Мортона за то, что он заставил меня понять причину посылки подарков Джеймсу. Матушка, шотландские послы пришли сюда с новогодними подарками. Я должен идти, чтобы немедленно их принять. Это означает перемирие с Джеймсом, что позволит мне разобраться с этими проклятыми мятежными северянами.
Генрих поцеловал руки матери и вышел, едва сознавая, был ли он больше доволен политической важностью события или тем обстоятельством, что ему удалось сослаться на занятость. Его беспокоила недавняя беседа с Элизабет. Хотя он был готов признать свое физическое влечение к ней, ему приходилось неоднократно бороться с искушением заставить ее улыбнуться ему и посмотреть, могла ли она проявить ту сердечную теплоту, которой, по словам его матери, она обладала, и заменить ею свою холодную пассивность. Это желание не было безопасным. Генрих знал, что он не может лицемерить с женщинами, добиваясь их признательности и при этом не попасть в ловушку, им же подстроенную.
Его волнение возрастало по мере того, как проходили дни, и приближался день свадьбы. Генрих ловил себя на мысли, что стал часто задумываться о том, какой цвет примут глаза Элизабет, если они станут страстными или довольными. Он погрузился в рассмотрение практических дел, определяя, насколько увеличатся расходы на содержание дворца для нее, сосредоточенно изучая реестры земель короны с тем, чтобы определить, какие участки ей лучше всего выделить в качестве вдовьей части наследства. Слишком часто Генрих оказывался близ покоев, предназначенных для Элизабет, вмешиваясь в процесс выбора драпировки и мебели, особенно для спальни.
Его дядя открыто над ним посмеивался, а Котени обратил на себя гнев Генриха тем, что простодушно предложил ему сходить к уличной девке, чтобы как-то расслабиться. Генрих попросил прощения и поцеловал своего напуганного друга, будучи сам изрядно расстроенным такой реакцией на происходящее. Не годится, сказал он Котени, оскорблять свою невесту и двор таким поведением. Он понимал, что его действия можно сохранить в тайне, и они вряд ли кому нанесут обиду, кроме самой Элизабет. Он закрыл глаза на действительные причины своего отказа и работал больше, чем когда-либо над шотландским перемирием. Той ночью он нещадно себя проклинал, ворочался в возбуждении и не мог уснуть. Надо подождать еще несколько дней, сказал он себе, но с надеждой или со страхом – этого он решить не мог.
ГЛАВА 13
Удача не изменяла Тюдору, и день бракосочетания наступил. Генрих решил, что все, связанное с этим событием, должно быть сделано достойно, но никоим образом не должно соперничать с великолепием и блеском его коронации. Небо, как бы помогая ему в этом, было пасмурным, и если бы даже не было так холодно, большая толпа все равно не собралась бы.
К несчастью, Генрих был слишком далек в своих помыслах от того, чтобы оценить склонность природы благоприятствовать и быть в гармонии с его планами. Настроение у него было таким плохим, что его оруженосцы исчезли из поля зрения сразу же в тот момент, когда их непосредственная задача была выполнена. Маргрит и Джасперу ничего не оставалось делать, только удрученно смотреть друг на друга.
Элизабет была совершенно спокойна. Она примирилась с тем, что жертвует собой. Она не ждала каких-либо особых радостей от своих отношений с Тюдором, находя его по-прежнему достаточно непривлекательным, но она уже его и не боялась, потому что сознавала, что является ценной собственностью. В связи с бракосочетанием у нее появлялись и другие преимущества. Она будет относительно независима от своей матери, и, даст Бог, у нее будут дети. Одинокое сердце Элизабет жаждало этого дня. Даже страстное желание Генриха иметь наследника не могло бы превзойти ее потребность любить.
Поэтому из них двоих при обмене клятвенными обещаниями голос Элизабет звучал увереннее, а рука при пожатии была теплее. На свадебном празднестве она была очень весела, обменивалась шутками, передразнивая шутов, и искренне смеялась даже над непристойными выходками. Элизабет была девственницей, но ее сознание ни в малейшей степени не было невинным, а тело было готово любить. Она была привычна к распутству, характерному для двора ее отца, и не стыдилась собственной чувственности. Если ее муж и не являл собой образчик самой красоты, у нее не было, тем не менее, оснований сомневаться в его мужских достоинствах; и если он и не выказывал сильного стремления развлекать ее, он все же, по меньшей мере, вновь открыл для нее придворную жизнь, которую она любила. Когда празднование подошло к концу и закончились танцы, она стала немного нервничать. Генрих был необычайно молчалив, и она ловила напряженные взгляды, бросаемые на него теми людьми, которые его хорошо знали. На его лице ничего нельзя было прочесть, может, только губы стали тоньше? Элизабет не пугалась естественного завершения брачных отношений, но она желала знать, имел ли Генрих намерение отомстить ее семье, использовав для этого ее лично.
Маргрит, быстро заметив смену настроения, сразу же начала готовить постель для брачного ложа. Душевный настрой Генриха не улучшился, и было небезопасно продолжать медлить и при этом допустить, чтобы опасения девицы усилились. В общем, это были забавные и радостные приготовления. То, что король был немного ханжа, было более чем простой догадкой для его близких друзей, а остальные знатные господа и дамы слишком трепетали перед ним, чтобы быть раскованными в своих шутках. Они стояли церемониальным полукругом, когда Элизабет провели к огромному свадебному ложу, облачили в постельную мантию, поуютнее устроили и укрыли. Вдовствующая королева что-то настойчиво шептала ей на ухо, но Элизабет смотрела прямо перед собой, более напуганная картинами собственного воображения, чем Генрихом. По правде говоря, вид его не был таким уж грозным, когда он входил, сопровождаемый своими оруженосцами и камергерами. Он был бледнее Элизабет, и Маргрит, которая никогда не осмеливалась спрашивать, был ли он столь же невинен, как его невеста, поразилась. Его также проводили к высокому брачному ложу и в напряженной тишине плотно затянули занавеси.
Обычно это означало бы отставку для любого, за исключением тех дам и господ, которые по очереди спали в королевской опочивальне, чтобы ночью заботиться о выполнении случайных желаний. Однако сегодня придворные просто немного отступили назад и ждали. В их обязанности входило быть свидетелями осуществления брачных отношений, так же как и будет их обязанностью наблюдать рождение детей Элизабет, чтобы убедиться, что королева родила ребенка, и что показанный им ребенок был именно тот, которого она родила. Вопреки девической скромности, которой на самом деле у нее было очень мало, Элизабет переживала намного меньше, чем Генрих. Она была привычна к недостаточной закрытости личной жизни, что было особенностью жизни членов королевской семьи, и терпела это всю жизнь.
Генрих чувствовал себя парализованным. Он мог слышать приглушенное жужжание шепчущихся голосов и знал, что каждое ухо настороженно ловило любой звук, доносившийся с величественного брачного ложа. Он отчаянно развязал свою ночную сорочку и отпустил ее. Элизабет повернулась и посмотрела на него голубыми глазами, ставшими почти черными в тусклом свете, проникавшем через занавеси брачного ложа. Некоторое время Генрих сидел неподвижно, позволяя ей рассматривать себя, свою вздымающуюся и опускающуюся при отрывистом дыхании грудь. Она не делала никаких движений, и тогда он медленно потянулся к завязкам ее ночной сорочки.
Железная воля Генриха подвела его на этот раз. Руки его дрожали, пальцы были такими неловкими, что, казалось, прошли часы, прежде чем он распустил мантию. Но когда он решил, что все сделал, когда позволил сорочке соскользнуть с плеча Элизабет, он обнаружил, к своей досаде, что остался кружевной бант. Совершенно растерявшись, он что-то произнес, что прозвучало как проклятие, и разорвал узел. Снаружи за занавесями брачного ложа вдруг наступила тишина, и Генрих покраснел, как девушка. Чувство юмора было при ней, Элизабет хихикнула. В комнате установилось напряженное молчание. Генрих обескуражено перевел взгляд с занавесей на лицо своей новобрачной. Хорошее же впечатление о своей мужественности он произвел на своих придворных и на свою жену.
Однако Элизабет одним движением отпустила сорочку. Открылась манящая белая грудь, еще белее, чем ее шея. Генрих перестал думать как о наблюдателях, так и о том впечатлении, которое он производит. Очень нежно он спустил сорочку с одного плеча, затем с другого. Такая деликатная учтивость! Он провел кончиками пальцев по линии ее шеи, плеча, руки, потом по изгибу груди. Глаза Элизабет широко раскрылись, она едва дышала, вздрагивая, но Генрих, приведенный в состояние крайнего восторга тем, что он делает, не обращал на нее внимания. Получая удовольствие, он был эгоцентричен, потому что у него не было опыта ни с кем, кроме проституток, которые сразу шли навстречу его желаниям и едва ли давали ему время для такого постепенного чувственного возбуждения. Генрих не сознавал, что давал столь же много удовольствия, сколько и получал.
Он закрыл глаза, ее тело было бархатным под его пальцами. Мягкое под его прикосновениями, сладкое для поцелуев, сладкое и пахнущее розами. Страсть остро пронзила его, но он сопротивлялся, ибо взять то, что он желал, означало удовлетворить и погасить ее. Элизабет соскользнула на подушки и лежала, распростершись, задыхаясь и всхлипывая. Смутно сознавая, что есть причина для того, чтобы вести себя потише, Генрих удержал ее губы своими – больше он не мог себя сдерживать.
Теперь я самая настоящая жена, подумала Элизабет. Она хотела осторожно пошевелиться, не желая разбудить мужа, который глубоко спал, прикрыв ее своим телом. Она нахмурилась, пытаясь собрать воедино все, что ей говорили о том, что уже произошло, но мысли ее путались при виде белокурых волос Генриха, теперь темных от испарины, и при виде его худых плеч. Она знала, что он был опьянен удовольствием и что есть способы это использовать в своих интересах. Но ее сознание все возвращалось к тому, что он был слишком худым и что в моменты возбуждения на его щеках вспыхивали лихорадочные пятна.
В комнате сейчас было тихо. Придворные наконец удалились. А сознавал ли Генрих… Элизабет запнулась. Она никогда не звала его по имени, только один раз во время свадебной церемонии. Было необычно то, что это имя так легко вошло в ее сознание. А сознавал ли Генрих то, что он выкрикивал? Она не знала. Но была этим горда. Если это и не имело особого значения, то уж вовсе не было причин для опасений. Он был очень кротким. С рождением ребенка что-то будет хуже. Элизабет снова нахмурилась. Она страстно желала любви и объятий Генриха, потому что это в конце концов принесет ей ребенка, и все же она не думала о ребенке, пока не думала. Она повернула голову, чтобы взглянуть на мужа. Вот его рука, кисть с длинными пальцами. У него были красивые руки, а его лицо – оно не было таким уж отталкивающим. Простое. Можно привыкнуть к этой простоте, можно даже полюбить.
Несколькими часами позже Генрих пошевелился, размял затекшую руку и собрался потребовать питье. Он поднял голову, чтобы его голос донесся через занавес, и его полуоткрытые глаза упали на копну светлых волос, покрывающих подушку. Генрих, щелкнув зубами, закрыл рот. Он заснул в постели Элизабет. Это было не удивительно, последние несколько ночей он спал очень мало, но это не должно повториться. Если бы, он сейчас подал голос… Генрих почувствовал, что краснеет от стыда при мысли о том, что один из его приближенных отдергивает занавеси и видит полуобнаженную Элизабет. Было совсем темно, но ее кожа казалась белой. Ему надо идти. Будь проклято то дело протоколиста из Йорка и тот чертов ирландец. Очень жаль, что она так крепко спит. Конечно, нельзя будить ее. Какая нежная у нее кожа. Генрих склонился ниже. Какая сладкая.
Наступил ясный день, когда Тюдор тихо выскользнул из постели жены и вернулся в свои апартаменты. Приближенные из его свиты были сдержанны, ибо Генрих не дал им повода поздравлять себя с проявленной доблестью, но тем не менее они были за него рады.
– Честно говоря, – шептал Котени Пойнингсу в то время, как Генриха брили в соседней комнате, – я беспокоился. Я знаю, он великий король, но иногда я хотел бы знать, он мужчина или монах?
– Я думаю, что он только привередлив.
– Да, но как он дрожал, когда мы привели его к ней.
– Разве вы никогда не видели гончую – не сравнивая, конечно, ее с королем, – дрожащую от нетерпения, когда ее удерживают на привязи? Это не означает недостаток храбрости или силы.
– Да, но все же… Было это три раза или четыре?
Пойнингс и Котени были приближенными из свиты и дежурили в опочивальне в эту ночь, но их обязанности не запрещали им спать, что они время от времени и делали.
– Эдвард, вы неисправимы. Вы знаете, Его Милость не любит такого рода разговоры о себе или о ком-либо на эту тему. Он припомнит вам на следующий же день. Закончим на этом. Он молодой человек, а она чистая девушка.
– Уже не девушка, несколько раз не девушка… Доброе утро, Ваша Милость.
Обычно Генрих не поощрял разговоры о своих сексуальных склонностях. Возможно потому, что считал, что на эту тему вообще не стоит много говорить, но этим утром он улыбался приветливо. Это не просто гордость за свои поступки, говорил он себе. В том и состояла его политика и линия поведения, чтобы двор узнал и, благодаря слухам и сплетням через прислугу, знал народ, что какие-либо неудачи со скорым появлением наследника не связаны с недостатком усилий со стороны короля. Более того, весть о том, что он так удовлетворен своей белой розой, могла бы умиротворить некоторых йоркширцев, которые продолжали надеяться снискать расположение благодаря Элизабет. От этой мысли он тревожно вздрогнул. Он был очень рад и доволен своей белой розой; это было именно то, чего он должен остерегаться, ибо то, в чем он хотел убедить йоркширцев, могло на самом деле стать правдой.
Не то чтобы он собирался подвергать гонениям кого-либо, кто мог быть ему полезен, какова бы ни была его прошлая политическая принадлежность. Просто он не должен быть ослеплен любовной привязанностью и обязан допускать возможность предательства. Он вынашивал мысль о том, что Элизабет могла оказывать влияние на него, но только, если оно не будет ему вредить. Это даст ему передышку до того, как йоркширцы станут активно проявлять недовольство. Несколько рассеянно Генрих отобрал серые штаны, плотно облегающие ноги, белый парчовый с золотом камзол и темно-серый бархатный плащ, вышитый золотом и отделанный горностаем. С подносов он взял кольца и золотые цепочки с драгоценными камнями. Когда оруженосцы одевали его, у него появилось внезапное решение.
– Джон, мне нужны Ловелл, Динхэм и Эджкомб.
Джон Чени протянул туфлю, которую он был готов натянуть на ногу Генриха, другому оруженосцу и пошел выполнять поручение.
Генрих задумчиво смотрел на Пойнингса и Котени. Оба застыли в ожидании. Девонширец был выше рангом, но у него был более развязный язык, а Генриху нужен был распространитель дворцовых слухов. Поехать должен будет Пойнингс. Генрих в нетерпении постукивал по ручке кресла. Удовольствия для него было мало в том, чтобы послать Неда в зимнее путешествие через Ла-Манш.
Он перебрал в уме других надежных людей. Финансовые маги должны будут остаться. Он ограничивал себя в деньгах и все же вынужден был тратить. Гилдфорд продолжал работать в оружейной мастерской, Оксфорд был абсолютно необходим в случае восстания на севере. Проклятие! Это должен будет сделать Нед.
– Эдвард, – Генрих сделал Котени знак рукой. – Я хочу поговорить с вами.
Лицо графа Девонширского побелело, когда он следовал за королем в опочивальню.
– Сир, если мой болтливый язык…
Генрих взял его за руку и открыто подмигнул.
– Это было четыре раза, если вы находите вопрос таким интересным, и было бы больше, если бы леди не взмолилась. И я не могу винить ее за это, ведь она совершенно точно была девушкой, когда я обладал ею в первый раз.
– Мои поздравления, Ваша Милость. Я не могу отрицать, что вы меня превзошли.
– Видите ли, Эдвард, не будет вреда, если вы и будете несколько двусмысленны. Хотя я и не люблю непристойных разговоров, это ни в коем случае не причинит вреда, если станет известно, что Ее Милость весьма мне угодила. Знаете, Эдвард, деньги не будут для короля некстати. Заключите для меня при дворе несколько пари о том, что у Ее Милости будет ребенок через год и двойное пари, если она разрешится от бремени до истечения этого времени.
Котени нервно сглотнул. Это было не в характере Генриха. Он знал, что Тюдор часто ставит ловушки для неосторожных, но никогда раньше он не играл в такие игры с близкими друзьями.
– Да, Ваша Милость, – сказал он неуверенно, подумав, неужели он и впрямь впал в такую немилость из-за нескольких слов. Это не радовало, но поведение Генриха было очень необычным в последнее время.
– Вот еще что, Эдвард. Я не люблю брать деньги у моих друзей. Смотри же, чтобы пари заключались с теми, кто все еще близок к Йоркширскому дому. Они будут рады проиграть, потому что это будет означать, что внук Эдварда IV будет сидеть на троне.
Ум девонширца не был таким острым, как у многих близких друзей Генриха, но он был отнюдь не глупым. Широкая улыбка отразилась на его лице.
– О да, сир, они будут счастливы. Они также охотно будут верить тому, что вы очарованы белой розой. Думаю, мне, пожалуй, пора пойти и возвестить утро. Тогда не будет казаться, что я говорю, зная, что вы все услышите.
Генрих дружески хлопнул его по плечу, девонширец сделал прощальный поклон и удалился. Генрих задумчиво посмотрел на закрывшуюся за ним дверь, на его лице появилась гримаса отвращения от необходимости выставлять напоказ интимные подробности, он передернул плечами. Тело короля было инструментом политики в той же мере, как и его разум.
– Нед.
– Сир?
– Мне надо, чтобы ты отправился во Францию. Как скоро ты будешь готов?
– Завтра. Сегодня, если дело спешное.
– Нет, не так спешно. Я хочу, чтобы вы организовали выкуп за освобождение Дорсета и Бурчье, и мне понадобится время, чтобы собрать какие-то деньги. В любом случае будет невозможно уплатить всю требуемую сумму сразу. Вам следует сделать все возможное, чтобы освободить их обоих, но если французы освободят только одного, это должен быть Дорсет.
– Дорсет!
– Да. Не хотите ли вы, чтобы я сказал, что предпочитаю моих ланкастерских друзей моему брату, ставшему мне родным после моей женитьбы?
– О!
– Можно это не скрывать. Об этом можно, даже нужно говорить открыто. И если будут намекать, что Ее Милость оказала влияние на мой выбор, не отрицайте этого.
Пойнингс кивнул в знак согласия.
– Как долго это будет сдерживать ненавистников, как вы думаете, сир?
Генрих пожал плечами.
– Некоторое время. Не дольше, чем потребуется матери королевы просить меня о чем-то, чего я ей дать не смогу. Другим, более благоразумным, потребуется несколько дольше. Каждый день – это победа, Нед.
В голосе Тюдора вдруг зазвучала усталость, и Пойнингс встретил симпатию в его глазах. По его мнению, Генрих умело демонстрировал невероятную ловкость и постоянно поддерживал своим видом впечатление уверенности. Они были напряжены до предела, слишком много работали и слишком хорошо сознавали, что стабильность королевства – это не более чем тонкая корка льда над бурными потоками бунтов. Но Генрих, не только руководивший, но и контролировавший всю работу, сделанную другими, не мог выказывать ни усталости, ни страха. Первый же признак слабости короля проломил бы лед, и они были бы снесены потоком. Пойнингс намеревался что-то сказать, когда стражник у дверей объявил прибытие Ловелла, Динхэма и Эджкомба. Генрих улыбнулся им и сделал знак рукой.
– Я плохо отдохнул прошлой ночью, это, полагаю, вам приятно услышать. Но этот недостаток отдыха удивительным образом укрепил меня и придал сил. Итак, я готов задать вам работу, работу более трудную, чем когда-либо раньше. Динхэм, мне нужны деньги, действительно большая сумма, и скоро.
Казначей провел рукой по усталому лицу.
– Ваша Милость, денег нет. Вы это знаете и знаете, на что пошел каждый пенни, который мы изыскали и получали до сих пор.
– Ловелл?
Канцлер казначейства вздохнул.
– Мы можем задержать кое-какие выплаты купцам. Доверие к вам очень высоко, сир. Несколько сотен фунтов здесь и там, возможно. Какой доход будет в следующем месяце и далее – очень трудно оценить.
– Эджкомб?
Управляющий делами двора усмехнулся.
– Ну, если вы отправитесь в поездку по стране, сир, у вас не будет больших расходов на содержание двора, поскольку вы будете жить за счет знатных господ и городов, которые вы посетите, не говоря уж об ожидаемых подарках. Скажите мне, как долго вы будете находиться в поездке, и я скажу вам, насколько я смогу сократить расходы.








