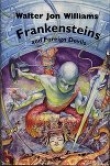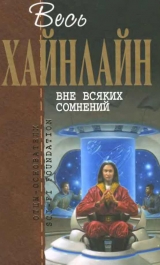
Текст книги "Т. 02 Вне всяких сомнений"
Автор книги: Роберт Энсон Хайнлайн
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Грейвс последовал за ним; капитан пропустил его, чтобы лично задраить люк. По внутреннему трапу Блейк стал подниматься на мостик, Грейвс двинулся следом. Корабль был наполнен трелями боцманской дудки, хриплыми воплями громкоговорителя, топотом бегущих ног и монотонным, угрожающим клацаньем сигнала общей тревоги. Вахтенный на мостике все еще сражался с последним тяжелым стеклянным щитом, когда туда влетел капитан.
– Я принимаю вахту, Вимс, – отрывисто сказал он.
Обойдя мостик из конца в конец, он оглядел корму, затем левый борт, полубак, правый борт и, наконец, уставился на огненные шары, которые явно приближались к кораблю. И выругался.
– Ваш приятель еще не знаком с новостями, – обратился он к Грейвсу; рука его крепко сжимала рычаг, перемещающий стеклянные щиты правого борта.
Грейвс, выглянув через его плечо, понял, что тот имел в виду – на опустевшей задней палубе одинокая фигура продолжала крутить педали неподвижного велосипеда. Огненные шары Лагранжа приближались.
Тугой механизм заслонки заело. Блейк бросил попытки открыть ее, рванулся к пульту громкоговорителя и врубил громкую связь по всему борту, не пытаясь отыскать нужный переключатель.
– Эйзенберг! Вниз, скорее!
Должно быть, Эйзенберг услышал свое имя, потому что он повернул голову и огляделся – Грейвс отчетливо видел это, – и как раз в этот момент шар настиг его. Шар прошел дальше, а седло тренажера осталось пустым.
Когда они спустились, то обнаружили, что тренажер не был поврежден. Резиновая трубка, ведущая к маске, была как будто аккуратно обрезана. Не было ни следов крови, ни вообще каких бы то ни было следов. Билл Эйзенберг просто исчез.
– Я отправляюсь туда.
– Ваше здоровье не годится для этого, доктор.
– Вы не несете за это никакой ответственности, капитан Блейк.
– Я знаю. Вы можете попробовать, но только после того, как мы завершим поиски тела вашего друга.
– Какого еще тела! Я должен найти его – живым.
– Да? Х-м-м… Как это?
– Если вы правы и он мертв, тогда что толку искать его тело. А если я прав, то есть хоть ничтожный шанс найти его – там!
Он махнул рукой в сторону облачной шапки, венчающей Столбы. Блейк задумчиво поглядел на него, затем повернулся к водолазу:
– Мистер Харгрив, подберите дыхательную маску для доктора Грейвса.
Ему дали тридцать минут на адаптацию против кессонной болезни. Блейк ходил с отсутствующим видом. Команда – и матросы и офицеры держались в сторонке и помалкивали; все знали, что когда у Старика такое выражение лица, ходить надо на цыпочках.
Когда подготовка закончилась, водолазы быстро переодели Грейвса и тут же запихнули его в батисферу, чтобы его легкие не успели снова нахватать азота из воздуха. Перед тем как закрыть входной люк, Грейвс обратился к капитану:
– Мистер Блейк!
– Да?
– Эти золотые рыбки Билла – вы позаботитесь о них?
– Ну конечно, доктор.
– Спасибо.
– Не стоит. Вы готовы?
– Готов.
Блейк шагнул вперед, и они с Грейвсом обменялись рукопожатием через люк батисферы.
– Удачи вам, – он отошел, – Задраивайте люк.
Сферу опустили за борт. Две шлюпки отбуксировали ее на полмили в направлении столба Канака, где течение было уже достаточно сильным, чтобы подхватить ее. Отцепив буксир, шлюпки, преодолевая встречное течение, возвратились к кораблю и были подняты на борт.
Блейк наблюдал за батисферой в бинокль со своего мостика. Вначале она медленно дрейфовала, затем, все ускоряясь, приблизилась к основанию Столба. Последние сотни ярдов она неслась с бешеной скоростью; Блейк увидел желтое пятно чуть выше поверхности моря, и оно тут же исчезло.
* * *
Прошло восемь часов – никаких следов дыма. Девять часов, десять – ничего. Через двадцать четыре часа патрулирования окрестностей Столба Вахини Блейк послал радиограмму в Бюро.
Прошло четверо суток наблюдений – Блейк твердо знал, что пассажир батисферы мертв; он мог задохнуться, утонуть, батисфера могла разрушиться – причина смерти могла быть какой угодно. Так он и доложил и получил приказ следовать первоначальным курсом. Он собрал экипаж в кают-компании. Капитан Блейк вслух прочитал молитву об усопших – голос его был, как всегда, резок. Затем он опустил за борт несколько заметно увядших цветков мальвы – все, что сумел найти стюард, – и отправился на мостик, прокладывать курс на Пирл-Харбор.
По пути на мостик он на минуту задержался у дверей своей каюты и сказал стюарду: «Посмотрите в каюте мистера Эйзенберга – там должны быть золотые рыбки. Найдите подходящий сосуд и перенесите их в мою каюту».
– Есть, капитан.
* * *
Когда Билл Эйзенберг пришел в сознание, он находился в некотором Месте. Иное название трудно было подобрать – никаких отличительных признаков у него не было. Конечно, не совсем: так, там, где он находился, не было темно, не было вакуума, там не было холодно. Помещение было не настолько мало, чтобы сковывать движения. Но деталей не было до такой степени, что он не мог даже оценить размеры помещения. В самом деле, объемное зрение, с помощью которого человек непосредственно оценивает размеры предметов, не помогает, когда расстояние до них больше двадцати футов. На больших расстояниях приходится использовать знание истинных размеров знакомых предметов – и обычно это происходит подсознательно: если рост человека такой-то, то, должно быть, он находится на вот таком-то расстоянии, и наоборот.
Но в этом месте не было знакомых предметов. Потолок был на значительной высоте – настолько высоко, что его нельзя было достать в прыжке. Пол плавно искривлялся и сливался с потолком, и свобода передвижения ограничивалась примерно дюжиной шагов. Он осознал это, только когда потерял равновесие (у него не было никакой системы отсчета, по которой он мог бы определить направление вертикали; а вестибулярный аппарат, дающий человеку врожденное чувство равновесия, был у него нарушен из-за многих лет погружений, повредивших его внутреннее ухо. Было легче сидеть, чем ходить, да и ходить было, в общем-то, не за чем, после первых бесплодных попыток исследований).
После первого пробуждения он потянулся, открыл глаза и огляделся. Глазу не на чем было остановиться, и это раздражало. Как будто он оказался внутри гигантской яичной скорлупки, освещенной извне мягким, приятным желтоватым светом. Бесформенная неопределенность как-то тревожила. Он закрыл глаза, потряс головой, снова открыл – все по-прежнему.
Начал вспоминать, что произошло с ним до того, как он потерял сознание, – опускающийся огненный шар, отчаянная попытка увернуться, последняя мысль в то последнее, показавшееся вечностью мгновение до контакта: «Ну, ребята, держите шляпы!» Мозг начал искать объяснений. «Потеря сознания, а зрительный нерв парализован. Не дай Бог, так и останусь слепым».
В любом случае им бы не следовало оставлять меня одного в таком беспомощном состоянии.
– Док! – крикнул он, – Док Грейвс!
Не было ни ответа, ни даже эха – он начал осознавать, что не было вообще никаких звуков, кроме его собственного голоса, никаких обычных слабых звуков, которыми наполнена любая «мертвая» тишина. Здесь было тихо, как в мешке с мукой. Неужели его слух тоже пострадал?
Да нет, он же слышит собственный голос. В этот момент Билл осознал, что видит свои руки. Значит, со зрением все в порядке – он прекрасно их видит!
И все остальное тело тоже. Он был голым.
Может быть, через несколько часов – или несколько мгновений – Билл пришел к выводу, что он мертв. Это была единственная гипотеза, которая вроде бы согласовывалась с фактами. Он был закоренелым агностиком и не ожидал никакого воскрешения после смерти; жизнь уйдет из тела, когда его покинет сознание, как свет в комнате при повороте выключателя. Тем не менее он подвергся воздействию электрического поля, более чем достаточного, чтобы убить человека; придя в себя, он не обнаружил ничего из того, что составляет ощущения живого человека. Следовательно – он мертв. Что и требовалось доказать.
Разумеется, у него было тело, но он прекрасно помнил о парадоксе субъективного и объективного. Он все еще обладал памятью, а самый сильный отпечаток в памяти оставляют ощущения собственного тела. Так что это было не его тело, а воспроизведенная памятью его мысленная копия. Так он рассуждал. Возможно, думал он, мое мысленное тело исчезнет, по мере того как будут слабеть воспоминания о реальном теле.
Было нечего делать, нечего ощущать, нечем занять мозг. Он наконец заснул, раздумывая над тем, что если это смерть, то она чертовски скучна!
Проснулся он освеженный, но с ощущением жуткой жажды и голода. Вопрос, жив он или мертв, более не занимал его. Теология и метафизика отошли на задний план. Он был голоден.
Более того, по пробуждении он обнаружил явление, которое разрушило большую часть его теоретических построений, приведших его разум к выводу о собственной кончине – а на уровне эмоций он все-таки до конца в это не верил. Здесь, в том Месте, где он находился, обнаружились иные материальные объекты, которые можно было увидеть и потрогать.
И съесть.
Последнее было не вполне очевидно, потому что на еду они не были похожи. Они были двух сортов. Первый представлял собой бесформенные комки, видом напоминающие сероватый сыр, слегка жирные на ощупь и вполне неаппетитные. Второй сорт представлял собой однородную группу предметов, внешне одинаковых и, похоже, по ошибке попавших сюда из ювелирного магазина. Это было десятка два сверкающих шаров; каждый из них казался Биллу копией того хрустального шара, который он как-то приобрел, – настоящий бразильский горный хрусталь, перед совершенной красотой которого невозможно было устоять; он провез его домой контрабандой и в одиночестве наслаждался его совершенством.
Маленькие сферы были очень похожи на этот камень. Он коснулся одной из них. Поверхность была гладкой, как тот хрусталь, и обладала той же целомудренной прохладой, но оказалась податливой, как желе. Сфера заколыхалась, и огоньки внутри нее восхитительно замерцали, затем она успокоилась и вновь приобрела форму идеального шара.
При всей своей привлекательности, на еду они явно не походили, а вот похожие то ли на сыр, то ли на мыло куски могли оказаться и съедобными. Он отломил маленький кусочек, понюхал и осторожно попробовал на вкус. Вкус был кислый и тошнотворный. Билл выплюнул его, брезгливо покривился и испытал горячее желание почистить зубы. Ежели это еда, то ему придется проголодаться посильнее…
Он снова обратился к замечательным шарикам хрустального желе. Он покатал их на ладонях, наслаждаясь их мягкостью и гладкостью. Внутри каждого из них было видно его собственное миниатюрное изображение – симпатичный маленький эльф. Чуть ли не впервые он осознал, насколько совершенны пропорции человеческого тела, едва ли не любого, если рассматривать его как художественную композицию, а не как коллоидную массу.
Но чувство жажды пересилило его нарциссизм. Ему подумалось, что если гладкий, прохладный шарик положить в рот, то это должно вызвать слюноотделение. Он так и сделал; шарик, неожиданно для него, тут же был проколот нижними зубами. Губы и подбородок стали мокрыми, капли стекали по груди. Шарики оказались водой, чистейшей водой – никакой целлофановой или какой бы то ни было другой упаковки. Эта вода каким-то непонятным образом удерживалась поверхностным натяжением.
Он осторожно взял другой шарик, стараясь не проколоть его зубами до тех пор, пока тот полностью не окажется во рту. Получилось; рот был полон прохладной, чистой воды – это произошло настолько быстро, что он поперхнулся. Но теперь приспособиться было несложно, и он выпил четыре шарика.
Утолив жажду, он решил разобраться, каким образом вода может удерживать самое себя. Сферы были упругими; ему не удавалось раздавить их, и даже падение на пол их не разрушало. Они прыгали, как мячи для гольфа, и даже еще выше. Билл решил ущипнуть один из них ногтями, и опыт удался – вода тут же полилась по ладони – вновь чистая вода, и ничего более. Оказалось, что только порез может разрушить силы натяжения: даже смачивание не возымело действия – он мог держать шарик во рту, затем вынуть его и вытереть досуха о свою кожу.
Наконец он решил, что запасы воды ограничены, а перспективы неясны, а потому разумнее завершить эксперименты и сохранить то, что осталось.
* * *
Голод стал еще сильнее. Он снова обратился к сомнительного вида комкам и обнаружил, что может заставить себя прожевать и проглотить кусок. Это вполне могло и не быть едой, это мог быть даже яд, но желудок эта гадость наполняла, и голодные спазмы прекратились. Билл даже ощутил сытость, особенно после того, как прополоскал рот, израсходовав еще один водяной шарик.
Еда изменила направление его мыслей. Он не был мертв, или, по крайней мере, различие между жизнью и смертью было неощутимым, чисто терминологическим. О’кей, значит, он жив. Но он заперт в одиночестве. Кто-то знает, где он находится и заботится о нем, снабжая едой и питьем – таинственно, но вполне разумно. Следовательно – он пленник, а это предполагает и наличие стражи.
Чей пленник? Он был поражен шаровой молнией Лагранжа и затем очнулся в этой скорлупе. Приходится согласиться, что вроде бы док Грейвс прав: шаровые молнии управляются разумом. Далее, это существо – или существа? – управляющее ими, обладает странными представлениями о том, как следует обращаться с пленниками, да и захватывают в плен по меньшей мере странным способом.
Эйзенберг был смелым человеком, что довольно типично для расы, к которой он принадлежал, – безрассудная смелость, как у собачек-пекинесов. Человек сознает необратимость смерти, но смиряется с тем, что она возможна в любое мгновение – на шоссе, на столе хирурга, на поле битвы, в самолете, в подземке – и с легким сердцем принимает, что в конце концов она неизбежна.
Эйзенберг был человеком впечатлительным, но не подверженным панике. Ситуация определенно была любопытной, скучать не приходилось. Если он пленник, то весьма вероятно, что похититель вот-вот явится допрашивать его, а может, попытается использовать его каким-либо способом. То, что он был оставлен в живых, а не убит, означало наличие каких-то видов на него. Очень хорошо, он постарается быть готовым к любой неожиданности, сохранить холодный, изобретательный разум. А пока придется смириться с тем, что в данный момент он ничего не может сделать для своего освобождения. Эта камера поставила бы в тупик самого Гудини – сплошные гладкие стены, невозможно найти точку опоры.
Как-то ему показалось, что он нашел ключ: ведь в камере должны быть какие-то санитарные приспособления и, значит, связь с внешним миром. Но продвинуться дальше с этой идеей ему не удалось: похоже, клетка была самоочищающейся. Билл не мог понять, как это происходит.
Наконец, он снова заснул.
* * *
Когда он проснулся, то увидел, что произошло только одно изменение – запасы еды и питья пополнены. «День» прошел без происшествий, в бесплодных размышлениях. На следующий день было то же самое.
Он решил бодрствовать как можно дольше, чтобы понять, как в его клетке сменяют еду и питье. Он прикладывал колоссальные усилия, чтобы не заснуть, принимал самые крутые меры: кусал до крови губы и язык, безжалостно щипал мочки ушей. Решал запутанные логические задачи.
Наконец, он отключился; проснувшись, убедился в том, что запасы еды и питья пополнены.
Периоды бодрствования сменялись сном, приходили голод и жажда, он утолял их, снова засыпал. После шестого или седьмого сна Билл решил, что ему нужно что-то вроде календаря, чтобы не свихнуться. Иного способа измерять время, кроме как считать периоды сна и бодрствования, у него не было. За неимением лучшей меры, пришлось назвать это днями. Делать записи было не на чем, кроме собственного тела. Пришлось довольствоваться этим. Отгрызя кусочек ногтя большого пальца, Билл превратил его в подобие татуировочной иглы. Царапая одно и то же место на бедре, он оставлял там красный след, который был заметен пару дней, а потом снова мог быть восстановлен. Семь полосок означали неделю. Если недельные полоски наносить возле каждого из пальцев рук и ног, то можно отмерить двадцать недель – а это было намного больше, чем, как он полагал, ему может понадобиться.
Когда вторая семидневная полоска появилась у безымянного пальца его левой руки, произошло событие, нарушившее монотонное чередование дней. Проснувшись, он вдруг осознал, что теперь он не один!
Рядом с ним спал человек. Убедившись, что действительно не грезит – потому что во сне он часто кого-нибудь видел, – Билл протянул руку и потряс соседа за плечо.
– Док! – завопил он. – Док! Проснитесь!
Грейвс открыл глаза, поморгал, уселся и протянул руку.
– Привет, Билл. Я чертовски рад тебя видеть.
– Док! – он хлопнул старика по спине. – Док! Вот это да! А представьте себе, как я-то рад увидеть вас!
– Представляю.
– Послушайте, док, – где вы были? Как вы здесь очутились? Огненные шары вас тоже утащили?
– Не все сразу, сынок. Давай позавтракаем.
На «полу» у их ног лежала двойная порция провизии. Грейвс взял шарик, привычно проколол его и выпил, не уронив ни капли. Эйзенберг понимающе посмотрел на него.
– Вы здесь уже не первый день.
– Это верно.
– Шары похитили вас в тот же момент, когда и меня?
– Нет, – он потянулся за пищей. – Я поднялся на Столб Канака.
– Что?!
– Именно. Дело в том, что я искал тебя.
– Да что вы говорите!
– Вот так. Похоже, моя дикая гипотеза верна: Столбы и шаровые молнии – это следствия одной и той же причины, той, что я называл Икс!
* * *
Казалось, можно было услышать, как в голове Эйзенберга прокручиваются шестеренки.
– Но послушайте, док… это ведь значит, что вся ваша гипотеза верна? Кто-то все это проделал. Кто-то, кто держит нас здесь взаперти.
– Именно так, – Грейвс медленно, устало жевал; он постарел и похудел с тех пор, как Билл расстался с ним. – Это говорит о разумной силе, контролирующей ситуацию. Другого объяснения нет.
– Но кто же? Может так быть, что в какой-то стране изобрели совершенно новое оружие?
– М– Да! Ты полагаешь, что, скажем, русские будут нас поить водой вот таким образом? – он подбросил в руке загадочный водяной шарик.
– Тогда кто же?
– Не знаю. Для удобства можешь назвать их марсианами, если хочешь.
– Почему марсиане?
– Да нипочему. Я же говорю, для удобства.
– Почему же это удобно?
– Потому что это удержит тебя от придания им человеческих черт – а они, очевидно, не люди. И не животные, потому что они умнее нас. В общем, марсиане.
– Но… но… Погодите. Почему вы считаете, что ваши Иксы – не люди? Почему это не могут быть люди, у которых гораздо больше извилин в черепке, чем у нас? Гораздо дальше продвинувшиеся в науке?
– Законный вопрос, – ответил Грейвс, выковыривая остатки пищи из зубов, – и на него ты получишь законный ответ. Потому что в нынешнем мире мы очень неплохо знаем, где находятся лучшие головы и что они делают. Такие вещи, как эта, невозможно спрятать, а разрабатывать их пришлось бы очень долго. Икс демонстрирует нам по крайней мере полдюжины вещей, которые выше нашего понимания и которые потребовали бы многих лет работы сотен квалифицированных исследователей. Следовательно, это нечеловеческая наука. Конечно, – продолжил он – если ты станешь говорить мне об ученом безумце в секретной лаборатории, я не смогу с тобой спорить. Но я не поклонник всех этих комиксов в воскресных газетах.
Билл Эйзенберг некоторое время сидел молча, пытаясь переварить сказанное Грейвсом и соотнести это с собственным опытом.
– Вы правы, док, – признал он наконец. – Дьявольщина – вы всегда побеждаете меня в споре. Это точно марсиане. Не в том смысле, что жители Марса, – я имею в виду, что это разумная жизнь с другой планеты.
– Может быть.
– Да вы же сами только что это утверждали!
– Нет, я только сказал, что это удобное предположение.
– Но, действуя методом исключения, мы приходим именно к этому.
– Метод исключения может выкидывать всяческие фортели.
– Ну а что же еще это может быть?
– М-м… Я пока что не готов высказать то, что крутится у меня в голове. Но есть еще более веские аргументы, чем те, о которых мы говорили, в пользу того, что этот разум – нечеловеческий. Аргументы психологические.
– И какие же?
– Икс обращается с пленниками не так, как это принято у людей. Подумай об этом.
* * *
Им было что обсудить, и не только Икс был темой их бесед, хотя к нему они возвращались постоянно. Грейвс вкратце рассказал Биллу о том, как он решил отправиться на Столб, этот рассказ очень тронул Билла, и скорее тем, что было опущено, чем тем, что было рассказано. Он вдруг почувствовал себя очень неловко, глядя на своего старшего друга.
– Док, вы неважно выглядите.
– Да ничего.
– Это путешествие на Столбы вам было ни к чему. Оно вас сильно подкосило.
Грейвс пожал плечами.
– У меня все в порядке, – но это было вовсе не так, Билл это прекрасно видел. Старик сильно сдал.
Они спали, ели, разговаривали, а затем снова спали. Все то же самое, к чему Эйзенберг привык в одиночке, только теперь их было двое. Вот только Грейвсу не становилось лучше.
* * *
– Док, надо бы нам что-то с этим делать.
– С чем?
– Со всем этим. То, что случилось с нами, угрожает страшной опасностью всему человечеству. Мы даже не представляем, что могло уже произойти там, внизу…
– Почему ты говоришь «там, внизу»?
– Ну как же, вы ведь поднялись на Столб…
– Верно – но я не знаю, где и когда меня вытащили из батисферы и куда меня после этого доставили. Но неважно. Выкладывай свою идею.
– Да, но… ну хорошо. Итак, мы не знаем, что сейчас происходит с человечеством. Может быть, огненные шары прибирают людей поодиночке, не давая им возможности ни сопротивляться, ни даже понять, что происходит. У нас есть некоторые идеи. Пришла пора бежать и предупредить. Мы должны найти способ дать отпор. Это наш долг, все будущее человечества может от этого зависеть.
Грейвс не отвечал так долго, что Билл почувствовал некоторую неловкость, как будто он наговорил глупостей. Но наконец он заговорил.
– Мне кажется, ты прав, Билл. Вполне возможно, что ты прав. Не обязательно, но очень возможно. И эта возможность налагает на нас обязательства перед всем человечеством. Я это знал. Я это знал еще до того, как мы влипли в эту историю, но у меня не хватало фактов, чтобы закричать «Волки!» Вопрос только в том, как же нам отсюда передать это предупреждение?
– Нам нужно бежать!
– Увы!
– Должен быть способ.
– Ну так предложи.
– Скажем, так. Мы не можем найти хода ни сюда, ни отсюда, но он обязательно должен быть, ведь нас сюда как-то доставили. Дальше, каждый день мы получаем еду – откуда? Я однажды пытался подсмотреть, как это делается, но заснул…
– И я тоже.
– Ну да. Ничего удивительного. Но теперь нас двое; мы можем меняться, дежурить по очереди, пока что-нибудь не произойдет.
– Стоит попробовать, – кивнул Грейвс.
Поскольку отмерять время было нечем, каждый бодрствовал, пока сонливость не становилась непереносимой, и будил другого. Но ничего не происходило. Еда подошла к концу, и новой они не получили. Они берегли свои водяные шарики, пока, наконец, не остались с одним-единственным, который никто из них не хотел выпить – состязались в благородстве, уступая друг другу. Но их невидимые похитители по-прежнему никак не проявляли себя.
Прошло неизвестно сколько времени – но наверняка долго, почти непереносимо долго, – и в тот момент, когда Эйзенберг был погружен в чуткий, тревожный сон, его неожиданно пробудило прикосновение и звук его имени. Он сел, моргая, не соображая, что происходит.
– Что? Кто? Что случилось?
– Я, похоже, задремал, – с виноватым видом произнес Грейвс. – Прости меня, Билл.
Эйзенберг глянул в ту сторону, куда указывал Грейвс. Вода и пища ожидали их.
Эйзенберг не предлагал возобновить эксперимент. Во-первых, было очевидно, что их хозяева не желали, чтобы пленники узнали путь из клетки. Похитители были достаточно сообразительны, чтобы противодействовать их ничтожным усилиям. Во-вторых, Грейвс явно был болен и у Эйзенберга не хватило бы духу продолжить это изматывающее полуголодное бдение.
Но если не известно, где выход, сбежать из заточения невозможно. Голый человек – необыкновенно беспомощное существо: не имея материалов, из которых можно смастерить инструменты, он почти ни на что не способен. Эйзенберг мечтал то о блаженстве обладания алмазной дрелью, то об ацетиленовой горелке, то хотя бы о завалящем ржавом зубиле. Он сознавал, что без инструментов у него столько же шансов взломать клетку, как у его рыбок, Клео и Патры, прогрызть стекло аквариума.
* * *
– Док?
– Да, сынок.
– Мы избрали неверный путь. Мы знаем, что Икс разумен; чем пытаться сбежать, нам следовало бы попытаться вступить с ним в контакт.
– Каким образом?
– Не знаю. Но должен же быть способ.
Но если такой способ и существовал, ему никак не удавалось его придумать. Даже если предполагать, что похитители видят и слышат его, какими словами или жестами передать им послание? Возможно ли теоретически негуманоиду, неважно, насколько он разумен, понять смысл человеческой речевой символики, если ее воспринимать вне контекста, без фона, без картинок, без возможности что-то показать? Ведь человеческая раса, находясь в гораздо более благоприятных условиях, не смогла почти ничего узнать о языках животных.
Как привлечь их внимание, стимулировать их интерес? Прочитать наизусть Декларацию независимости? Или таблицу умножения? А если использовать жесты, то будет ли азбука глухонемых понятнее их похитителям, чем сигналы боцманской дудки городскому жителю?
* * *
– Док?
– Что, Билл?
Грейвс явно слабел: теперь он совсем редко начинал разговор первым.
– Почему мы здесь оказались? У меня все время сидит где-то в голове, что в конечном счете они должны вытащить нас отсюда и что-то с нами сделать. Попытаться допросить нас, например. Но, похоже, они не собираются этого делать.
– Не собираются.
– Тогда зачем мы здесь? Почему они кормят нас?
Грейвс надолго замолчал, перед тем как ответить.
– Я думаю, они ожидают, пока мы не размножимся.
– Что?!
Грейвс пожал плечами.
– Но это же смешно!
– Верно. Но откуда им это знать?
– Ведь они же разумны.
Грейвс рассмеялся, первый раз за долгое время.
– Помнишь забавный стишок Роланда Янга о блохе? [38]38
«Забавные создания – эти блошки,/ Тебе не отличить его от нее./ Но каждая из блошек знает, каков ее пол».
[Закрыть]В конечном счете видимая разница между мужчиной и женщиной почти незаметна – кроме как для мужчины и женщины!
Эйзенберг нашел, что это предположение отвратительно и возмутительно; он попытался спорить.
– Послушайте, док, даже поверхностное исследование показало бы им, что человеческая раса разделена на два пола. В конечном счете мы не первые, кого они изучают.
– Может быть, они нас вовсе и не изучают.
– Как это?
– Может, мы просто – домашние животные.
Домашние животные! Психика Билла Эйзенберга устояла перед лицом опасности и неопределенности. Но на сей раз удар был слишком коварен. Домашние животные. Он считал себя и Грейвса военнопленными или, по крайней мере, объектами научного исследования. Но домашние животные!
– Я понимаю, что ты чувствуешь, – продолжал Грейвс, глядя на Билла, все ощущения которого отражались на его лице, – Это… унизительно с антропоцентрической точки зрения. Но я думаю, что это так и есть. Я мог бы также рассказать тебе собственную теорию о том, какова природа Икс, и об отношении Икс к человеческой расе. Я не говорил об этом до сих пор, потому что это почти исключительно догадки, основанные на очень скудных данных. Но эта теория согласуется с известными фактами. Я полагаю, что эти Икс-существа едва ли осведомлены о существовании людей, кроме тех, кого они захватили, и почти совсем ими не интересуются.
– Но они же охотились на нас!
– Может быть. А может, просто случайно подобрали по дороге. Многие фантазировали о том, как будет выглядеть встреча двух чуждых разумов. И почти без исключения эти мечты облеклись в одну из двух форм, либо вторжения и войны, либо взаимопознания и взаимопомощи. Эти обе концепции предполагают, что иной разум достаточно похож на наш, чтобы либо бороться, либо общаться с нами, – иначе говоря, рассматривать нас как равных себе. Я не верю, что Икс настолько заинтересованы в человеческих существах, чтобы испытывать желание поработить или даже истребить их. Может быть, им не захочется и исследовать нас, даже если мы попадем в их поле зрения. У них может отсутствовать жажда исследования в смысле того обезьяньего любопытства ко всему, что движется. Кстати, насколько мы сами внимательны к другим формам жизни? Ты когда-нибудь поинтересовался у своей золотой рыбки ее взглядами на их, рыбью, поэзию или политику? Волнует ли термита, какое место женщина занимает в семье? Кого предпочитают бобры – блондинок или брюнеток?
– Нашли когда шутить.
– Я не шучу. Может быть, у тех форм жизни, которые я упомянул, и нет таких сложных мыслей. Но я утверждаю, что если бы они и были, мы об этом и не догадывались бы. Я не думаю, что Икс рассматривают человечество как разумную расу.
Некоторое время Билл переваривал все это, затем спросил:
– Как вы думаете, док, откуда они пришли? Может, все-таки с Марса? Или они не из нашей Солнечной системы?
– Не обязательно. И даже маловероятно. Мне кажется, что они пришли из того же самого места, что и мы, – из взбаламученного ила нашей планеты.
– Ну, док, в самом деле…
– Именно так. И не смотри на меня соболезнующе. Я болен, но шарики у меня на месте. Акт творения происходил восемь дней.
– Что?
– Я использую библейскую терминологию. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Так все и происходило. Но никто не упоминал о стратосфере.
* * *
– Док – вы уверены, что хорошо себя чувствуете?
– Черт возьми, когда тебе надоест заниматься психоанализом! Я объясню тебе эту аллегорию. Вот что я имел в виду. Мы – не самая последняя и не высшая стадия эволюции. Вначале жизнь была только в океане. Затем появились двоякодышащие, амфибии и так далее, пока не были заселены континенты и, в конце концов, на поверхности планеты не стал править человек – или, по крайней мере, воображать, что правит. Но разве эволюция остановилась на этом? Думаю, что нет. Посмотри: с точки зрения рыбы, воздух – это абсолютный вакуум. С нашей точки зрения, верхние пределы атмосферы – шестьдесят, семьдесят, сто тысяч футов – это практически вакуум, неспособный поддерживать жизнь. Но это не вакуум. Там есть вещество и там есть лучистая энергия. Почему бы там не быть жизни, разумной жизни, сильно проэволюционировавшей, как этому и следует быть, – но проэволюционировавшей от той же начальной стадии, что и мы, и рыбы? Мы не могли увидеть, как все это происходило; человеческое сознание еще слишком молодо. Когда наши прадедушки качались на ветках, это уже все свершилось.