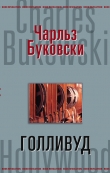Текст книги "Сильные духом (в сокращении)"
Автор книги: Роберт Дейли
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Глава вторая
Когда Фавер наконец поднялся с постели и вышел из спальни, телефон успел прозвенеть десять раз и разбудить весь дом.
– Едут, – сказал голос в трубке.
Кто-то из муниципалитета, а может быть, из полиции, подумал Фавер. Кто именно – он не знал, хотя тот же самый человек звонил и раньше, предупреждая об облавах.
Фавер не знал, сколько евреев скрывается в Ле-Линьоне и ближайших городках и деревнях. Наверняка больше тысячи. На случай опасности, подобный сегодняшнему, существовал особый план, и Фавер снял трубку, чтобы привести его в действие. Телефон не работал.
Это означало, что полиция явится совсем скоро. Интересно, это будут французы или на сей раз гестапо? И сколько у него в запасе времени?
– Мне надо уйти, – сказал Фавер жене и взглянул на Рашель. Ей нельзя здесь оставаться. – Оденься потеплее, Рашель. Ты мне кое в чем поможешь.
Когда они с Рашелью вышли на улицу, он объяснил, что ей надо сделать. Он поручил ей объехать фермы в восточном направлении вплоть до границы коммуны, предупредив по пути руководителей ячеек. Затем она должна была разбудить аббата Монье в Сент-Агаве и попросить его отпереть церковь, чтобы там могли спрятаться беженцы.
Сам он сначала направился к дому директора школы Вернье. Вдвоем они разбудили учеников, живших в интернате, и разослали их на велосипедах по домам, где жили евреи. Беженцы должны побыстрее одеться, выйти на улицу и ждать Вернье, который приедет на грузовике и отвезет всех, кто поместится в кузове, в Сент-Агав. Если его долго не будет, пусть не дожидаются, а бегут в лес и прячутся там.
После этого Фавер поехал в сторону Ле-Пюи. Ночь была темной, дул холодный ветер. Пастор объезжал ферму за фермой, и вскоре у него заныли ноги и спина. Время близилось к четырем часам. Кроме Фавера, на дороге никого не было, но он то и дело прислушивался, не едут ли полицейские машины.
Ни у кого из крестьян не было бензина, но некоторые переделали свои трактора и грузовики, чтобы они могли работать на древесном угле. Пастор велел фермерам везти беженцев в Энжо – сколько смогут посадить в кузов. Фавер надеялся, что тамошний мэр, сочувственно относившийся к евреям, позволит им пересидеть облаву в подвале ратуши.
Когда пастор добрался до последней фермы, уже светало. Хозяйка предложила ему стакан воды, которую он с благодарностью выпил.
Выйдя во двор, он увидел на дороге полицейские машины – впереди несколько легковых, за ними выкрашенные в защитный цвет автобусы, набитые жандармами.
Снова сев на велосипед, пастор медленно покатил обратно в Ле-Линьон. Пост выставили в двух километрах от городка – одинокий жандарм с мотоциклом. У него был приказ никого не выпускать из Ле-Линьона. Фаверу пришлось предъявить документы и объяснить, кто он такой.
На рыночной площади Фавер увидел четыре автобуса цвета хаки и две легковые машины. Возле одной из них стояли мэр, префект Брен и незнакомый мужчина в длинном кожаном пальто и фетровой шляпе. Гестаповец, подумал пастор.
В двух автобусах сидели жандармы, два других были пусты. В них повезут схваченных евреев.
Фавер слез с велосипеда и подошел к мужчинам. Обменялся рукопожатиями с мэром и префектом.
Пастор внимательно разглядывал немца – узкое, чисто выбритое лицо, на вид лет тридцать пять. Он кивнул незнакомцу в знак приветствия.
– Это мсье Грубер, – представил его префект.
Встав по стойке смирно, Фавер обратился к немцу:
– Добрый день, герр Грубер. Вы из гестапо?
Грубер смотрел на него, прищурив глаза.
– Рад, что вы здесь, – продолжал Фавер по-немецки. – Вы и люди вроде вас вносят в нашу жизнь жесткий порядок.
– Вы хорошо говорите по-немецки, – сказал Грубер.
– Я учил немецкий. В его классическом варианте. Но у меня бывают затруднения с некоторыми новыми оборотами. Такими, например, как «усиленный допрос». Что это значит?
Грубер недовольно взглянул на него, но промолчал. Не получив ответа, пастор повернулся к Брену и мэру и перешел на французский:
– Я задал ему вопрос насчет усиленных допросов. Закон очень строг: усиленный допрос может применяться только к евреям, коммунистам, марксистам, саботажникам, террористам и агентам Сопротивления. Так что, думаю, нам не о чем особенно волноваться.
– Я знаю, кто вы такой, – сказал Грубер по-немецки.
Зато Фавер не знал, кто такой Грубер. А если бы знал? Попридержал бы он в таком случае язык?
– Есть еще одно новое выражение, которое мне не совсем понятно. «Окончательное разрешение еврейского вопроса» – что под этим подразумевается?
Глаза немца превратились в узкие щелки, но в остальном он казался совершенно невозмутимым. Имея звание оберштурмбаннфюрера, он командовал немецкими службами безопасности в Лионе и Центральной Франции.
– Нам хорошо известно, – сказал префект Брен, – что в Ле-Линьоне скрывают евреев. У меня есть приказ доставить этих людей для проверки в префектуру. В связи с чем вы должны предоставить мне их список, а также посоветовать им добровольно сдаться властям.
– Извините, но я не знаю их имен.
Пастор не солгал. Всех беженцев снабжали фальшивыми документами, но изготовляли их без его ведома, хотя и с его молчаливого согласия.
– У полиции имеются мотоциклы, автомобили, рации, – сказал Брен. – Сопротивление бессмысленно. Мы уже обыскали все дома в городе, но не обнаружили ни одного еврея. Вы их спрятали. И я требую, чтобы вы сказали где.
– У нас тут действительно были евреи. Но некоторое время назад все они покинули Ле-Линьон.
– Когда они ушли?
Строгие моральные принципы – или просто гордость – не позволяли пастору лгать. Как бы то ни было, в данной ситуации он не собирался врать и изворачиваться.
– Кто когда, я так думаю.
– Мы все равно их найдем.
– Желаю удачи. – Кивнув на прощание, Фавер направился в сторону дома.
Жена ждала его за дверью. Не говоря ни слова, она обняла мужа. Норма была не из тех женщин, что по любому поводу дают волю слезам. Но по тому, как она прижалась к нему, Фавер видел, что жена не на шутку встревожена.
– К нам нагрянули гестаповцы, – сказала она.
– Знаю. Я только что встретил одного из них.
– Нашего мэра заставили подписать бумагу.
– Какую бумагу?
– Всем евреям приказано сегодня к пяти часам явиться в ратушу для регистрации. Обычная проверка, как они сказали.
– Обычная проверка. – Фавер усмехнулся. – Кто в это поверит? Когда вокруг стоят вооруженные жандармы, а у ратуши ждут два автобуса.
Церковь была переполнена. Когда Фавер поднялся на кафедру, чтобы начать проповедь, он увидел среди собравшихся префекта Брена и офицера гестапо.
В качестве темы для проповеди пастор выбрал тринадцатую главу Послания апостола Павла к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям…»
– Истинный христианин должен выполнять свои гражданские обязанности и подчиняться законам. Однако при этом Павел сказал, – пастор Фавер процитировал: – «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: „не убивай“, „не кради“ и все другие заповеди заключаются в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя“».
В церкви стояла мертвая тишина.
– Когда законы, вводимые властями, вступают в противоречие с законами Божьими, – продолжал свою проповедь Фавер, – истинный христианин должен подчиниться Богу, а не человеку. Бороться против зла – значит выступать против всего, что разрушает человеческую жизнь.
После службы Фавер, стоя у дверей церкви, приветствовал прихожан. У некоторых на глазах блестели слезы. Пастор оглядывался по сторонам, пытаясь найти Брена и Грубера, но их нигде не было видно.
Почти стемнело. Если бы не светящиеся окна, можно было бы подумать, что город вымер. Полицейские автобусы стояли там же, где и раньше. Два из них по-прежнему пустовали.
Из дверей кафе вышли префект Брен и Грубер.
– Уже пять часов, – зловещим тоном произнес Брен, подойдя к Фаверу.
– Действительно. Вы что, уезжаете? – Видимо, сегодня его все-таки не арестуют, решил пастор.
– У нас с мсье Грубером срочные дела в Ле-Пюи.
– Нашли вы евреев?
– Нет.
– Ничего удивительного. Здесь их попросту нет.
– Конечно, нет. Потому что вы их спрятали. Если вы и дальше будете противодействовать властям, то вас самого арестуют и отправят в лагерь.
Брен направился к своей машине. Гестаповец, так и не проронив ни единого слова, пошел за ним.
– До свидания, герр Грубер, – сказал ему вслед Фавер. Он надеялся, что видит его в последний раз.
Через три дня посты на дорогах сняли, и беженцы смогли наконец вернуться.
После инструктажа Тофт отозвал в сторону летчиков своей эскадрильи. Сегодня восьми «мустангам» предстояло выполнить особое задание. Сначала они, как обычно, будут сопровождать бомбардировщики, но когда те начнут сбрасывать свой груз на Дюссельдорф, Тофт и его товарищи полетят на юг, чтобы обнаружить и обстрелять ремонтную базу Люфтваффе. Предполагалось, что базу прикрывают от десяти до двенадцати зенитных батарей.
– Сначала ударим по их противовоздушной обороне, – сказал Тофт. – А потом на бреющем обстреляем стоящие на земле самолеты. Постоянно маневрируйте, поливайте их огнем.
Семеро молодых летчиков угрюмо молчали.
– Выходим на объект с юга, – продолжал Тофт. – Наша с Гэнноном двойка сделает первый заход, остальные держатся вне зоны досягаемости зениток. Затем заходим попарно и обстреливаем батареи. После каждой атаки все уходят вверх и влево. Понятно? Если выяснится, что оборона слишком сильная, – прекращаем операцию.
Тофт оглядел подчиненных:
– По машинам!
Вынужденные держаться позади бомбардировщиков, они достигли заданного района только через три часа и поначалу не могли найти нужный объект. С высоты восемь тысяч семьсот метров земля выглядела сплошным снежным ковром. Тофт приказал снизиться до четырех с половиной тысяч, и тогда на белом полотне прорезалась черная линия автобана.
– Посмотрите на дорогу, – сказал Гэннон в микрофон. – По-моему, эта ползущая букашка – трактор, а то, что он тащит за собой, похоже на самолет.
– Пулеметы к бою! – скомандовал Тофт. – Снижаемся.
«Мустанги» снизились, сделав круг. Теперь пилоты могли разглядеть на окруженном заснеженными елями поле две полосы и белые холмики – замаскированные самолеты.
– Наша двойка пойдет первой, – сказал Тофт. – Ты готов, Дейви?
Восемь истребителей ушли на юг. Затем Тофт и Гэннон развернулись и направили свои машины круто вниз. Дейви прицелился в один из самолетов и увидел, как над ним взлетели фонтаны снега, а потом он взорвался.
Только две батареи открыли огонь – одна слева, другая справа. Такой слабой обороны никто не ожидал.
Тофт приказал одной двойке атаковать правую батарею, а другой – левую. Остальные «мустанги» зайдут на объект вместе с ними, а затем пролетят над полем, шесть машин в ряд, поливая огнем самолеты на земле.
На этот раз они шли на предельной скорости над самыми верхушками деревьев. В небо взвилась сигнальная ракета, но сначала никто не понял, что это значит.
Гэннон направил машину на развернутый к нему боком «Фокке-Вульф-190» – более легкой мишени он еще не встречал. Однако, уже приготовившись нажать на гашетку, он понял: что-то тут не так – ему навстречу с невероятной скоростью неслись красные и оранжевые мячики для гольфа. Двадцатимиллиметровые снаряды, сообразил Дейви. Взмывая над деревьями, он успел заметить, откуда стреляли зенитные орудия.
На небольшой высоте, на безопасном удалении от объекта, самолеты перестраивались для новой атаки.
– Там у них батарей двадцать, по меньшей мере, – услышал Дейви в наушниках чей-то голос.
– Кто-нибудь рассмотрел, где они стоят? – спросил Тофт.
– Среди деревьев, – ответил Дейви. – На платформах высотой метров пять-шесть.
– Надо достать эти зенитки, – сказал командир.
«Мустанги» на огромной скорости пошли в атаку, сорок восемь пулеметов хлестали по лесу, выкашивая немцев.
– Последний заход, – объявил Тофт. У него кончались боеприпасы.
Они опять ринулись вниз. Гэннон успел уничтожить три самолета. Теперь у него в кружке прицела был еще один «фоккер», но, прежде чем он успел выстрелить, его «мустанг» получил неожиданный удар. Часть фонаря провалилась в кабину, и тут же Дейви почувствовал, как дюжина гигантских пчел ужалила его в бок и в ногу. Оглянувшись, Дейви увидел, что повреждено правое крыло. Истребитель начал падать.
Он летел очень низко, и ему нельзя было больше терять высоту. Дав штурвал до отказа влево, Дейви до предела выжал газ, пытаясь как можно дольше продержать машину в воздухе, по крайней мере для того, чтобы понять, что случилось, и решить, что делать.
– Я ранен, – сообщил он по радио.
Наверное, можно попробовать сесть на автобан, подумал Дейви. Дорога уходила на запад, и он полетел над ней. Тофт приказал остальным возвращаться в Англию, а сам вскоре был рядом с ним.
– Я с тобой, Дейви. Не волнуйся, я доставлю тебя домой.
Он держал штурвал до отказа влево. Левая нога начинала затекать, и ему было все труднее давить на педаль. Он летел чуть ли не боком, изо всех сил стараясь не терять высоту.
Внизу показалось Боденское озеро. На юге виднелись заснеженные вершины Альп. Он все еще находился над Германией. Дальше к югу лежала Швейцария. Предстояло пересечь ее всю, а это не меньше полутора тысяч километров, затем – часть Франции, всю Бельгию и, наконец, Северное море. У него начинало мутиться сознание, левая нога совершенно онемела, он был весь мокрый от пота и крови.
– А если нас обнаружат вражеские истребители? – Дейви говорил больше для того, чтобы не потерять сознание.
– Я тебя прикрою, – сказал Тофт.
Обходя стороной крупные города с их противовоздушной обороной, они медленно продвигались на запад. Внизу была белая от снега земля, наверху – плотные серые облака. Ветер неуклонно сносил их к югу. Двигатель работал с перебоями. Гэннон хотел посмотреть, сколько осталось горючего, но ничего не мог разобрать. В те минуты, когда туман в его голове немного рассеивался, Дейви начинал волноваться за Тофта.
– У меня все нормально, – успокаивал он командира. – Возвращайся домой, Джо. Возвращайся.
Но Тофт продолжал лететь рядом.
От искалеченного крыла «мустанга» отвалился еще один кусок алюминиевой обшивки. Теперь, что бы Дейви ни делал, ему не удержать самолет в воздухе.
– Я иду на посадку.
– Прыгай, Дейви. Прыгай.
– Лучше попробую сесть.
– Но ты ведь не знаешь, что там, под снегом, – кричал Тофт. – Ради бога, прыгай!
Самолет Дейви быстро терял высоту, земля стремительно неслась ему навстречу.
– Я ни разу не прыгал. И в любом случае уже поздно.
Это были последние слова Гэннона, которые услышал Тофт. «Мустанг» плюхнулся на заснеженное поле, два раза подпрыгнул и съехал в лес, ломая кусты и деревья. Тофт сделал несколько кругов над местом падения, но так и не заметил никакого движения ни в кабине, ни рядом с самолетом.
Глава третья
В последнее время основным занятием Анри Прюдома, которого на самом деле звали Пьером Гликштейном, была подделка документов. Услышав гул самолетов, он подошел к окну. Одна из двух машин спускалась все ниже и ниже, пока не рухнула на поле. Истребитель подскочил метра на четыре, упал, опять подпрыгнул и, сметая все на своем пути, скрылся в чаще.
Пьер наблюдал все это из пристроенного к хлеву закутка на ферме в трех километрах от Ле-Линьона. В доме жили хозяин с женой, оба уже в преклонных годах. У них было около пятнадцати гектаров земли плюс три коровы, лошадь и две свиньи. В здешних местах это считалось богатым хозяйством.
Комнатушка Гликштейна была размером с тюремную камеру, и всю ее обстановку составляли железная кровать, стол, за которым Пьер выполнял свою требующую предельной аккуратности работу, и пара стульев.
В ноябре 1942 года немцы, перейдя демаркационную линию, начали охоту на евреев на юге Франции. Мать Гликштейна попала в лагерь, где ожидала депортации. Пьер, учившийся на архитектора, избежал облав. Выяснив, где содержится его мать и какие бумаги необходимы, чтобы ее вызволить, он изготовил нужные документы. Так Пьер впервые приобщился к своему нынешнему занятию. Он отвез мать в Ле-Линьон и, порасспрашивав там и тут, устроил ее экономкой в дом протестантского пастора в городке неподалеку. Сам же Гликштейн стал главным в округе специалистом по подделке документов, снабжавшим беженцев новыми удостоверениями личности.
Для каждого нового беженца Гликштейн делал целый набор документов, но в Ле-Линьон он их никогда сам не относил, а отдавал владельцу придорожного трактира в Рансе, который переправлял их дальше. Все знали, что где-то в здешних краях есть мастер, изготовляющий фальшивые документы, но никто не знал, что это Пьер. Он редко бывал в городе и ни разу не встречался с Фавером. Для окружающих он был наемным работником у пожилого фермера, и не более того.
Ему было девятнадцать лет.
Когда американский истребитель скрылся в лесу, Пьер выбежал на улицу. Дело шло к вечеру, и начинало темнеть, к тому же снегопад усилился. Ни в самолете, ни поблизости от него не было заметно никакого движения.
У истребителя были обломаны оба крыла, фонарь кабины разбит. Машину завалило ветками, и Пьер не мог точно сказать, есть кто-то в кабине или нет, а тем более – жив летчик или погиб. Юноша попытался высвободить кабину из-под толстых ветвей упавшей ели, но понял, что без топора не обойтись. Он уже решил пойти за ним, когда увидел хозяина фермы, Доде, приближавшегося с вилами в руках.
– Жив? – спросил крестьянин, подойдя ближе.
– Не знаю. Помогите мне убрать это дерево.
Когда они сдвинули в сторону тяжелый ствол, из-под еловых лап показался кожаный шлем.
– Да тут все в крови, – покачал головой Доде.
В этот момент летчик застонал.
– Он жив, – сказал Пьер. – Надо его вытащить.
Вдвоем они подняли раненого вместе с пристегнутым парашютом и опустили на землю.
– Давайте отнесем его в хлев.
Где на руках, а где волоком они перенесли летчика под крышу и положили на наваленную на пол солому. Он был в крови, но еще дышал.
– Посмотри на него. – Встав на колени, Доде снял с летчика шлем. – Совсем еще мальчишка. На голове здоровая шишка. Ему нужен врач.
В Ле-Линьоне был только один врач.
– Кому-то из нас надо съездить в город.
– В такой снегопад мы не скоро обернемся, – возразил старик. – Лучше я отвезу его к пастору.
– Нет, – сказал Пьер. – Я его отвезу.
– Хорошо. Пойду запрягу кобылу.
Пьер принес из своей комнаты чистую тряпку, набрал в ведро воды из колонки, присел и смыл кровь с лица и рук американца, а заодно и со своих рук тоже. Летчик дышал ровно и время от времени словно морщился от боли.
На дно саней старик бросил охапку соломы. Вдвоем они уложили летчика на подстилку и укрыли одеялами. Гликштейн решил прихватить с собой подобранный в лесу аварийный комплект американца и отдать его врачу.
– Вам это не пригодится? – спросил он, приподняв парашют. Шелк – настоящее сокровище для военного времени.
Доде покачал головой:
– Рано или поздно немцы найдут самолет. Не хватает еще, чтоб они нашли у меня в доме парашют. Отдай его пастору. – Он распахнул ворота хлева. – Тебе лучше поторопиться.
Был настоящий мороз. Гликштейн направился к дороге, покрытой снегом будто полуметровым слоем взбитых сливок – ни один пешеход, ни одна машина не нарушили пока эту белую гладь. Пьер оглянулся и посмотрел на широкий, ровный след полозьев. Сегодня здесь ни на чем не проехать, кроме таких вот саней. Пока что немцев можно было не бояться.
Дорога поднималась в гору по узкой просеке между двумя шеренгами угрюмых заснеженных елей, а при выходе из леса расширялась. Близилась ночь, но это было Гликштейну только на руку: пока светло, в городе ему лучше не показываться.
Дорога пошла под гору к реке, и сани покатились быстрее. За мостом был уже Ле-Линьон. Миновав протестантскую церковь, Пьер свернул на узкую улочку и остановился перед домом пастора. Он соскочил на землю и постучал в дверь.
Ему открыла девушка примерно одних с ним лет в деревянных башмаках, толстых шерстяных чулках и шерстяной юбке до колен.
– Мне нужен пастор.
– Его сейчас нет.
– Я привез раненого. Помогите мне занести его в дом.
В большой комнате горел камин. Летчик был тяжелый, но им все же удалось поднять его и положить на обеденный стол.
– Позвоните врачу. Попросите его зайти. – Пьер откинул одеяла, чтобы удостовериться, что летчик жив.
Девушка вышла в коридор, он слышал, как она говорит по телефону. После его каморки Пьеру казалось, будто он попал во дворец, хотя мебель в гостиной была неказистой – массивный шкаф, буфет, несколько стульев с протершейся обивкой.
Девушка вернулась.
– Врач скоро будет. – Она стояла, глядя на раненого. – Он американец?
– Да.
– Летчик?
– Да.
– Он очень симпатичный, правда?
На этот вопрос Пьер не ответил. С минуту оба молчали.
– Как вас зовут? – спросил он.
– Сильви, – сказала Рашель. – Сильви Бонэр.
– Вы дочь пастора?
– Нет. Я присматриваю за его детьми.
Пьер давно не разговаривал с девушками, и ему хотелось продлить удовольствие. Но Сильви, похоже, сейчас интересовал только летчик, которого она вдруг погладила по коротко стриженной голове с какой-то особой нежностью. Заметив, что Пьер на нее смотрит, Сильви поспешно отдернула руку.
– Я только проверила, нет ли у него температуры.
– Откуда вы родом?
– Из Ниццы.
– И я из Ниццы. Где вы там жили?
– Не помню. Мы уехали, когда я была совсем маленькой.
– А где теперь ваши родители?
– Они давно умерли. Дорожная авария, – сказала Рашель.
Хотя она говорила по-французски без акцента, Пьер был уверен: эта девушка – беженка и в таком случае, скорее всего, еврейка. Если б они могли открыться друг другу, они бы обнаружили, что у них много общего, но о подобной откровенности не могло быть и речи. Поэтому он сменил тему:
– А где все?
– Ушли.
– Когда вернется пастор?
– Не знаю, – ответила она и вдруг расплакалась.
– Что случилось?
Пьеру хотелось до нее дотронуться, но он не знал, как это сделать, – слишком давно он не общался с девушками.
– Его… арестовали.
– Когда? – спросил Пьер.
Рашель вытерла глаза рукавом и объяснила, что после обеда за пастором пришли какие-то люди.
– Гестаповцы?
– Нет, это были французы, – ответила она. – Еще они забрали помощника пастора и директора школы.
Все трое играли важную роль в спасении еврейских беженцев, и Гликштейну это было известно. Помощник пастора отвечал за переправку евреев в Швейцарию, директор школы делал фотографии, которые Пьер использовал для изготовления фальшивых документов, а пастор – это пастор.
– Куда их увезли? В чем они обвиняются?
– Никто не знает.
– А мадам Фавер?
– Ей разрешили поехать с ними.
– Где же тогда дети?
– Их забрала к себе жена помощника пастора.
– А вас оставили здесь?
– Да. Поддерживать огонь, чтобы трубы не замерзли.
И принимать курьеров или беженцев, которые могут явиться в отсутствие пастора, подумал Гликштейн.
С улицы громко постучали. В доме у пастора дверь не запирали, весь город об этом знал. В комнату вошел врач, маленький человечек с большим саквояжем. Кивнув им обоим, он подошел к столу, на котором лежал летчик, и откинул одеяла.
Доктору Блюму было пятьдесят восемь лет. Чех из Судетской области, он, приняв французское гражданство и получив разрешение на врачебную практику, сменил фамилию на Лижье. Он по-прежнему плохо говорил по-французски, но в Ле-Линьоне, где никогда раньше не было своего врача, люди не обращали на это внимания.
– Вы, – обратился он к Пьеру, – мы стол к огню нести. – Потом повернулся к Рашели: – Вы помогать.
Стол был тяжелый, а с летчиком – еще тяжелее. Но все-таки втроем они кое-как передвинули его ближе к камину.
– Нужно огонь большой-большой, – сказал врач девушке, а потом обратился к Гликштейну: – Мы его одежда снимать.
Приподняв раненого, они стащили с него куртку. Рашель подбрасывала в огонь поленья и украдкой следила за тем, что делают мужчины. Когда они стали стягивать сначала летный костюм, а затем шерстяную нижнюю рубашку, на лице летчика появилась гримаса.
– Вы делаете ему больно! – вскрикнула девушка.
Раздев американца до пояса, они увидели раны и запекшуюся кровь у него на боку, грудь тоже была вся в крови. Рашель вздрогнула.
– Он не чувствовать, – пробормотал доктор. – Сотрясение. Но череп не сломан, я думаю.
Врач измерил летчику давление.
– Низкий, но не очень, – сказал он, убирая тонометр. – Сегодня он не умирать. Теперь снимать ботинки.
С правой ноги ботинок и два носка снялись легко, но с левой ничего не получалось.
– Нога очень распух. Кость сломан, я думаю.
На лбу у него выступили капли пота. В конце концов ему удалось стащить ботинок, а затем и носки. От подъема до середины икры нога сильно распухла, кожа на ней была неестественно бледной.
– Рентген нет, – пожаловался врач, ощупывая голень, лодыжку и стопу. – Теперь остальная одежда снимать.
Вдвоем с Пьером они стянули с летчика брюки и кальсоны. На левом бедре у него оказалась еще одна рана, таким образом, всего их было пять. Рашель стояла рядом и смотрела.
– Вы на кухня, вода кипятить, – приказал ей Блюм.
Опустив глаза, она вышла из комнаты. Гликштейн протянул врачу аварийный комплект американца:
– Я подумал, вам это может пригодиться, доктор.
Блюм изучил содержимое аптечки: стерильные бинты, пластырь, порошок сульфаниламида для обеззараживания ран – ничего этого у него не было и достать подобные вещи было невозможно. Он взял свой саквояж и пошел на кухню. Вымыв руки, положил хирургические инструменты в кипящую воду и прямо в кастрюле отнес их к импровизированному операционному столу. Вошедшая следом за ним Рашель принесла таз с водой, мыло и губку.
В ранах на боку и на бедре Блюм обнаружил кусочки металла – не то осколки вражеского снаряда, не то обломки его собственного самолета. Один за другим Блюм извлек восемь осколков, бросая их в плошку, которую держал Гликштейн. Затем он зашил раны, присыпал их американским дезинфицирующим порошком и перевязал американским бинтом.
– Теперь нога, – сказал врач. – Сломан здесь, в стопа, я думаю. Возможно, здесь тоже.
У раковины на кухне он смешал гипс с водой. Вернувшись к столу, он привел распухшие суставы в нужное положение и наложил гипс. Когда гипс схватился, доктор Блюм с Гликштейном перенесли укутанного в одеяла летчика в ближайшую спальню. Это была комната Рашели, но ничто не говорило о том, что здесь живет юная девушка.
Ей пришлось ждать за дверью, пока доктор Блюм и Пьер устраивали летчика на кровати. Когда дверь открылась, Рашель увидела, что летчик лежит в ее постели, на ее подушке. Но долго созерцать эту картину ей не дали – врач снова стал щупать больному пульс, загородив его от нее.
– Он скоро просыпается, я думаю, – сказал врач и объяснил Рашели, что ей надо делать.
– Если нужно, я могу здесь остаться, – предложил Пьер.
Молодой человек наедине с девушкой ночью в пустом доме? В 1944 году подобное считалось недопустимым, и все это знали. Об этом и речи быть не могло, и Блюм даже не удостоил парня ответом.
– Я мадам Ламброн присылать, – сказал он, имея в виду местную акушерку. Правда, сегодня она принимала роды на одной из окрестных ферм, поэтому врач добавил: – Если я ее находить. Вы со мной идти. Моя жена хороший суп варить, – сказал он Пьеру и, пожелав Рашели спокойной ночи, направился к выходу.
Девушка попрощалась с обоими за руку и закрыла за ними дверь. Потом она пошла на кухню и заварила травяной чай, чтобы, когда летчик проснется, оставалось только его разогреть. У нее вдруг поднялось настроение. Она в доме не одна, и ей есть о ком заботиться, есть чем заняться, чтобы отвлечься от тревожных мыслей о пасторе Фавере. Ей и в голову не приходило, что, ухаживая за летчиком, она рискует жизнью. Ее жизнь была под угрозой уже оттого, что она была еврейкой.
Гликштейн сидел за столом с доктором Блюмом и его женой. Мадам Блюм говорила по-французски гораздо лучше мужа, поэтому Пьер дождался ужина, чтобы задать мучивший его вопрос.
– Расскажите, что случилось с пастором, – попросил он.
Мадам Блюм слышала, что за пастором приехали из самого Лиона. Главным был французский комиссар полиции Робер Шапотель. Он и его люди забрали также директора школы и помощника пастора и увезли всех троих на грузовике. Мадам Фавер отослала детей к Жизели Анрио, жене помощника пастора, а сама отправилась вслед за арестованными в Лион. По слухам, их повезли в Ле-Верне, самый страшный концентрационный лагерь на территории Франции.