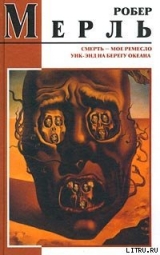
Текст книги "Смерть — мое ремесло"
Автор книги: Робер Мерль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
На следующий день лейтенанта похоронили с воинскими почестями. После салюта ротмистр произнес перед нами небольшую речь. Я нашел, что это прекрасная и, конечно, очень полезная для морального духа людей речь, но что ротмистр слишком хорошо – значительно лучше, чем лейтенант того заслуживал, – отозвался о фон Риттербахе.
19 сентября 1918 года англичане нанесли массированный удар по турецким линиям обороны, и фронт дрогнул. Турецкие войска обратились в бегство. Они двигались на север и остановились только в Дамаске. Но передышка длилась недолго, пришлось снова отступать до Халеба. В начале октября наш отряд перебросили в Адану, на берег Искендеронского залива. Мы пробыли там несколько дней в полном безделье. Сулеймана наградили Железным крестом за мужество, проявленное во время отступления.
В конце октября в лежавших вокруг Аданы деревнях вспыхнула холера. Эпидемия проникла и в город, и 28 октября – за несколько часов – не стало ротмистра Гюнтера.
Печальный конец для героя. Я преклонялся перед ротмистром Гюнтером. Благодаря ему я попал в армию. Но в этот день, да и в последующие дни я сам был поражен тем, как мало тронула меня его смерть. Раздумывая над этим, я понял: вопрос о том, люблю я его или нет, никогда не возникал у меня, как не задумывался я и над своими отношениями с Верой.
Вечером 31 октября стало известно, что Турция заключила перемирие с Антантой.
– Турция капитулировала! – с горечью сказал мне Сулейман. – А вот Германия продолжает борьбу!
Капитан граф фон Рекков принял командование отрядом Гюнтера, и началась репатриация. Мы долго пробирались в Германию через Балканы. Дорога была для нас особенно мучительной, потому что все мы были одеты лишь в легкую колониальную форму, и стоявшие тогда жестокие холода, необычные для этого времени года, производили сильные опустошения в наших рядах.
12 ноября, в Македонии, в серое дождливое утро, когда мы выступали из жалкой деревушки, где провели ночь, капитан граф фон Рекков приказал остановить колонну и выстроиться лицом к левой обочине дороги. Сам он по вспаханному полю отъехал в сторону, чтобы видеть весь отряд. Капитан долго молчал. Он застыл неподвижно, как-то сгорбившись, и его белая лошадь и белое потрепанное обмундирование светлым пятном вырисовывались на черной земле. Наконец он поднял голову, сделал чуть заметный знак правой рукой и необычным, дрожащим, каким-то тусклым голосом объявил:
– Германия капитулировала.
Многие солдаты не расслышали, ряды заволновались, из конца в конец колонны прокатился гул, и фон Рекков крикнул своим обычным голосом:
– Тихо!
Наступила тишина, и он чуть громче повторил:
– Германия капитулировала.
Затем пришпорил лошадь и снова стал во главе колонны. Теперь был слышен лишь топот конских копыт.
Я смотрел прямо перед собой. Мне казалось, будто черная бездна внезапно разверзлась у моих ног. Прошло несколько минут, и чей-то голос завел песню: «Мы побьем, мы победим Францию», несколько драгунов яростно подхватили ее, дождь пошел сильнее, копыта коней не в такт аккомпанировали песне, и внезапно ветер и дождь налетели с такой силой, что песня начала затухать, раздробилась и заглохла. На душе у нас стало еще тоскливее.
1918 год
В Германии наш отряд перебрасывали из одного пункта в другой, так как никто не знал, кому мы приданы. Унтер-офицер Шрадер сказал мне: «Никто нас знать больше не хочет. Мы – заблудший отряд». В конце концов мы добрались до места, где некогда наш отряд был сформирован, – маленького городка Б. Здесь, чтобы не ставить на довольствие, нас поспешили демобилизовать. Нам возвратили нашу штатскую одежду, дали немного денег и справку об увольнении в запас, необходимую для возвращения домой. Я сел на поезд, идущий в Г. В купе я почувствовал, что в своем куцем пиджачишке и брюках, ставших для меня чересчур короткими, я выгляжу смешно. Выйдя в коридор, я заметил стоящего ко мне спиной высокого худого загорелого парня с бритой головой; ветхий пиджак, казалось, вот-вот лопнет на его широких плечах. Человек обернулся – это был Шрадер. Увидев меня, он потер свой сломанный нос тыльной стороной ладони и расхохотался.
– Ах, это ты! Ну и видик у тебя! Что это ты вырядился мальчуганом?
– Да и ты тоже.
Он бросил взгляд на свою одежду.
– Верно, и я тоже.
Его черные брови нахмурились, сошлись на переносице в одну широкую полосу над глазами, с минуту он смотрел на меня, лицо его стало грустным.
– Мы похожи на двух тощих клоунов.
Он побарабанил пальцем по оконному стеклу и спросил:
– Ты куда едешь?
– В Г.
Он свистнул.
– Я тоже. У тебя там родители?
– Они умерли. Но там мои сестры и опекун.
– И что же ты будешь там делать?
– Не знаю.
Он снова молча забарабанил по стеклу, затем вынул из кармана сигарету, разломил надвое и протянул мне половину.
– Видишь ли, – с горечью проговорил он, – мы здесь лишние. Нам не следовало возвращаться. Помолчав, он добавил: – Вот тебе пример, там сидит блондиночка, – он показал большим пальцем на свое купе. – Хорошенькая штучка. Сидит прямо напротив меня. Так ведь она смотрела на меня как на дерьмо!
Он яростно махнул рукой.
– Как на дерьмо! Я со своим Железным крестом и прочим – для нее дерьмо! – И закончил: – Поэтому я и вышел.
Затянувшись, он наклонился ко мне:
– А знаешь, как в Берлине штатские поступают с офицерами, которые выходят на улицу в форме? – Он посмотрел на меня и со сдержанным бешенством сказал: – Они срывают с них погоны!
Комок подступил у меня к горлу:
– Это правда?
Он кивнул головой, и мы некоторое время молчали. Затем он снова заговорил:
– Так что же ты теперь будешь делать?
– Не знаю.
– А что ты умеешь? – И не давая мне времени ответить, он горько усмехнулся и продолжал: – Не трудись, я отвечу за тебя: ничего. А я что умею делать? Ничего. Мы умеем драться, но, кажется, в этом больше не нуждаются. Так вот, хочешь знать, что нас ждет? Мы – безработные. – Он выругался. – Тем лучше, черт возьми! Я предпочитаю всю жизнь быть безработным, чем работать на их проклятую республику!
Он заложил свои большие руки за спину и начал смотреть в окно. Немного погодя он вынул из кармана клочок бумаги и карандаш, приложил бумагу к стеклу, нацарапал несколько строк и протянул мне.
– Вот, возьми мой адрес. Если некуда будет деться, приходи ко мне. У меня только одна комната, но в ней всегда найдется место для старого товарища из отряда Гюнтера.
– А ты уверен, что тебя ждет твоя комната?
Он засмеялся.
– О, это уж точно! – И добавил: – Моя хозяйка вдовушка.
В Г. я сразу отправился к дяде Францу. Было темно, моросил мелкий дождик. У меня не было пальто, и я вымок с головы до ног. Дверь мне открыла жена дяди Франца.
– Ах, это ты, – сказала она, будто мы только вчера расстались. – Заходи же!
Это была длинная сухопарая женщина с пробивающимся на верхней губе и на щеках черным пушком. Вид у нее был скорбный. В полумраке передней она показалась мне сильно постаревшей.
– Сестры твои здесь.
Я спросил:
– А дядя Франц?
Она метнула на меня взгляд с высоты своего роста и сухо ответила:
– Убит во Франции. – Потом добавила: – Надень шлепанцы, наследишь.
Пройдя вперед, она открыла дверь в кухню. Две девушки сидели за шитьем. Я понял, что это мои сестры, но с трудом узнал их.
– Входи же, – сказала тетя.
Обе девушки поднялись и молча стали меня разглядывать.
– Это ваш брат Рудольф, – сказала тетя.
Они подошли, не произнеся ни слова, одна за другой пожали мне руку и снова сели.
– Можешь сесть, это ничего не стоит, – сказала тетя.
Я сел и взглянул на своих сестер. Они всегда были немного похожи, но теперь я уже не мог различить их. Они снова принялись за шитье, время от времени украдкой поглядывая на меня.
– Ты голоден? – спросила тетя.
В голосе ее звучала фальшь, и я ответил:
– Нет, тетя.
– Мы уже поели, но если ты голоден...
– Спасибо, тетя.
Снова наступило молчание. Потом тетя сказала:
– Как ты плохо одет, Рудольф.
Сестры подняли головы и взглянули на меня.
– Это пиджак, в котором я уехал.
Тетя укоризненно покачала головой и взялась за свое шитье.
– Нам не оставили военного обмундирования, потому что у нас была колониальная форма, – добавил я.
Снова наступило молчание. Его опять прервала тетя.
– Вот ты и вернулся!
– Да, тетя.
– Твои сестры выросли.
– Да, тетя.
– Ты найдешь здесь перемены. Жизнь очень тяжела. Есть совсем нечего.
– Я знаю.
Она вздохнула и снова принялась за свою работу. Сестры сидели молча, склонившись над шитьем. Так продолжалось довольно долго. Молчание становилось все тягостней. Напряжение застыло в воздухе, и я понял, в чем дело. Тетя ждала: я должен заговорить о своей матери, расспросить о ее болезни и смерти, и тогда мои сестры начнут плакать, а тетя – патетическим тоном рассказывать о ее кончине. Прямо обвинять меня она не будет, но из ее рассказа получится, что я всему этому причиной.
– Ну и ну, – выждав немного, сказала тетя, – не очень-то ты разговорчив, Рудольф.
– Да, тетя.
– Не скажешь, что ты провел вдали от дома почти два года.
– Да, тетя, два года.
– Не больно ты нами интересуешься.
– Да нет, интересуюсь, тетя.
Комок подступил у меня к горлу, и я подумал: «Вот теперь». Я сжал кулаки под столом и сказал:
– Я как раз хотел вас спросить...
Все три женщины подняли головы и посмотрели на меня. Я запнулся. В их ожидании было что-то жуткое и радостное, от чего кровь застыла у меня в жилах, и не знаю, как это произошло, но вместо того, чтобы сказать: «Как умерла мама?» – я тихо выговорил:
– Как умер дядя Франц?
Наступила тревожная тишина. Мои сестры взглянули на тетю.
– Не говори мне об этом негоднике, – ледяным тоном произнесла тетя. – И добавила: – У него, как и у всех мужчин, в голове было лишь одно – драться, драться, вечно драться и бегать за девками!
Я поднялся. Тетя посмотрела на меня.
– Уже уходишь?
– Да.
– Ты нашел, где остановиться?
Я соврал:
– Да, тетя.
Она выпрямилась.
– Тем лучше. Здесь мало места. К тому же у меня твои сестры. Но на одну-две ночи можно было бы устроиться.
– Спасибо, тетя.
Она смерила меня взглядом с головы до ног и стала рассматривать мой костюм.
– У тебя нет пальто?
– Нет, тетя.
Она размышляла.
– Подожди. У меня, кажется, осталось старое пальто твоего дяди.
Она вышла, я остался наедине с сестрами. Не поднимая глаз, они продолжали шить. Я посмотрел на одну, потом на другую и спросил:
– Кто из вас Берта?
– Я.
Та, что ответила, подняла подбородок, наши глаза встретились, и она тотчас же отвела взгляд. Я был явно на плохом счету в семье.
– Вот, – входя сказала тетя, – примерь-ка.
Это был измятый, вытертый, изъеденный молью зеленый реглан, чересчур большой для меня. Я что-то не помнил, чтобы дядя Франц его когда-нибудь носил. Дядя Франц в штатском всегда выглядел очень элегантно.
– Спасибо, тетя.
Я надел пальто.
– Надо будет его укоротить.
– Да, тетя.
– Оно еще хорошее, знаешь. Если будешь его беречь, оно послужит тебе.
– Да, тетя.
Она улыбалась. У нее был гордый и растроганный вид. Ведь она дала мне пальто. Я ничего не спросил о матери – и все же она дала мне пальто. Я должен был чувствовать себя во всем виноватым.
– Ну, ты доволен?
– Да, тетя.
– Ты в самом деле не хочешь выпить чашку кофе?
– Нет, тетя.
– Ты можешь посидеть еще немного, если хочешь, Рудольф.
– Спасибо, тетя. Мне нужно идти.
– Что ж, в таком случае я тебя не удерживаю.
Берта и Герда встали и подошли пожать мне руку. Обе они были немного выше меня ростом.
– Заходи к нам, когда захочешь, – сказала тетя.
Я стоял на пороге кухни, окруженный тремя женщинами. Плечи пальто спускались у меня чуть не до локтей, а руки совсем исчезли в рукавах. Внезапно все три женщины словно выросли у меня на глазах. Одна из них склонила голову набок, где-то что-то щелкнуло, и мне показалось, что они уже не касаются ногами пола и приплясывают в воздухе, как повешенные арабы в Эс-Салте. Потом лица их растаяли, стены комнаты исчезли, передо мной раскинулась бескрайняя безмолвная ледяная пустыня, и на ее огромных просторах, куда ни кинешь взгляд, не видно было ничего, кроме болтающихся в воздухе, раскачивающихся из стороны в сторону чучел.
– Ты что же, не слышишь? – раздался чей-то голос. – Я говорю тебе, что ты можешь заходить, когда захочешь.
Я ответил «спасибо» и быстро направился к двери. Полы пальто хлестали меня по пяткам. Мои сестры не вышли из кухни. Тетя проводила меня.
– Завтра утром, – сказала она, – тебе надо пойти к доктору Фогелю. Обязательно завтра. Не забудь.
– Не забуду, тетя.
– Что ж, до свиданья, Рудольф.
Она открыла дверь, протянула мне холодную сухую руку.
– Ну как, доволен ты пальто, Рудольф?
– Очень доволен, тетя, спасибо.
Я вышел на улицу. Она сразу же закрыла за мной дверь, и я услышал стук задвижки. Я постоял у двери, прислушиваясь к удаляющимся шагам тети, и мне казалось, что я все еще в доме. Я увидел, как тетя открывает дверь кухни, садится, берет в руки работу. В наступившей тишине сухо и резко тикают часы. Пройдет немного времени, тетя взглянет на моих сестер и скажет, покачивая головой: «Он даже не спросил о своей матери!» И тогда мои сестры заплачут, тетя утрет несколько слезинок – и все трое будут счастливы.
Ночь была холодная, моросил мелкий дождик. Я плохо знал дорогу, и мне потребовалось полчаса, чтобы добраться по адресу, который дал мне Шрадер.
Я постучал, и через несколько минут какая-то женщина открыла мне. Это была высокая блондинка с пышной грудью.
– Фрау Липман?
– Да, это я.
– Я хотел бы видеть унтер-офицера Шрадера.
Она посмотрела на мое пальто и сухо спросила:
– А вам зачем?
– Я его приятель.
– Вы его приятель?
Она еще раз оглядела меня и сказала:
– Входите.
Я вошел, и она снова взглянула на мое пальто.
– Идите за мной.
Я последовал за ней по длинному коридору. Она постучала в какую-то дверь, открыла ее, не дожидаясь ответа, и произнесла, поджав губы:
– Ваш приятель, господин Шрадер.
Шрадер был без пиджака. Он обернулся с видом крайнего удивления.
– Ты? Уже?.. Заходи! Да на тебе лица нет! А пальто! Где это ты раздобыл такое дерьмо? Входи же. Фрау Липман, разрешите вам представить унтер-офицера Ланга из отряда Гюнтера! Это наш национальный герой, фрау Липман!
Фрау Липман слегка кивнула мне, но руки не подала.
– Входи же! – внезапно развеселившись, прокричал Шрадер. – Входи! И вы тоже, фрау Липман! И прежде всего скинь это дерьмо! Вот так, теперь у тебя вид все же приличнее! Фрау Липман! Фрау Липман!
– Да, господин Шрадер? – проворковала фрау Липман.
– Фрау Липман, вы меня любите?
– Ах, – воскликнула фрау Липман, бросая на него нежный взгляд, – вы говорите такие вещи, господин Шрадер! Да еще в присутствии вашего приятеля!
– Потому что, если вы меня любите, вы сейчас же сходите за пивом и бутербродами с... с чем найдете... для этого парня, для меня и для вас тоже, фрау Липман! Если, конечно, вы окажете мне честь отобедать с нами, фрау Липман!
Он вскинул густые брови, плутовато подмигнул ей, обнял и, присвистывая, проделал с ней по комнате несколько па вальса.
– Ах, господин Шрадер! – кокетливо засмеялась фрау Липман. – Я слишком стара, чтобы танцевать! Старая лошадь, вы знаете, не тянет!
– Что? Это вы-то стары? Разве вы не знаете французской поговорки?
Он шепнул ей несколько слов на ухо, и она затряслась от смеха. Он отпустил ее.
– Послушайте, фрау Липман, потом вы принесете сюда тюфяк для этого парня. Он сегодня останется ночевать здесь.
Фрау Липман перестала смеяться и поджала губы.
– Здесь?
– Ну, конечно! – воскликнул Шрадер. – Он сирота. Не спать же ему на улице, черт возьми! Он герой, фрау Липман! Надо же что-то сделать для нашего национального героя!
Она надула губы, а он принялся кричать:
– Фрау Липман! Фрау Липман! Если вы откажете, я не знаю, что я с вами сделаю!
Он схватил ее, поднял как перышко и забегал по комнате с криком: «Волк ее уносит! Волк ее уносит!»
– Ах, ах! Да вы с ума сошли, господин Шрадер! – проговорила она, смеясь, как маленькая девочка.
– Живо, мое сокровище! – воскликнул он, опустив ее на пол, как мне показалось, довольно резко. – Живо, моя любовь!
– Ах, только ради того, чтобы доставить вам удовольствие, господин Шрадер.
Когда она уже выходила из комнаты, он довольно сильно шлепнул ее по заду. «Ах, господин Шрадер!» – вскрикнула она, и из коридора донесся ее удаляющийся воркующий смех.
Немного погодя она вернулась. Мы пили пиво, закусывали хлебом с салом, и Шрадер уговорил фрау Липман принести нам своей водки и еще пива. Мы пили снова, Шрадер болтал без умолку, вдова становилась все краснее и ворковала все нежнее. В одиннадцать часов они выскользнули из комнаты, а полчаса спустя Шрадер вернулся один, неся горсточку сигарет.
– Бери, – мрачно проговорил он, бросая половину сигарет на мой тюфяк, – нужно же как-то помочь национальному герою!
На другой день после полудня я отправился к доктору Фогелю. Я назвал свое имя горничной, через минуту она вернулась и сказала, что господин доктор скоро примет меня. Однако я прождал в приемной почти сорок пять минут. Дела доктора Фогеля, по-видимому, за годы войны стали процветать – комната была обставлена с такой роскошью, что я ее не узнал.
В конце концов снова явилась горничная и провела меня в кабинет. Доктор Фогель сидел за огромным пустым письменным столом. Он пополнел, поседел, но лицо его было по-прежнему красивым.
Он взглянул на мое пальто, сделал мне знак приблизиться, холодно пожал руку и указал на кресло.
– Вот ты и вернулся, Рудольф, – сказал он, кладя обе ладони на стол.
– Да, господин доктор Фогель.
Не двигаясь, он пристально смотрел на меня. Его лицо с правильными крупными чертами – «лицо римского императора», как говорил мой отец, – было похоже на застывшую красивую маску, из-за которой испытующе следили за мной маленькие серо-голубые бегающие глазки.
– Рудольф, – торжественно произнес он хорошо поставленным голосом, – я не буду тебя упрекать. – Он сделал паузу и задержал на мне взгляд. – Да, Рудольф, – продолжал он, делая ударение на каждом слове, – я не буду тебя ни в чем упрекать. Что сделано, то сделано. Ответственность, которая лежит на тебе, и так достаточно велика – не буду усугублять ее. Я тебе уже писал, что я думаю о твоем дезертирстве и о непоправимых последствиях твоего поступка.
Он с огорченным видом откинул голову и добавил:
– Полагаю, об этом я уже достаточно сказал. – Он приподнял правую руку. – Что было, то было. Теперь речь идет о твоем будущем.
Он многозначительно взглянул на меня, словно ожидая ответа, но я молчал. Слегка наклонив голову вперед, он как бы собирался с мыслями.
– Тебе известна воля твоего отца. Теперь его представляю я. Я обещал твоему отцу сделать все, что в моих силах, как в моральном, так и в материальном отношении, чтобы обеспечить выполнение его воли.
Он поднял голову и взглянул мне в глаза.
– Рудольф, я должен задать тебе вопрос: намерен ли ты уважать волю своего отца?
Наступило молчание. Доктор Фогель барабанил пальцами по столу.
Я ответил:
– Нет.
Доктор Фогель на мгновение закрыл глаза, но ни один мускул на его лице не дрогнул.
– Рудольф, – произнес он внушительно, – воля покойного священна.
Я молчал.
– Тебе известно, – снова заговорил он, – что твой отец сам был связан обетом.
Я по-прежнему молчал, и он добавил:
– Священным обетом.
Я продолжал молчать. Подождав немного, он снова заговорил:
– Сердце твое зачерствело, Рудольф. Должно быть, это следствие твоего проступка. Но верь мне, Рудольф: все, что от бога, – хорошо. Ибо, наказывая тебя, создавая пустоту в твоем сердце, божий промысел вместе с недугом в то же время как бы дает тебе целебное средство и создает условия для искупления вины. Рудольф, – после минутной паузы продолжал он, – когда ты покинул свою мать, лавка ваша хорошо торговала, ваше материальное положение было отличным... Или, во всяком случае, – добавил он с высокомерием, – достаточным. После смерти твоей матери я сдал лавку в аренду. Арендатор – работящий человек и добрый католик. Он вне всяких подозрений. Но дела идут действительно очень плохо, и того, что теперь приносит лавка, едва хватает на содержание твоих сестер.
Он скрестил руки на груди.
– До сих пор я весьма сожалел об этом печальном положении, но сегодня скажу: то, что я принимал за злой рок, на самом деле – скрытое благодеяние. Да, Рудольф, все, что от бога, – хорошо. Его воля мне ясна: божественный промысел указывает тебе путь.
Он сделал паузу и посмотрел на меня.
– Рудольф, – снова заговорил он, возвысив голос, – ты должен знать, что у тебя есть одна только возможность, одна-единственная возможность продолжать образование в университете. Ты должен стать теологом, получить епископскую стипендию и жить в какой-нибудь семье. Все, что потребуется сверх того, я авансирую лично.
В его голубых глазах внезапно зажегся торжествующий огонь, и он быстро опустил веки. Положив снова свои холеные руки ладонями на письменный стол, он застыл в ожидании. Я посмотрел на его невозмутимое красивое лицо и возненавидел его всеми силами души.
– Ну так как же, Рудольф? – спросил он.
Я проглотил слюну и сказал:
– Не могли бы вы авансировать мне средства для других занятий?
– Рудольф, Рудольф! – проговорил он, снисходя почти до улыбки. – Как ты можешь просить меня об этом? Как ты можешь просить меня о помощи, чтобы выказать неповиновение твоему отцу, когда я – исполнитель его последней воли?
На это нечего было ответить. Я поднялся. Он мягко произнес:
– Садись, Рудольф, я не кончил.
Я сел.
– Ты охвачен бунтом, Рудольф, – с грустью произнес он своим проникновенным голосом, – и ты не хочешь видеть указующий перст провидения. А между тем все совершенно ясно: разорив тебя, отбросив тебя в нищету, провидение указывает тебе единственный возможный путь, путь, который оно избрало для тебя, путь, который наметил твой отец...
На это я тоже ничего не ответил. Доктор Фогель снова скрестил руки на груди, немного наклонился вперед и, пристально глядя на меня, сказал:
– Ты уверен, Рудольф, что этот путь не для тебя? – Затем он понизил голос и мягко, почти ласково спросил: – Можешь ли ты с уверенностью сказать, что ты не создан быть священником? Спроси себя, Рудольф. Неужели ничто не призывает тебя к этому поприщу? – Он поднял свою красивую седую голову. – Разве тебя не влечет стать священником?
Я молчал, и он снова заговорил:
– Что ж? Ты не отвечаешь, Рудольф? Ты когда-то мечтал стать офицером. Но ведь ты знаешь, Рудольф, немецкой армии больше не существует. Подумай, чем ты можешь заняться теперь? Не понимаю я тебя.
Он сделал паузу, но так как я все еще молчал, он повторил с некоторым раздражением:
– Не понимаю тебя. Что мешает тебе стать священником?
Я ответил:
– Отец.
Доктор Фогель вскочил, кровь бросилась ему в лицо, глаза его сверкнули, и он крикнул:
– Рудольф!
Я тоже поднялся. Он глухо произнес:
– Можешь идти!
Я уже пересек в своем слишком длинном пальто всю комнату и дошел до двери, когда услышал его голос:
– Рудольф!
Я обернулся. Он сидел за письменным столом, вытянув перед собой руки. Его прекрасное лицо снова было непроницаемо.
– Подумай. Приходи, когда захочешь. Мое предложение остается в силе.
Я сказал:
– Спасибо, господин доктор Фогель.
Я вышел. На улице моросил холодный дождь. Я поднял воротник пальто и подумал: «Ну вот, кончено. Все кончено».
Я побрел куда глаза глядят, какой-то автомобиль чуть не сбил меня с ног. Шофер выругался, и только тогда я заметил, что шагаю по мостовой, как солдат в строю. Я поднялся на тротуар и продолжал свой путь.
Так я добрался до оживленных улиц. Какие-то девушки, перегнав меня, со смехом обернулись, глядя на мое пальто. Проехал грузовик, битком набитый солдатами и рабочими в спецовках. У всех были ружья и на рукавах красные повязки. Они пели «Интернационал». Несколько голосов в толпе подхватили песню. Меня обогнал худощавый мужчина с непокрытой головой и опухшим лицом. На нем была серо-зеленая пехотная форма. На плечах сукно было темнее. Я понял, что у него сорваны погоны. Проехал еще один грузовик с рабочими. Они потрясали ружьями и кричали: «Да здравствует Либкнехт!» Толпа повторяла как эхо: «Либкнехт! Либкнехт!» Теперь она стала такой плотной, что я не мог выбраться. Внезапно в толпе произошло какое-то движение, и я чуть не упал. Я невольно ухватил за руку стоявшего рядом человека и пробормотал извинение. Человек поднял голову. Это был довольно пожилой и прилично одетый мужчина с грустными глазами. Он ответил: «Ничего». Толпа колыхнулась, и я снова навалился на него. «Кто такой Либкнехт?» – спросил я. Он подозрительно посмотрел на меня, огляделся вокруг и, не отвечая, отвел глаза. В это время раздались выстрелы, в домах стали закрывать окна, люди побежали, увлекая меня за собой. Я заметил справа переулочек и, выбравшись из сутолоки, свернул в него и побежал. Минут через пять я убедился, что остался один в лабиринте маленьких, незнакомых мне улочек. Я пошел наудачу по одной из них. Дождь перестал. Вдруг кто-то крикнул:
– Эй, ты, еврейчик!
Я обернулся. Метрах в десяти от себя, на перекрестке, я увидел солдатский патруль во главе с унтер-офицером.
– Эй ты там!
– Я?
– Да, ты.
Я злобно огрызнулся:
– Я не еврей!
– Ну да, конечно! – воскликнул унтер-офицер. – Только еврей может вырядиться в такое пальто!
Солдаты, глядя на меня, загоготали. Я затрясся от злости.
– Не смейте называть меня евреем!
– Эй, ты, парень, полегче! – крикнул унтер-офицер. – Забыл с кем разговариваешь?! Ну-ка, предъяви документы!
Я подошел к нему, остановился в двух шагах, вытянулся в струнку и отчеканил:
– Унтер-офицер Ланг, драгунский батальон двадцать третьего полка, Азиатский корпус.
Унтер-офицер приподнял брови и коротко произнес:
– Документы!
Я протянул ему бумаги. Он долго и недоверчиво изучал их, затем лицо его прояснилось, и он с силой хлопнул меня по спине:
– Прости, драгун! Все из-за твоего пальто, понимаешь. У тебя чудной вид – ты так смахиваешь на одного из этих спартаковцев.
– Ничего.
– А что ты тут делаешь?
– Прогуливаюсь.
Солдаты засмеялись, и один из них заметил:
– Выбрал время для прогулок!
– Он прав, – сказал унтер-офицер, – иди-ка домой. Здесь будет жарко.
Я взглянул на него. Всего два дня назад я тоже носил форму, командовал людьми, получал приказы от командиров.
Я вспомнил, что кричали в толпе, и спросил:
– Может, ты мне скажешь, кто такой Либкнехт?
Солдаты захохотали, улыбнулся и унтер-офицер.
– Как, ты не знаешь? Откуда же ты свалился?
– Из Турции.
– Ах, верно! – сказал унтер-офицер.
– Либкнехт, – проговорил черненький солдат, – это новый кайзер!
Все снова засмеялись. Затем высокий белокурый солдат с грубым лицом взглянул на меня и медленно произнес с сильным баварским акцептом:
– Либкнехт – это тот негодяй, из-за которого мы торчим здесь.
Унтер-офицер смотрел на меня, улыбаясь.
– Послушай, – проговорил он, – иди-ка домой.
– И если встретишь Либкнехта, – крикнул черненький, – скажи ему, что его ждут!
Он потряс ружьем, и товарищи его засмеялись. Это был непринужденный и радостный солдатский смех.
Я слушал, как он затихал вдали, и сердце мое сжималось. Я был штатским, меня ожидал у Шрадера жалкий тюфяк, я не знал никакого ремесла, а денег в кармане было всего на неделю.
Я снова оказался в центре города и был поражен, увидев, какое там царит оживление. Магазины были закрыты, но на улицах толпился народ, сновали машины. Никто бы не сказал, что десять минут назад здесь стреляли. Я машинально шел все прямо и прямо, не сворачивая, и вдруг у меня начался припадок. Совсем близко от меня прошла какая-то женщина, она засмеялась, широко открыв рот, и я заметил розовые десны и блестящие, показавшиеся мне огромными, зубы. Меня обуял страх. Передо мной замелькали лица прохожих, они вырастали, потом исчезали, внезапно превращались в круги: глаза, нос, рот, их цвет – все стиралось, оставались лишь белесые диски, похожие на белки слепца. Постепенно они приближались ко мне, увеличиваясь и трясясь, как студень. Они росли и подступали все ближе и ближе, почти касаясь моего лица, а я дрожал от ужаса и отвращения. Что-то щелкало у меня в мозгу, круг исчезал, затем появлялся новый в десяти шагах от меня и, приближаясь, разрастался. Я закрыл глаза и остановился. Страх парализовал меня; казалось, чья-то рука сжала мне горло, пытаясь задушить.
Меня бросило в пот, я глубоко вздохнул, понемногу успокаиваясь. Я продолжал брести без цели. Все предметы вокруг стали какими-то бледными, расплывчатыми.
Внезапно, помимо своей воли, как если бы кто-то крикнул мне «Стой!» – я остановился. Передо мной зияли каменные ворота с красивой кованой решеткой. Калитка в решетке была открыта.
Я перешел улицу, вошел в ворота и поднялся по ступенькам. Я увидел знакомое грубое лицо и услышал:
– Вам чего?
Я остановился, огляделся – все было расплывчато и серо, как во сне – и ответил глухим голосом:
– Я хотел бы видеть отца Талера.
– Его больше нет здесь.
– Больше нет? – переспросил я.
– Нет.
Я сказал:
– Я его бывший ученик.
– Мне так и показалось. Постойте, вы не тот ли парнишка, который в шестнадцать лет ушел добровольцем на войну?
– Да, это я.
– В шестнадцать лет!
Наступило молчание. Все по-прежнему было серым и бесформенным. Лицо человека, казалось, парило надо мной, как воздушный шар. Меня снова обуял страх, я отвел глаза и сказал:
– Могу я войти посмотреть?
– Конечно. Ученики на занятиях.
Я поблагодарил его и вошел. Я миновал двор для младших, потом двор для средних и наконец добрался до нашего двора. Я пересек его по диагонали и увидел перед собой каменную скамью. Это была та самая скамья, на которую уложили Вернера.
Сделав крюк, чтобы обойти ее, я двинулся дальше, дошел до стены часовни, сделал полуоборот, приставил каблуки к стене и начал отсчитывать шаги.
Так я шагал довольно долго. И вдруг мне показалось, будто кто-то ласковый и сильный поднял меня на руки и стал баюкать.
Когда у нас оставалось всего несколько пфеннигов, Шрадер нашел наконец нам работу на маленьком заводе, где делали сейфы. Шрадера определили в покрасочный цех. Это давало ему право на пол-литра обезжиренного молока в день.
Я получил легкую работу. Я должен был молотком вгонять в петли стальной цилиндрический калибр, чтобы они свободно надевались на штыри; вогнать его, два раза слегка стукнуть сбоку, чтобы обеспечить зазор, и вынуть левой рукой – вот и все. Я клал на верстак четыре дверцы – одна на другую. Как только дверца бывала готова, я снимал ее и приставлял к стойке. Когда были готовы все четыре дверцы, я переставлял их к другой стойке, слева от сборщика, который их навешивал.
Дверцы были довольно тяжелые, и вначале я переносил их по одной. Но примерно через час, чтобы выиграть время, мастер приказал мне брать сразу по две дверцы. Я повиновался, и вот тут-то все и началось. Сборщик, пожилой рабочий по имени Карл, не поспевал за мной, так как, кроме навески дверец, ему приходилось еще ворочать тяжелые, громоздкие сейфы и грузить их на тележку для отправки в другой цех на покраску. Я опережал его – и около него образовался завал. Мастер заметил это и велел старому Карлу поторапливаться. Карл стал работать быстрее, но все равно продолжал отставать от меня и каждый раз, когда я приносил дверцы, шептал: «Помедленнее, парень, помедленнее!» Но как я мог работать медленнее, если мне приказали носить по две дверцы? В конце концов около старого Карла нагромоздилось столько дверец, что к нему снова подошел мастер и вторично, на этот раз более резко, сделал замечание. Карл стал работать еще быстрее, весь раскраснелся, вспотел, но все было тщетно. Гудок возвестил конец рабочего дня, а завал около него не уменьшился.







