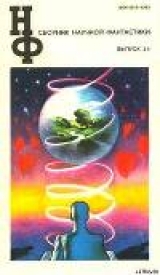
Текст книги "НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 24"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Соавторы: Кир Булычев,Пол Уильям Андерсон,Роберт Сильверберг,Еремей Парнов,Роман Подольный,Дмитрий Биленкин,Владимир Гаков,Евгений Брандис,Галина Панизовская,Геннадий Прашкевич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ
Галактическое кольцо
Озаренные невероятным небом Гималаев дикие горы и тень старца благословляющего – на дикой скале. «Тень Учителя» назвал свое полотно Николай Рерих.
Как многолика Индия! Страна «Махабхараты» и «Рамаяны», Упанишад и Вед, страна атомной энергии и спутника «Ариабата», Этот спутник, созданный руками индийских ученых, был назван в честь древнего математика и мудреца. Но на околоземную орбиту его вывела советская ракета, запущенная с космодрома, расположенного на нашей земле. Знаменательное совпадение и отнюдь не случайное! Вспомним хотя бы «Русь-Индия» Рериха:
«Если поискать да прислушаться непредубежденно, то многое значительное выступает из пыли и мглы. Нужно, неотложно нужно исследовать эти связи. Ведь не об этнографии, не о филологии думается, но о чем-то глубочайшем и многозначительном. В языке русском столько санскритских корней… Пора русским ученым заглянуть в эти глубины и дать ответ на пытливые вопросы. Трогательно наблюдать интерес Индии ко всему русскому… Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские».
Читая эти строки, я думаю об индийском гении, который устремился в космическую дверь, распахнутую мощью и дружбой нашей страны. Не это ли смутно грезилось мудрецу и художнику среди вечных гималайских снегов?
И еще я вспоминаю моего учителя, завершившего великое творение – «Туманность Андромеды» в знаменательный год, с которого начался отсчет космической эры.
Однажды Иван Антонович Ефремов – это было уже незадолго до его смерти – подарил мне зеленый от древней патины обломок буддийской статуи. Изящная бронзовая рука, пальцы которой соединялись в фигуру, известную как «колесо учения». Он нашел руку неведомого бодхисаттвы в Гобийской пустыне у подножия холма, среди раскаленного бурого щебня. По этому щебню, вздымая клубы удушливой пыли, проносились когда-то крепкие низкорослые кони монгольских завоевателей, тянулись купеческие караваны с шелком, этот холм, возможно, видел нукеров Железного Хромца – Тимура. Но тонкие бронзовые пальцы с удлиненными изысканными ногтями так и не разомкнули свое символическое кольцо – чакру, колесо причин и следствий.
– В такой вот круг замыкаются наука и искусство, – сказал Ефремов.
Ему было свойственно глубочайшее проникновение в суть вещей, ясное осознание удивительной взаимосвязи всех проявлений стихийных сил и целенаправленных движений человеческой истории. Он мыслил точными законами науки и постигал сущность вещей интуитивным методом искусства. Столь цельное восприятие действительности доступно очень немногим.
Рерих навеки запечатлел в своих «мыслеобразах» космическое единство мира, проявляющее себя в прекрасном. Ефремов во многом похож именно на Рериха. Он был художником и ученым, бескорыстным мудрецом, по-детски влюбленным в жизнь, природу и во всех прекрасных женщин, которые только существовали на нашей земле, Он знал древнюю историю так, как не может знать ее узкий специалист, даже самый эрудированный, самый талантливый. Для Ефремова история никогда не была тем, чем она, собственно, и является – прошлым. Недаром в его книгах все еще продолжали жить люди, создавшие бессмертные храмы Элоры, Акрополь, пирамиды в Гизе и на Юкатане. Более того, он населил свою, ефремовскую, Ойкумену саблезубыми тиграми, которые вымерли за многие тысячи лет до путешествия Баурджеда, и рассыпал в пустынях драгоценные пряжки, сработанные искусными мастерами Атлантиды, которой, возможно, никогда не было.
Для Ефремова выдумка не являлась самоцелью, а лишь гипотезой, восполняющей недостающее звено, допущением, способным привести в систему сумятицу противоречивых фактов, чтобы идти вперед, а не топтаться бесплодно на одном месте.
У него были три большие любви: языческая Русь, прекрасная Эллада и таинственная Древняя Индия. Всю свою жизнь он интуитивно стремился объединить неведомые истоки великих этих культур. Лемурия или Атлантида были для него лишь временными мостами через туманные пропасти, где стынет холодный дым тысячелетий. Но жажда увидеть была так велика, но стремление схватить и навсегда сохранить неуловимый и прекрасный облик так властительно, что писатель даже в далеком космическом будущем различал отголоски игрищ с быком, Элевсинских мистерий, Геркулесовых испытаний. Он рвался к истокам, где рождаются люди и боги, ремесла и свободные искусства. Он часто употреблял слово «мастер» в древнем значении этого слова. И здесь вновь проявлялось присущее ему единство видения.
Все было для него одинаково важным – красота человеческого тела и блеск самоцветов, зеркальная упругость древних мечей и звон глиняного глазурованного горшка, пластика танца и тайный язык пальцев в древнеиндийском хатакали, монгольская Гоби и сверкающие ландшафты дальних миров. Такая же высокая жажда необъятного, такой же целеустремленный полет к невозможному были характерны для Рериха. Великий русский художник тоже уходил вглубь, чтобы лицезреть «Рождение мистерий», и поднимался в заоблачные дали, чтобы видеть, как золотые рыбы светил плывут сквозь туманности шлейфа «Матери мира», проникал в изначальную общность изукрашенных рунами ледниковых глыб Карелии и гималайских скал, на которых между золотистыми пятнами лишайника высечены знаки Гэсэра, героя грандиозного эпоса Азии,
На картине «Знаки Гэсэра» Рерих изобразил круторогих баранов, каких рисовали на стенах пещер первобытные люди, и меч героя, почитаемого как бог войны.
«Не карай нас карою строгой,
Ты нам кости и жилы оставь,
Наши злые души не трогай!»
И в пыли, у Гэсэровых ног.
Распростерлись они, как мох.
«Гэсэр»
Подвигом Гэсэра равно восхищались и Рерих и Ефремов. Рериху дано было свершить великий синтез, олицетворение в законченном храме того смутного лепета, который слышится ныне в разноязыких словах, проблескивает в старинных орнаментах, мерещится в очертаниях древней архитектуры. Для Рериха не были загадкой «совпадения» слов в индоевропейских языках и санскрите. За древним названием «веды» вставало славянское «ведун», русское слово ведение – знание. И знание это потом продиктовало Ефремову гордое имя Веды Конг-прекрасной жительницы Земли третьего тысячелетия новой эры. Архаичное и вечно новое имя. По-чешски, кстати, академия наук называется академией вед. Для Рериха «путь из варяг в греки» был не столько историко-географическим понятием, сколько обобщенным свидетельством единства и взаимопроникновения культур. История не оставила нам столь же ясных следов существования встречной дороги «из арьев в славяне», но Рерих умел различать горящие в ночи вехи ее. Санскритское «набхаса» и русское «небеса», ведическое имя бога огня Агни и наше «огонь» – это не случайные совпадения, это плывут по реке времени светы в кокосовых скорлупках («Огни на Ганге» Рериха). И даже имя Дар Ветер – другого героя «Туманности Андромеды» – потомка россиян закономерно вплетается в огненный этот узор, ибо на санскрите слово «ветер» звучит как «ватарь».
Не случайно стремился Ефремов даже в далеком будущем проследить блистательные вехи единой праосновы великих культур Земли. Поэтому и отправляет гордое и свободное человечество в первую внегалактическую экспедицию звездолет под названием «Тантра», ибо тантра – это тайная мудрость ведическая, которую, по преданию, принес на землю сам всемогущий Шива – владыка танца, движущее начало Вселенной.
Так замыкается колесо знания.
Или только кольцо памяти?
Конечно, книги Ефремова можно читать и любить, даже не подозревая о присущей им многозначной символике. Обширная эрудиция и писательское мастерство автора сделали бы их столь же популярными и без потаенной символической глубины. Миллионные тиражи переведенной на десятки языков «Туманности Андромеды» явно свидетельствуют о том, что успех романа меньше всего обусловлен императивными соответствиями типа «Тантра» – тантризм. Но для проникновения, как говорят, в «творческую лабораторию» писателя они необыкновенно важны и совершенно необходимы для характеристики его личности. Доктор биологических наук, профессор палеонтологии И. А. Ефремов отличался не только глубокими знаниями многих современных наук, но пристально интересовался мудростью древних, в том числе и такими тупиковыми ветвями «веденья», как алхимия или астрология. И это было обоснованно и закономерно. Без полного знания прошлого во всей противоречивой его сложности и будущее останется тайной за семью печатями. Ефремов одинаково свободно ориентировался в древних системах хинаяны и махаяны, пифагорейских и гностических учениях, знал пять ступеней йоги, интересовался несторианством и манихейством, изучал обычаи народов Средней Азии, был знатоком парусного искусства и самозабвенно любил камни. Трудно даже перечислить все то, чем он увлекался, что предметно-осязаемо знал. И знание это никогда не было академически сухим, книжным. Его одухотворяло сердце большого доброго человека, который прожил разнообразную и яркую жизнь.
Штурманом он ходил в каботажные плавания вдоль берегов Дальнего Востока, палеонтологом вел раскопки в Карелии, в Архангельской и Вологодской областях. И все это на заре жизни, в восемнадцать-двадцать лет. Потом, став известным ученым, удостоенным высших квалификаций за одни лишь научные труды, без защиты диссертаций, Ефремов объездил чуть ли не всю Азию. Не как турист, разумеется, а как главный участник больших геологических и палеонтологических экспедиций. Он работал в Заполярье и Сибири, прошел от Урала до Якутии, пересек великие пески Кызыл и Кара Центральной и Средней Азии, побывал в Китае и Монголии. О монгольской своей экспедиции, в результате которой в пустыне Гоби было найдено знаменитое ныне кладбище динозавров, он написал захватывающе интересную, романтическую книгу «Дорога ветров». Ни перед чем он не остался в долгу. Алтайские «беляки» и «гольцы», хмурое северное небо и дремучие сибирские «урманы», сопки и пади Приморья, пески и черный, покрытый загаром пустыни щебень Средней Азии, суровая тоска закатов в шхерах Карелии и неповторимая красно-синяя гамма монгольской пустыни – все это так или иначе воплотилось в его удивительных рассказах о людях «бродячих» профессий: палеонтологах, геологах, археологах, летчиках и моряках.
Стоит только взять с полки книгу, и мы увидим все это глазами Ефремова, нам будет дано на мгновение почувствовать природу так, как воспринимал ее он. Мы поплывем на пароходе «Коминтерн» в пять тысяч регистровых тонн через Цугарский пролив из Петропавловска в Хакодате («Встреча над Тускаророй»), срывая пену с атлантической волны, понесемся на чайном клипере («Катти Сарк»), вместе с героическим «Котласом» погрузимся в холодные, серые, как свежеразрезанный лист свинца, воды Северного моря («Последний Марсель»), Мы поскачем по пустыням на лошадях, понесемся на вездеходах, затрусим на ослах или верблюдах. Вместе с «синими людьми» – туарегами – устремимся к затерянным в сердце Сахары оазисам, над которыми дрожит в сухом и горячем воздухе странный мираж («Афанеор, дочь Ахархеллена»). Шестиосные «ЗИЛы» повезут нас мимо заросших иляком каракумских барханов, мимо звонких такыров, сверкающих на солнце кристаллами соли и гипса, к черной долине, заваленной костями некогда живших на земле исполинов («Тень Минувшего»). В полдневный жар, увязая по ступицы в песке, потащимся мы на колхозной подводе по наезженной пыльной дороге, вдоль которой растет стальной голубоватый мордовник, чтобы увидеть в звездной кристальной ночи «Свет Пустыни» – древнюю каменную обсерваторию «Нур-и-Дешт». И всегда впереди нас ждет Приключение. Чудо, которое таинственно возникает из обыденности, а не сваливается с неба. И тем сильнее и глубже будет наше удивление, чем привычнее окажутся жизненные реалии, чья внутренняя сущность предстанет вдруг сложной и противоречивой. Порой двойная эта сущность привычного поражает, как удар молнии, напоминая о том, что человек – лишь частичка необъятной природы, чью грозную суть никому не дано исчерпать до конца, Мы пройдем по темным галереям и штрекам забытых выработок («Путями Старых Горняков»), вдохнем пряный больной аромат горящего спиртовым жарким пламенем багульника под незаходящим полуночным солнцем якутской тундры («Алмазная Труба»), увидим туманные фантомы над каменной чашей Дены-Дерь («Озеро Горных Духов»).
В закопченных пещерах в долине, окаймленной кедрами сибирской реки Чары, нас ждут нарисованные углем и охрой фрески («Голец Подлунный»), алмазный глетчер недоступного Ак-Мюнгуза бережет для нас богатырский сказочный меч («Белый Рог»), и мы бредем среди пыльного чия по зеленой и горькой от полынного ветра степи, завороженные сверканием льда, отуманенные светлой грустью легенды. Это для нас цветет во флоридской лагуне дерево жизни и змеятся многоцветные сверкающие блики, обещая победу и радость, но медля с разгадкой («Бухта Радужных Струй»).
Мы закрываем последнюю страницу, и тайна улетает, как тот приводнившийся в таинственной бухте самолет, как «альбатрос», который покинул ее навсегда и «вскоре перенес обратно через океан всю маленькую группу людей, удостоенных судьбой увидеть одно из неизвестных чудес природы».
Удостоенных судьбой! Как это верно и гордо сказано! Не о том ли писал поэт:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Прекрасное у Ефремова неотделимо от трагического. В этом диалектическом единстве – оно было характерно для мироощущения Гегеля – основа мудрого оптимизма, мужественной уверенности в конечном торжестве человеческого познания.
В страшных фиолетовых песках Джунгарской Гоби погибли те, кого судьба – вновь это слово – удостоила встречи с неведомым. Писатель находит единственно верные строки для финала, простые и мужественные: «Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном, после того как более удачливым, чем я, исследователям посчастливится его встретить». Стоит обратить внимание на это: посчастливится! По Ефремову, встреча с неведомым – счастье для исследователя, даже если платить за то придется жизнью. Здесь нечто большее, чем просто вера во всемогущество науки. Это неколебимое знание высокого и главного предназначения человека-познавать новое. Именно жажда познания влечет ефремовских героев в тайгу, пустыни, горы, моря, космические дали. Лик неизвестного может быть страшным. Как олгой-хорхой в монгольской пустыне. Как коричневые медузы на Планете Мрака («Туманность Андромеды»). И потому ефремовские геологи и космонавты уходят в поиск, как на бой. Разве не величие человеческого духа воспел Ефремов в «Юрте Ворона»? Не суровое упоение боем?
Единоборство с неведомым требует от человека не меньшего мужества, чем схватка с врагом. Разве не навстречу смерти ползет, напрягая последние силы, разбитый параличом геолог Александров по залитому водой плато Хюндустыйн Эг в раздираемой молниями ночи? Разве ядовитые испарения озера Горных Духов или обледенелые пропасти Белого Рога менее опасны, чем пулеметный огонь или штормовое холодное море, по которому рыщет неприятельский рейдер? Целое, как известно, неотрывно от единичного. Этому учит нас философия и простой жизненный опыт. Победа горстки моряков с «Котласа» – это крохотный вклад в грядущую большую победу над врагом, и потому в конечном счете от нее зависит успех всей войны.
Ефремовские геологи – не одиночки. Они вступают в смертельное единоборство со слепыми силами природы, имея за спиной всю страну, которая остро нуждается и в новых месторождениях цветных металлов, и в ртутных озерах, и в трубках взрыва, хранящих алмазы. И тем весомее, тем символически обобщеннее предстает перед нами победа, добытая почти на грани смерти. Масштабы открытия при этом особого значения не имеют. Тайна эллинского секрета и свинцовые руды Хюндустыйн Эг, якутские алмазы и воскрешение картин далекого прошлого, золотой меч и светящиеся краски Нур-и-Дешт – все эти в принципе далеко не равнозначные вещи как бы уравниваются между собой величием человеческого подвига, тяжестью усилий, беззаветностью творческого порыва, И потому даже гениальные провидения автора: якутские алмазы или принцип объемного видения, заложенный в современную голографию, мы воспринимаем лишь как щедрое добавление, которое принесло время. Сами по себе они лежат вне художественной ткани и лишь добавляют несколько новых мазков к портрету Ефремова – мыслителя и ученого, портрету, который еще только предстоит написать.
Лишь подход к научной фантастике как к уникальному явлению современной культуры позволяет понять, почему она оказалась столь притягательной для ученых вообще и для Ефремова в особенности. Спрашивается: чем могла она увлечь тех, кто трудится на переднем крае науки, или, как сейчас говорят, «на краю непостижимого»? Чего они ждут от нее? Очевидно, в первую очередь того, чего всегда ожидают от художественной литературы. Поэтому те черты, которые снискали ей успех у подростков и студенчества, могли оказаться привлекательными и для зрелых ученых. А ведь у ученых, как и у представителей других отраслей человеческой деятельности, есть свои особые требования.
Однако прежде чем говорить об этом, обратимся к одной общей черте в биографиях некоторых фантастов. Физик-ядерник Л. Сциллард, профессор биохимии А. Азимов, астрофизик Ф. Хойл, антрополог Ч. Оливер, астроном и крупный популяризатор науки А. Кларк, философ и врач С. Лем, сподвижник Эйнштейна польский академик Л. Инфельд, создатель кибернетики Н. Винер – вот достаточно убедительный перечень известных ученых и авторов научно-фантастических произведений.
Такая же картина наблюдается и в советской литературе. Академик В. Обручев был первым советским ученым, обратившимся к научной фантастике. Ныне успешно сочетают научную деятельность с литературной работой многие хорошо известные у нас и за рубежом фантасты-ученые.
Можно, конечно, спорить, насколько случаен или, напротив, закономерен такой синтез науки и искусства. Думается все же, что он не случаен. По крайней мере он точно отражает одну из главных особенностей современной науки: соединение отдельных, часто очень далеких друг от друга ветвей.
Иероглифы на базальтовой стене Абу-Симбела говорят: «Когда человек узнает, что движет звездами. Сфинкс засмеется и жизнь на земле иссякнет». Мы не знаем еще, что движет звездами. Может быть, никогда не узнаем. Может быть, узнаем завтра. Важен не столько смысл изречения, сколько удивительная научная поэзия. Или, может быть, удивительная опоэтизированная наука? Нашему веку недоступно такое целостное восприятие мира. Наука давно уже разделилась на науки естественные и науки гуманитарные. Пропасть между ними растет день ото дня. У каждой не только свой особенный язык или специфика эволюции, но и свои эстетические каноны. Неудержимо растущее и непостижимо ветвящееся древо науки вырастило наконец собственные эстетические плоды, странные и ни на что не похожие. «Красивое уравнение», «изящный вывод», «ювелирный эксперимент». Слова, слова, слова! Здесь иное изящество, иная красота. Просто люди естествознания еще по привычке употребляют эстетические термины гуманитариев. Это всего лишь атавизм. Придет время – появятся и новые слова. Но попытаемся оглянуться назад, в туманную тьму, когда зарождавшаяся культура была настолько слаба и наивна, что существовала в неком единении. Без всякого намека на дифференциацию – тысячеголовую гидру двадцатого века. Но вот беда, даже просто оглянуться назад мы не можем без точной науки. Древние манускрипты расшифровывают теперь кибернетики, физики и химики подвергают археологические находки спектральным и радиокарбонным анализам. Даже в поэтике появились подозрительные естественнонаучные метастазы. Самые привычные и обыденные вещи обрели вдруг неких количественных двойников, У вещей обнаружились структуры. Вещи стали телами (для физиков), веществами (для химиков), моделями (для математиков).
Революционные идеи естествознания с их радикальной ломкой привычных представлений о времени и пространстве, строении вещества и сущности жизни не могли не затронуть сознания даже абсолютно далеких от науки людей. Наука вторгается во внутренний мир не только прямо, связывая, допустим, силу эмоций с величиной информации, но и опосредованно. В том числе и через искусство. Наука и искусство – могучие реки человеческого познания. Цели у них общие. Пути, как принято говорить, но это отнюдь не самоочевидно, различные.
Где-то на заре цивилизации эти реки были слиты в единый поток. Когда же они разделились? И почему мы, во второй половине двадцатого века, вдруг вновь начинаем искать объединяющие их черты? Случайность это или закономерность? Возвращение по эволюционной спирали к «якобы старому» качеству или бесплодные поиски эфемерных закономерностей и связей? Может быть, научная фантастика и есть тот проток, который соединит оба русла? Для Ефремова это было именно так. Колесо учения неразрывно, и мы не найдем место «стыка», где гуманитарное знание перетекает а естественное. Слишком много оборотов сделало колесо с той далекой поры, когда наука, по выражению профессора Генриха Волкова, находилась в колыбели. Не удивительно, что Ефремов пристально интересовался прошлым, истоками мистерий и мудрости, наук и заблуждений.
Ранние Упанишады, «Рамаяна», «Бхагавад-Гита» Древней Индии объединяют космогонию и теологию, моралистику и оккультные пророчества, оставаясь поэмами в самом высоком смысле этого слова. Гекзаметры Парменида и Эмпедокла и оды Манилия и Пруденция выливаются в итоге в законченную и изощренную поэму «О природе вещей» Лукреция, которая долгие столетия была самым полным сводом знаний по античной атомистике. По крайней мере в этом она близка насыщенному познавательным материалом творчеству Ефремова.
Но в древних памятниках трудно порой отличить естественнонаучные представления от мистики, философию от поэзии, космологию от мифологии. Древневавилонский эпос, древнееврейская книга «Зогар», индийская «Махабхарата» не просто путанно и темно отражали мир, они отражали его синкретически. Они рисуют нам метод познания, в котором научное мышление неотделимо от художественного. В учебниках географии показано, как Земля покоится на трех китах, плавающих в океане, или на трех слонах, стоящих на черепахе. Но это не значит, что древние именно так рисовали себе картину мира. Нам трудно судить об истинных их воззрениях, поскольку они зачастую представлены чисто символически. Нельзя прямо отождествлять миф с философией, но нельзя и совершенно отделить мифологию от первых наивных представлений человечества об окружающей действительности. Вот почему жизнеописания Рамы и Кришны, Мадрука и Озириса, Сатурна и Хроноса безусловно содержат затемненные и символически преобразованные представления о пространстве, времени и тех главных элементах, которые лежат в основе всего сущего. Древние не знали физики в нашем понимании этого слова. Но они создали зародыши описательной науки, которую можно назвать «фантастической физикой». И понять в принципе ее мог каждый, поскольку говорила она на общедоступном языке.
Недаром писатели, посвятившие свое творчество естествознанию, так любят цитировать древние поэмы и мифы. Роберт Юнг, в частности, предпослал своей книге об атомной бомбе «Ярче тысячи солнц» эпиграф из «Бхагавад-Гиты»:
Мощью безмерной и грозной
Небо над миром блистало б,
Если бы тысяча солнц
Разом на нем засверкала.
Нелепо, однако, было бы в этом поэтическом отрывке усматривать отголоски когда-то случившегося атомного взрыва. Взрыв был в Хиросиме много веков спустя.
Медленно, тернистым путем горьких разочарований, ошибок, неожиданных взлетов и падений шел человек к познанию. Это был упорный, не знающий отдыха путь к неведомым целям, который часто приводил к пропасти или терялся в темных лабиринтах. В начале этого пути люди зачастую пытались проникнуть в неведомое с помощью молитв и заклинаний. И лишь потом, когда были заложены основы цивилизации, появились ростки того могучего древа, которое мы зовем современной наукой. Но диалектика – великая вещь, современная наука все больше походит на колдовство! В храмах ее орудует каста жрецов, выработавшая для своих мистерий особый, никому не понятный язык.
Все современные науки развились в конечном счете из философских раздумий и технологии. Можно спорить до бесконечности о примате того или иного вклада, это не опровергнет банальную истину: истоком любой научной отрасли и всей науки в целом является язык простых смертных, одинаково понятный нищим и королям. И вот теперь, на наших глазах язык современных магов естествознания все дальше отходит от своей питательной среды. Причем он не погибает, как Антей без Земли, а, напротив, властно вторгается в общедоступный язык. Засоряет и обедняет его, по мнению одних, обогащает и возвышает – с точки зрения других. Но это, как говорится, только цветочки. Может быть, самое грозное веяние века заключается в том, что интеллектуальный мир ученого-естественника все сильнее обособляется от мира людей, говорящих на обычном языке. Так не является ли научная фантастика и мостом между интеллектуальными мирами?
Дифференциация науки на все большее число отраслей, а следовательно, и дробление «языка науки» на все большее количество ее «диалектов», даже ученых отделяет друг от друга, затрудняет, а порой и делает невозможным их профессиональное общение. Право, библейская легенда о Вавилонской башне наполняется грустным смыслом. И если мы хотим продолжать возводить все новые и новые этажи башни познания, нам надо серьезно задуматься об угрозе «смешения» языков. И быстро что-то решать, радикально менять привычные взгляды и устоявшиеся взаимоотношения.
Непосвященным людям, как справедливо заметил Ричи Колдер, наука представляется в виде какой-то сокровищницы за семью печатями, доступной лишь избранным, где хранятся сундуки с драгоценностями, именуемыми «физика», «химия», «биология», «геология», «астрономия» и др. Каждый сундук заперт на замок с секретом, открыть который может только тот, кто посвящен в тайну его механизма. А в сундуках – множество ящиков и ящичков с надписями: «ядерная физика», «кристаллография», «твердое тело», «коллоидная химия», «органическая химия», «генетика», «биофизика», «биохимия» и так до бесконечности.
Но это, так сказать, статичная картина. В динамике дело выглядит еще интереснее. Дифференциация науки порождает все большее число все меньших по размеру отдельных ящичков. Как бы в итоге не осталась у нас одна тара. А популяризировать науку становится все труднее. Некоторые статьи в таких журналах, как, скажем, «Химия и жизнь», все меньше напоминают популярные. Они напичканы графиками, формулами и даже математическими выкладками. На сегодняшний день они годятся лишь для ученых, которые хотят знать о достижениях коллег из смежных отраслей. Завтра и им они станут непонятны.
Языки науки чужды для неспециалистов. Влияние татарского ига на русский язык было весьма ощутимым, но современная наука за несколько десятилетий побила рекорды трех сотен лет ига. Достаточно посидеть несколько часов на симпозиуме по проблемам плазмы, элементарных частиц, многомерных пространств или фазовых равновесий в растворах, чтобы убедиться в непонимании родной речи.
Но разве фантастика не сумела органично вместить в себя научные диалекты? Это уже не обеднение литературного языка, а обогащение его! Нет и, вероятно, не может быть «словаря», с помощью которого можно было бы «перевести» науку на обычный язык. Нужен не словарь, а целый комплекс методов, которых пока нет. Современная система популяризации великолепна и в то же время беспомощна, поскольку порождает порой и дилетантизм. Внимательно прочтя хорошую популярную книжку по физике, читатель получает обманчивое ощущение, что он более или менее все знает, что он «на уровне». А вместе с тем он не приблизился к пониманию современной физики ни на шаг. И этого не надо скрывать, это, напротив, надо подчеркивать.
Как-то на севере Канады геологи привлекли одно индейское племя к поискам урановой руды. Когда индейцев спросили, как они представляют себе цель таких поисков, вождь невозмутимо ответил: «Искотчкотуит каочильик», что значит «молния, выходящая из скалы».
Это прекрасная иллюстрация и огромной пользы и весьма ограниченных возможностей нынешней системы популяризации.
Научная популяризация внесла колоссальный вклад в развенчание богов небесных и в создание богов земных, Наука стала ее богом, а ученые – пророком, деяния которого можно описать, но нельзя объяснить.
И только современная научная фантастика, даже не пытаясь объяснить науку, смело ввела нас в лабораторию ученого, приобщила к миру его идей.
Мы уже пережили тот период, когда велись серьезные дискуссии на тему «Нужен ли инженеру Бетховен» и неистовые рыцари ломали полемические копья на ристалищах физики и лирики. Многим чуть поседевшим ветеранам таких битв уже немного смешно вспоминать их. Профессия космонавта тоже стала привычной. Мы привыкли видеть этих бесстрашных героев из плоти и крови и на небесах и в космосе. Поэтому и стыдно спорить нам теперь, возьмет или не возьмет с собой космонавт «ветку сирени».
Но не настал еще день, когда мы с неловкой усмешкой вспомним дискуссии и другого рода: «Можно ли быть сегодня культурным человеком, не зная науки».
Вот в какое время появилась современная научная фантастика – литература о науке, многое у науки заимствующая, но написанная на понятном для всех языке. И появление ее закономерно.
Наука безразлична к проблемам морали, тогда как ученый – сознательный член общества – не может и не должен быть безразличным. Нельзя языком математики, физики, биологии, химии излагать моральные аспекты тех или иных открытий. Фантастика дает такую возможность. И язык у нее, о какой бы науке ни шла речь, единый – общедоступный. В этом, мне кажется, основная притягательная сила фантастики для ученых.
«Если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, – писал Чарлз Дарвин, – я установил бы для себя за правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки по крайней мере раз в неделю; быть может, путем такого постоянного упражнения мне удалось бы сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь атрофировались. Утрата этих вкусов… может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее – на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».
Великий эволюционист понимал, насколько важно искусство для научного творчества. Природа едина, но математика далеко не единственный ее язык. Как правило, наиболее блистательные открытия приносит нам аналогия, перебросившая свой невидимый мост между самыми отдаленными областями человеческой жизни.








