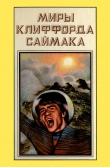Текст книги "Антология сказочной фантастики"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Соавторы: Айзек Азимов,Генри Каттнер,Джон Бойнтон Пристли,Питер Сойер Бигл,Клод Легран,Уильям Сароян,Саке Комацу,Жан Рей,Юн Бинг,Гораций Леонард Голд (Гоулд)
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
14
Пустота. Ни театра «Ройял», ни таверны, ни Уолтера Кеттла, ни плетей дождя на улицах старого Бартон-Спа. Тревожная тьма могла по-прежнему быть ночью столетней давности или просто краем сна. Что это, конец? А если нет, то где же Дженни Вильерс? Он произнес ее имя несколько раз, с каждым разом все настойчивее, и не удивился тому, что произносит его вслух, словно обращаясь к самой Зеленой Комнате, к высокому стеклянному шкафу, акварельному наброску, книжечке, к фехтовальной перчатке.
Ее голос, когда он прозвучал, был слабым и спокойным, он доносился словно бы ниоткуда – тихий голос из призрачного сумрака. Она сказала:
– Умирать было так одиноко.
– Одиноко? – Он повторил это слово как эхо.
– Да, очень, – сказала она медленно и просто, словно голосу, отделившемуся от тела, полагается быть терпеливым со своими слушателями. – Все были так далеко. Это был самый одинокий миг моей жизни.
– Тебе было страшно? – тихо спросил он.
– Нет. Я слишком устала, чтобы чувствовать страх. Было одиноко и ужасно грустно – до самого конца.
– До самого конца? – Действительно ли он задал вопрос или просто подумал? – После стольких недель где-то в унылой маленькой задней комнате, вдали от огней, музыки и аплодисментов, одинокая и печальная… исхудавшие руки и впалые щеки… огромные горящие глава и светлые волосы… что же было потом, родная моя?
Никакого ответа. Ни звука. Неужели все кончено? Этого он не мог допустить. Он вскочил на ноги с отчаянным криком:
– Дженни, если в самом конце было лучше… не так безнадежно и грустно… я должен знать! Дай мне взглянуть! Дай мне послушать! Дженни, что тогда было? Ты слышишь меня?
Две оплывшие свечи освещали маленькую спальню, отбрасывая огромные тени. Дженни сидела с распущенными волосами, опершись о гору подушек, она исхудала и была очень бледна. Дородная старая сиделка – сама всего лишь толстая тень – пристроилась возле кровати. Дождь печально и монотонно барабанил по крыше.
Дженни указала на свечи.
– Знаете, как мы их называем?
– Знаю, милая. Свечки. Как же еще?
– Нет, не просто свечки. Сейчас-то да, а вот когда воск весь сбежит по бокам, – жирный белый воск, бежит и капает, – тогда мы зовем их саванами. Правда, похоже?
– Не надо так говорить, голубушка. Потерпи немножко, и тебе скоро-скоренько полегчает. Ты ведь хочешь снова играть в театре?
– Еще бы! – Дженни встрепенулась. – Который теперь час? Мне нельзя опаздывать. Я должна одеваться. Почему я тут лежу?
Сиделка наклонилась, чтоб удержать ее.
– Ну-ну, милая, сегодня-то еще нельзя. Тебе так нездоровится, да и поздно уже как-никак.
– Да, уже поздно, – пробормотала Дженни. – Уже слишком поздно… «Покойной ночи, леди, покойной ночи, дорогие леди… Покойной ночи… покойной ночи…»[18]18
“Гамлет”. Перевод Б. Пастернака.
[Закрыть] – Ее голос замер, но тут же она услышала что-то поразившее ее и подняла руку: – Слушайте: что это за шум?
– Это дождик, милая, – сказала сиделка. – Западный ветер нагнал дождя к ночи.
– «Хей-хо, и дождь и ветер…»[19]19
“Двенадцатая ночь”.
[Закрыть] Это тоже грустно. Не знаю почему, но так уж оно выходит. А ему того и надо. «Да не все ль равно, пьеса сыграна давно…»[20]20
“Двенадцатая ночь”.
[Закрыть] Хочет притвориться, будто не грустно, будто ему ни до чего нет дела, и все равно грустно. Мне всегда плакать хочется.
– Не плачь, милая. Пожалей свою головушку.
Но Дженни снова забеспокоилась.
– Нет… нет… я должна. А времени мало… Ну и что ж, если поздно, Сара? Я знаю, что ты устала, но я должна повторить это еще раз. «У вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной…»
Когда она в изнеможении откинулась на подушки, рядом с кроватью возникла высокая фигура, чей рост еще более подчеркивался длинным черным плащом – точно явилась наконец сама Смерть. Доктор, которого будто специально вывели на сцену, чтобы заполнить пустое пространство, занял свое место с какой-то мрачной эффектностью; теперь эта меланхоличная, выдержанная в приглушенных тонах картина была закончена и могла бы считаться вершиной академической живописи того времени. А умирающая девушка со спутанными блекнущими волосами, впалыми щеками, с глазами, сверкающими горячечным блеском, – то была не сама Дженни, но актриса мисс Вильерс в ее последней великой роли. И может быть, сам Уолтер Кеттл был здесь режиссером, и он же набросал подобающий случаю диалог.
– Она гаснет на глазах, доктор, – прошептала сиделка. – И опять бредит, бедняжка.
Дженни широко открыла глаза и с усилием улыбнулась доктору.
– Мисс Вильерс, – сказал он тихо.
Она тряхнула головой, как ребенок.
– Вы совсем замучились со мною, доктор.
– Нет, нисколько, мисс Вильерс.
– Совсем замучились… А где нянюшка?… Ушла?
– Да что ты, господь с тобой, вот я, здесь!
– Я вас не вижу, – сказала она вяло. – Темно… Почему так темно? И что это за шум?
– Это дождик, милая.
– Нет, нет, послушайте. – И Дженни, в последний раз собравшись с силами, села на кровати.
И Чиверел вдруг тоже услышал далекую музыку, приглушенные аплодисменты и молодой голос, который все приближался и звал: «Увертюра! Участники первого акта, на сцену, на сцену!»
– Мой выход, – сказала Дженни с торжествующей улыбкой, – мой выход! – Она упала на подушки, и тут же черный ветер с воем ворвался из необъятной тьмы, и вся сцена сразу высохла и поблекла, как поблек бы зеленый лист, если бы целую осень втиснули в одно мгновение; и, как лист с дерева, ее унесло прочь. И снова была пустота.
15
Вот и все. Занавес. Конец. Сам не зная как, он привел в действие странный механизм этого вечера, вспомнив строчку из справочника: Дженни Вильерс, актриса, умерла 15 ноября 1846 года в возрасте 24 лет. И теперь все кончилось; больше ничего не могло быть. Он снова услышал спокойный голос Отли: «Дженни Вильерс приехала сюда из Норфолка и стала играть главные роли. Влюбилась в здешнего первого любовника Джулиана Напье, но тот внезапно оставил труппу ради ангажемента в Лондон. Она заболела и умерла. Напье ненамного пережил ее. Он уехал в Нью-Йорк, запил и вскоре покончил с собой. Вот, собственно, что там сказано». Это был благоразумный голос истории и здравого смысла. Дженни Вильерс вчера, Мартин Чиверел сегодня; и каждый год первое дуновение зимы сметает с деревьев остатки их увядшего золота – что же особенного в том, что и маленькую сценку у смертного одра унесло прочь, как опавший лист.
И все же в середине своей речи на ужине в «Белом олене» она остановилась и сказала ему удивительные слова. Впрочем, тогда это скорее всего была сложная игра его собственного воображения. Ведь никакой Дженни Вильерс, говорившей с ним из другого времени, явно не могло быть, и, несомненно, он говорил сам с собой, а потому здесь все еще оставалась какая-то тайна. Кто же наконец предстал ему в образе давным-давно умершей актрисы и попытался воздействовать на его ум таким необычным способом? И что за неведомый источник вновь обретенного волшебства – энергии, вдохновения, восторга – открылся в нем в этот миг? Он увидел тогда родник, сверкающий в пустыне, – почему же он не видит его теперь?
Быстрая химическая реакция в крови, решил он, вспомнив таблетки доктора Кейва. Ведь он принял четыре вместо двух, и эти таблетки и химические процессы, которые смогли пробудить театральные фантазии в каком-то уголке его мозга, разумеется, сыграли тут немалую роль. Прежнее сухое утомление быстро возвращалось, и вокруг опять простерлась пустыня, усеянная древними белыми костями. Он открыл глаза и обвел внимательным взглядом Зеленую Комнату: да, вне всякого сомнения, это была единственная в своем роде Зеленая Комната в Бартон-Спа, в театре «Ройял», который простоял закрытым всю неделю, но должен открыться в понедельник (По специальному приглашению! Контрамарки не выдаются!) долгожданной премьерой «Стеклянной двери» Мартина Чиверела с полным вест-эндским составом исполнителей. Теперь комната спокойно стояла на своем месте в колее времени. Это были заурядные Здесь и Сейчас. Вполне резонно, согласился он, так оно и должно быть. Но едва он снова закрыл глаза, у него вырвался глубокий вздох, почта стон.
Ему отозвался эхом вздох еще более глубокий, еще больше походивший на стон, но слегка аффектированный, театральный, и человек в черном, шедший по темному коридору, обернувшись, принял от другого едва различимого человека пачку писем и записок. Затем отворилась дверь в залитую светом комнату, и тот в черном, попав в раму дверного проема, оказался Гамлетом, принцем Датским. Гамлет что-то ворчал, впрочем, без малейшего признака подлинного неудовольствия, ибо после спектакля дамы забросали его записками с изъявлениями восторга и даже намеками на возможность тайных свиданий.
Уборная ничем не напоминала скромной уютной комнатки Дженни в театре «Ройял» в Бартон-Спа. Она предназначалась для премьера лондонского театра «Олимпик». На столе пестрели цветы в вазах и сверкали хрустальные графины, а над ним висело роскошное, ярко освещенное большое зеркало. Ковер, софа и стулья были темно-малинового цвета. И Джулиан Напье в костюме Гамлета, поверх которого он теперь набросил широкий шелковый халат, был очень красив и импозантен, как и подобает настоящему лондонскому премьеру. Он улыбался, что-то весело мурлыкал и явно был в восторге от самого себя и от всего мира. Он швырнул письма и записки на стол, налил себе порядочную порцию бренди и уселся перед зеркалом, собираясь разгримировываться. В дверь постучали.
Вошедший был толстяк средних лет, длинноволосый, с желтоватым лицом и иссиня-черной козлиной бородкой. Держался он подчеркнуто торжественно, смотрел холодным пристальным взглядом, говорил в нос, растягивая слова, – словом, это был настоящий янки старых времен.
– Мистер Джулиан Напье, – важно начал он.
– Да, сэр, – надменно отвечал Напье. – А вы кто?
– Джекоб Дж. Манглс, сэр, из Нью-Йорка, – отвечал тот, доставая визитную карточку. – Отлично известен миссис Брогэм и всем ведущим импресарио Лондона, мистер Напье.
– Вы были на спектакле, мистер Манглс?
– Имел удовольствие, мистер Напье, и должен вас поздравить с прекрасным исполнением Благородного Датчанина. Чрезвычайно ловко сыграно, мистер Напье.
– Благодарю вас, мистер Манглс. Выпьете со мной?
– Не теперь, сэр, благодарю вас, мой друг миссис Брогам ожидает меня в своем кабинете. Но хочу вам сказать, мистер Напье, что для вас уже приготовлена целая куча долларов и двести тысяч наших лучших граждан мечтают о том дне, когда Джекоб Дж. Манглс даст им возможность увидеть вас в роли Гамлета и во всех ролях, которые вам желательно будет сыграть на Бродвее или где-либо в другом месте. Ваши условия, мистер Напье?
Напье улыбнулся.
– Это очень любезно с вашей стороны, мистер Манглс. Но пока что у меня нет желания отправиться в Америку.
Мистер Манглс посмотрел на часы.
– Я не могу заставлять женщину ждать, мистер Напье, но позже, если вы еще будете в театре…
– Я приглашен на ужин, мистер Манглс, и я тоже не люблю заставлять женщину ждать…
– Менее чем через четверть часа, мистер Напье, я расскажу вам о своем предложении, и вы будете бесконечно поражены его щедростью; речь идет о сезоне в моем нью-йоркском театре.
– Едва ли мои намерения изменятся в ближайшие десять минут… однако…
– Случались и более странные вещи, мистер Напье. С вашего разрешения я все же рискну. – И он вышел.
Напье развеселяйся. Сделав новый глоток бренди, он качал снимать грим и целиком погрузился в это занятие. Он стирал последние следы краски со своего мрачного красивого лица, когда в уборную без стука ворвался следующий посетитель. Это был Уолтер Кеттл, еще более возбужденный и измученный, чем обычно, и похожий на пугало.
– Уолтер Кеттл! – Напье был поражен. – Ты-то для чего в Лондоне? Ушел наконец от старика Ладлоу?
– Она умерла, Напье! – вскричал Кеттл, с трудом переводя дыхание. – И это ты убил ее!
Напье поднялся и стоял, возвышаясь над ним.
– О чем ты говоришь? Кто умер?
– Дженни умерла.
– Дженни Вильерс?
– Да, да, да, умерла, умерла! – Кеттл словно обезумел. Он вцепился в Напье, свирепо глядя на него, и кричал: – Мы хороним ее послезавтра. И клянусь богом, Напье, это ты убил ее, ты и больше никто, убил так же верно, как если бы всадил ей пулю в сердце. Ты убил ее…
– Пусти, дурак, – зарычал Напье, – или я сломаю тебе руку. – Он отшвырнул Кеттла так, что тот пролетел через всю комнату. Униженный и обессиленный, Кеттл прислонился к стене. – Что случилось? Я даже не знал, что она болела. Болела она?
– Да, – пробормотал Кеттл. – Это началось в то утро, когда она узнала, что ты сбежал от нас. – Он дышал с трудом, словно каждый вздох причинял ему боль.
– Ну? – нетерпеливо спросил Напье.
– Она ждала ребенка, ты знаешь.
– Откуда мне знать? Она ничего не говорила.
Кеттл не взглянул на него.
– Она избавилась от ребенка. Но лучше ей не стало. Да она и не хотела поправиться. Твое бегство прикончило ее. Ты убил ее, Напье. И покуда я жив, я не дам тебе забыть этого. – Но в его угрозе не чувствовалось ни силы, ни настоящей ярости.
– Забыть? Ты думаешь, я нуждаюсь в твоих напоминаниях?
– Нуждаешься или нет, а я буду тебе напоминать. – Теперь Кеттл поднял на него глаза.
От этого взгляда Напье сорвался с места и в два прыжка оказался рядом с Кеттлом.
– Не смей говорить со мной таким тоном, Кеттл. А то смотри, как бы я не затолкал тебе все твои слова обратно в глотку. Я играл с ней на сцене. Я любил ее. Я жил с ней. Запомни это.
– И бросил ее.
Удивительно, до чего этот диалог, хоть и переполненный неподдельной яростью, напоминал тот Театр, который оба они знали так хорошо. Оба оставались сами собой, притом едва собой владели, и все же возникало впечатление, что они разыгрывают спектакль, что и сама эта уборная находится на сцене какого-то таинственного огромного театра.
– Я бросил ее, – сказал Напье теперь осторожно, словно ему надо было оправдаться перед самим собой не меньше, чем перед Кеттлом, – потому что хотел получить этот лондонский ангажемент. Нельзя было упускать такой случай, а я знал, что расскажи я ей, она уговорила бы меня отказаться, подождать, пока нам предложат двойной ангажемент. Вы все знали, где я, и когда она не стала мне писать, я решил, что она рассердилась… несомненно, она имела право сердиться… и что со мной у нее все кончено…
– Она была слишком горда, чтобы писать…
– Да, да, я понимаю, – нетерпелива перебил Напье. – Можешь мне не объяснять, какова она. – Помолчав, он спросил: – Как она умерла?
– Ужасно. – Кеттл был очень мрачен. – Жизнь уходила из нее по капле.
– Замолчи, – вдруг в бешенстве закричал Напье, – не то я…
– Я думал, что ты хочешь знать.
– Ладно, – сказал Напье, – теперь я не хочу знать. – Он снова вскипел.
– Проваливай! – Кеттл не шевельнулся, и тогда он снова крикнул: – Проваливай и оставь меня в покое! – Он круто повернулся и с маху сел на стул лицом к зеркалу.
Кеттл медленно пошел к двери и у двери обернулся.
– Желаю удачи в славной карьере, Напье, – сказал он тихо. – Она тебе здорово пригодится. – И вышел.
Напье одним глотком допил бренди, торопливо налил себе новую порцию, больше прежней, и вскоре проглотил и ее. Он приступил к третьей порции и был уже изрядно пьян, когда вернулся мистер Манглс.
– Итак, мистер Напье, на случай, если вас может заинтересовать мое предложение…
Напье вскочил и впился в него глазами:
– Да, да. Вы хотите, чтобы я играл для вас и для ваших тысяч лучших граждан…
– Разумеется, мистер Напье.
– Гамлета, Макбета, Отелло…
– Все великие роли, мистер Напье.
Голос Напье понизился до странного шепота:
– По рукам, мистер Манглс. Они у меня все попадают со стульев. Клянусь богом, я нарисую им такую картину страха, ужаса и угрызений совести, что она будет преследовать их каждую ночь. Выпьем, мистер Манглс, выпьем, а?
– Ну что ж, – сказал мистер Манглс, улыбаясь, – немного я, пожалуй, выпью.
– Немного? – вскричал Напье, наполняя бокалы. – Вот, пейте! За мое появление на вашем Бродвее…
– С удовольствием, сэр. В вас есть блеск, который прядется по вкусу моим согражданам, мистер Напье.
Теперь Напье захмелел окончательно.
– Вы находите? Ну что ж, посмотрим.
– Теперь, сэр, что касается условий…
– К черту условия! Поговорим завтра. Сейчас я не в настроении обсуждать условия. – И, уставив трясущийся палец в посетителя, он продекламировал с пьяной страстностью:
И запустил бокалом в стену.
Мистер Манглс понимал толк в зрелищах.
– Превосходно, мистер Напье. Наша публика, сэр, романтична и набожна…
– Тогда, клянусь небом, мистер Манглс, – вскричал Напье как безумный, – мне надобно спросить с вас побольше, а вам – поднять цены, если уж мы решим быть и романтичными и набожными сразу. Нет, нет, мистер Манглс, – прибавил он, видя, что тот пытается что-то вставить, – завтра, завтра, поговорим завтра…
Он бросился на стул возле гримировального столика, уронил голову на руки и зарыдал сухо и сдавленно. Мистер Манглс метнул на него проницательный взгляд, поставил свой бокал и бесшумно вышел. Напье, ничего но видя, неподвижно сидел перед зеркалом.
Свет стал меркнуть. Чиверел подумал: «Так вот как это было. Жаль. И знала ли она – могла ли она знать, что сталось с тобой, мой друг?»
Теперь перед ним был лишь бледный призрак этой сцены, но он еще различал Напье, уронившего голову на руки среди коробочек с гримом, мелкой бутафории, писем и графинов, и зеркало, слабо мерцавшее перед ним. Потом ему показалось, что в глубине зеркала возникло какое-то белое пятно… лицо… искаженное горем, Дженни Вильерс…
16
Это, несомненно, снова была Зеленая Комната. Но Зеленая Комната теперь или тогда? Тут ли два стеклянных шкафа и портреты на стенах? И на месте ли другая дверь, та, что исчезла за сто лет, прошедших после 1846 года? Бурый сумрак стал гуще и плотней, чем когда-либо, он напоминал темный туман. Чиверел не знал, что делать. Если сосредоточиться слишком поспешно, вооружившись острым скальпелем сознания, все может внезапно исчезнуть раз и навсегда, он окажется узником настоящего, и тогда ничего не останется, кроме портрета, перчатки, имени да скудных, мелких биографических фактов. Но если он позволит своему вниманию заблудиться в буром тумане времени, он может никогда больше ее не встретить. Наступал самый важный момент, все остальное было лишь подготовкой к нему. Дженни! Крик вырвался из глубины его сердца, и все равно, была ли то живая девушка, избежавшая смерти и освободившаяся из плена своего времени, или просто плод его воображения. Где она? Дженни Вильерс!
Ни звука. Ни проблеска света в сумраке. Ничего, кроме смутного ощущения, что Зеленая Комната по-прежнему здесь. Сейчас он был не просто утомлен; его захлестнула огромная холодная волна страдания, которое вскоре могло стать острой болью. Если он потерял ее, если это конец всего, тогда лучше бы ему было умереть час назад в этом кресле.
– Дженни! – кричал он упрямо и настойчиво, словно они давным-давно уговорились и сто раз поклялись друг другу встретиться именно на этом месте в этот самый час, и вот, наконец, он здесь.
И ответ пришел к нему в Зеленую Комнату: это был смех, звонкий и ясный, как серебряный колокольчик.
Прежний таинственный янтарно-золотистый свет валил большую часть комнаты, и только узкое кольцо тени отделяло Чиверела от последней и самой странной сцены из всех увиденных им в этот вечер. Дженни была в белом платье, юная и веселая, совсем как в тот день, когда Кеттл представил ее труппе: вначале ему показалось, что она стоит в дверном проеме, залитая ослепительным светом. И свет этот был совсем другой. Словно позади нее был узкий короткий коридор, уходивший в сияющие солнечные лучи, которые пробивались к ней, и плясали, и сверкали вокруг ее головы. Она стояла там в каком-то своем зачарованном мае, точно пришла из прекрасного золотого века, из той мечты, что вечно бередит человеческое воображение. Однако потом Чиверел разглядел, что ее обрамляет не дверной проем, а высокое зеркало в нише – зеркало, в которое с давних пор смотрелись актеры и которое пережило все перемены в Зеленой Комнате. Знакомое зеркало, но сейчас оно было также и дверным проемом, потому что Дженни стояла в нем, грациозно балансируя на самом краю, и таинственным образом излучала столько света, что все прочие в комнате казались тусклыми и какими-то поникшими.
Они напоминали фигуры со старого дагерротипа – оба Ладлоу, Стоукс, Сэм Мун и остальные. Все были в черном и сидели неподвижно, вплотную друг к другу, и что-то слушали с унылым видом. Чиверел не сразу понял, что здесь происходит, ибо не только они сами казались всего лишь потемневшими, обшарпанными могильными памятниками рядом с ослепительной и полной жизни Дженни, но и все их речи были тоскливым, вялым бормотанием после ее смеха. Лицом к собравшимся сидел какой-то взволнованный пожилой человечек, и постепенно Чиверелу стало ясно, что это самая обычная для старых зеленых комнат сцена, а именно – авторская читка новой пьесы на труппе. Автор, некий Спрэгг, читал один из ужасных маленьких фарсов того времени, которые игрались под конец вечера. Фарс назывался «Байки мистера Тули», и единственным человеком, получавшим от него удовольствие, ибо несчастный Спрэгг пребывал в полном отчаянии, была Дженни: она смеялась и изредка хлопала в ладоши, но никто из присутствующих ее не видел и не слышал.
Отчаянно пережимая, как всякий потерявший надежду автор, Спрэгг гнал к заключительному занавесу:
– «Мистер Тули. Нет, мэм, должен признаться, у меня никогда не было брата, а будь у меня брат, я бы с ним так не поступал.
Миссис Тули. Тетя Джемима, это просто еще одна байка мистера Тули.
Снова комическая игра с зонтиком».
Спрэгг обвел слушателей взглядом утопающего, но, все еще на что-то надеясь, прибавил:
– Очень эффектно.
– Да, – вскричала Дженни, – я себе представляю! Продолжайте, мистер Спрэгг. Скоро занавес?
Спрэгг попытался найти на лицах актеров хоть какой-нибудь признак одобрения, но поиски были тщетны, и он торопливо продолжал:
– «Тетя Джемима. А я, милочка моя, могу только возблагодарить бога, что это ты замужем за ним, а не я. Но теперь уж я не вычеркну тебя из завещания: ведь мне тебя и вправду жалко. Подумать только: вышла замуж за такого олуха! Боже, что там еще?»
И снова Дженни, у которой это чудовищное произведение вызывало самый неподдельный интерес, воскликнула:
– Неужели опять фермер Джайлс?
– «Из камина вываливается фермер Джайлс, покрытый сажей», – объявил Спрэгг и добавил, бросив на актеров последний отчаянный взгляд. – Это очень смешно, как раз под занавес. – Ответа не было, и, глубоко вздохнув, он продолжал:
– «Миссис Тули. Ну и ну, это же бедный фермер Джайлс!
Фермер Джайлс. Да, и, как видите, весь почернел, понаслушавшись баек мистера Тули.
Оглушительно чихает: все становятся в позы. Немая сцена. Занавес. Конец фарса «Байки мистера Тули».
Спрэгг отбросил рукопись, поднял бровь и попытался сделать вид, будто он находится за тысячу миль от угрюмой труппы, сидевшей перед ним.
– Мне очень понравилось, мистер Спрэгг, – воскликнула Дженни. Но услышал ее один Чиверел.
– Благодарю вас, мистер Спрэгг, – мрачно сказал Ладлоу. – Это очень забавно.
Несчастный автор убито взглянул на него.
– Мистер Ладлоу, – безнадежно, со слезами в голосе начал он, – не знаю, может быть, я плохо читал, но клянусь честью, мой фарс имел большой успех и в Йорке, и в Норвиче, где публике не так легко угодить. Понятно, его надо видеть.
– Да, – сказал Сэм Мун печально, – там есть хорошие комические сцены… особенно у фермера Джайлса…
– Но, черт возьми, вы даже не улыбнулись – ни один из вас…
– Ой, какой стыд! – воскликнула Дженни. – Бедняжка! Позволили ему прочесть все это, и никто, кроме меня, ни разу не засмеялся.
И теперь Чиверел начал задумываться, не к нему ли она обращается. Несомненно, он один слышал ее и знал, что она тут.
– Скажите ему, мистер Ладлоу, – произнесла миссис Ладлоу печальным тоном.
– Что «скажите»? – вскричал Спрэгг, все еще рассерженный.
Мистер Ладлоу был мрачен, и голос его звучал торжественно:
– Я должен признаться вам кое в чем, мистер Спрэгг. Недели две назад я пригласил вас прочесть нам свою новую пьесу, вы помните. Я позабыл отменить ваш приезд, а когда вы прибыли, у меня не хватило духу сказать…
– Что сказать? Вы же не закрываетесь?
Мистер Ладлоу даже испугался:
– Нет, нет, что вы, друг мой!
– Мы были закрыты вчера, мистер Спрэгг, – сказала миссис Ладлоу своим густым контральто, – потому что мы все присутствовали на похоронах нашей молодой героини, которой мы все восхищались и нежно любили, – нашей бедной милой Дженни Вильерс…
Спрэгг обескураженно и в то же время укоризненно воскликнул:
– О, в самом деле? Право, мэм…
– И сейчас мы в первый раз собрались после того, как простились с нею навсегда…
– Нет, нет, дорогая, – сказала Дженни настойчиво, – ничего подобного.
– Мы переживаем это, мистер Спрэгг, – всхлипнула миссис Ладлоу, – мы так глубоко переживаем это… – И молодые актрисы тоже всхлипнули, а мужчины громко засопели и принялись мрачно рассматривать свою обувь.
– Да нет же, – сказала Дженни, – это ровно ничего не значит. Ну, пожалуйста!
Вся эта сцена, люди, лица и голоса теперь начали быстро таять и уже напоминали старый и совсем стершийся фильм, который прокручивали слишком часто.
– Вы должны были предупредить меня, знаете ли, – сказал Спрэгг. – Не очень-то это честно, ей-богу!
– Я знаю, что должны были, – отвечала готовая расплакаться миссис Ладлоу. – Но мы надеялись, что вы поможете нам забыть.
– Да тут нечего забывать! – закричала Дженни.
– Это бесполезно, Дженни, – неожиданно для себя сказал ей Чиверел. – Теперь ты призрак даже для призраков.
Она посмотрела на него и ответила:
– Нет, я не призрак.
Действительно, лицо ее по-прежнему оставалось ясным и светлым, а прочие превратились в скопление шепчущих и бормочущих теней в наплывавшем сумраке.
Говорила маленькая актриса Сара:
– Мы не можем ее забыть…
Говорил старый Джон Стоукс…
– Должно быть, пройдет немало времени…
Говорил шут Сэм Мун:
– Прямо сердце разрывается…
Дженни запротестовала:
– Нет, Сэм, Джон, Сара, все. То, что случилось со ивой, не так уж важно. Ничто не потеряно. И важно только одно – чтобы пламя оставалось чистым.
– Лучшие из них – только тени, – пробормотал Чиверел.
– Они уходят! – горестно воскликнула Дженни. – Опять они уходят.
И в самом деле, актеры были теперь всего лишь сгустками мрака, вокруг которых слышалось тихое бормотание.
Он стоял совсем близко от нее, хотя и не помнил, чтобы вставал со своего кресла. Он смотрел поверх бормочущего сумрака в ее лицо, на которое не падал свет из комнаты и которое он все же по-прежнему видел ясно, как прозрачную маску на светлом фоне. Может быть, теперь оно и походило больше на маску, чем на живое лицо. Однако голос ее был, как прежде, взволнованным, теплым и мелодичным – то был женский голос, а не фальшивое гулкое эхо его собственных мыслей.
– Скажите им: то, что случилось со мной, не так уж важно, – проговорила она, – и с любым другим тоже, пока пламя остается чистым. Вы-то это знаете.
– Как я могу знать?
– Вы поняли это однажды. Скажите им.
– Слишком поздно, они уже ушли, – сказал он. – И все это было давным-давно. – Едва он успел произнести эти слова, как с ужасом увидел, что сумрак подкрадывается теперь к самой Дженни.
– Нет, не давным-давно. – Ее голос слабел и остывал с каждым словом. – И теперь тоже, если очень захотеть.
– Ты видишь меня на этот раз?
– Да, – донесся шепот, – вижу.
– Потому что мы оба призраки.
– Нет, не в том дело. Зачем вы притворяетесь, что не понимаете?
– Почему я должен понимать? – спросил он тихо. – И почему ты сказала, что однажды я понял?
Он все еще видел ее лицо, хоть оно и было покрыто тенью, но еле уловил чуть слышный ответ:
– Потому что… мы говорили с вами. Вы разве не помните?
Он сделал шаг вперед, еще один, но она ничуть не приблизилась.
– И не старайтесь найти меня… пока что.
Он с мучительной болью крикнул вслед исчезающему призраку:
– Дженни! Дженни Вильерс!
Ее голос донесся откуда-то из безмерной дали:
– Нет… еще нет… еще нет…
В последний раз он увидел мерцание ее лица, едва заметное, словно светлячок осветил маску слоновой кости; и затем – тьма. Но он крикнул в эту тьму:
– Дженни, дай мне увидеть тебя еще раз, еще только раз, и тогда я буду знать! Только раз, Дженни!
Она стояла там, как в самом начале, в лучистом золоте своего зачарованного мая, и ему показалось, что губы ее шевельнулись, чтобы произнести его имя. Он простер руки и бросился вперед, и имя ее вырвалось у него из груди громким ликующим криком; но тотчас сияющий образ размыло, и Чиверел с треском ударился в мертвое холодное стекло.
– Стеклянная Дверь! – воскликнул он. – Только Стеклянная Дверь!