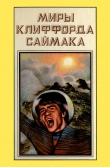Текст книги "Антология сказочной фантастики"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Соавторы: Айзек Азимов,Генри Каттнер,Джон Бойнтон Пристли,Питер Сойер Бигл,Клод Легран,Уильям Сароян,Саке Комацу,Жан Рей,Юн Бинг,Гораций Леонард Голд (Гоулд)
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
– Вы знаете эту женщину? – спросил он Отли, когда они наконец отделались от нее.
– Нет, мистер Чиверел, хотя я тут знаю чуть не каждого.
– Ничего удивительного. С некоторых пор мне кажется, что они и не люди вовсе. – Он печально посмотрел на коротышку Отли. – Я думаю, это исчадия ада, – прошептал он и побрел обратно в Зеленую Комнату.
2
Официанты – из театрального буфета и приглашенные – сделали свое дело быстро и аккуратно. Никаких следов только что закончившегося приема уже не было видно. Зеленая Комната стала почти прежней, мрачноватой, но изысканной Зеленой Комнатой. В ней тесной кучкой стояли три человека – три его ведущих актера: Паулина Фрэзер, высокий Джимми Уайтфут, похожий на гвардейского офицера, которым он и вправду когда-то был, и старый Альфред Лезерс, семидесяти с лишним лет, грузный, совершенно седой и имевший потрепанный и смешной вид, какой бывает у боксеров, ушедших на покой, и у старых характерных актеров. Едва Чиверел вошел, они как-то сразу отодвинулись друг от друга, не сделав при этом ни одного сколько-нибудь заметного движения. Чиверел понял, что против него готовится заговор.
Лезерс ухмыльнулся.
– Ну как ты расстался с его милостью мэром?
– Он считает, что я скромничаю, – беспечно ответил Чиверел. – Мне так и не удалось втолковать ему, что я говорил о пьесе вполне искренне.
– Ну, я надеюсь, ты не слишком усердствовал.
– Нет, – сказал Чиверел. – Мне надо сесть. – И он тяжело опустился в кресло. – Если хотите начинать первый акт, давайте. Я спущусь попозже. Ко мне тут должен прийти врач.
– Мартин! – Паулина сразу же встревожилась.
– Да нет, все в порядке. Ничего страшного. Старая история. Упало давление. Поэтому я и явился на этот проклятый прием к шапочному разбору.
Паулина не успокоилась.
– А у врача ты был?
– Да. Он как будто человек толковый. Обещал принести какое-то зелье, которое должно мне помочь. И я буду в полном порядке. – Он взглянул на них с насмешливой улыбкой. – Вас можно принять за депутацию.
– Ну что ж, дружище, пожалуй, можно считать и так, – примирительно сказал Лезерс.
– Тогда выкладывай. – О боже! Он любил их всех троих. Паулина и славный старина Альфред были его давними друзьями, но сейчас он хотел бы, чтобы их унесло за тысячу миль, на какой-нибудь тихоокеанский остров. Или нет, пусть остаются здесь, а остров он взял бы себе. Он зажмурился, чтобы полюбоваться игрой воды в лагуне, потом широко открыл глаза.
– Третий акт?
Лезерс взглянул на двух остальных.
– Видите, он знает.
– Да, Мартин, – серьезно сказала Паулина. – Третий акт.
Теперь слово взял Джимми Уайтфут.
– Мы все почувствовали это несколько дней назад. Но притворялись даже друг перед другом, что ничего страшного не происходит.
– А после сегодняшней утренней репетиции мы не можем больше так продолжать. – Паулина бросила на него безнадежный, но пылающий взгляд и с силой закончила: – Мартин, мы все ненавидим этот третий акт.
– Это верно, дружище, – печально сказал Лезерс.
– Не поздновато ли вы это заметили? – сухо, но беззлобно спросил Чиверел. – В понедельник у нас премьера.
Паулина отмахнулась.
– Да, но поскольку это ты… и потом, нам ведь и раньше случалось вносить изменения в последнюю минуту… так что еще время есть… – Она не договорила.
– Время для чего? – спросил он мягко.
– Для того, чтобы написать и отрепетировать другой финал – не такой циничный и горький и… и не такой безнадежный. Альфред, Джимми, ну скажите же ему… – И она отвернулась, явно расстроенная.
– Она совершенно права, дружище, – сказал Лезерс необычайно торжественно. – Мое мнение – а уж мне-то полагается все знать, ведь я пятьдесят лет варюсь в этом котле, – мое мнение, что у них такой финал никогда не пройдет. Им это вообще не по зубам. А если ты стоишь на своем, тогда мы здесь провалимся.
Чиверел воспринял это легко – он слишком устал, чтобы противостоять такому серьезному напору. Как все актеры вне сцены, они говорили с чрезмерной аффектацией, словно играли для верхнего яруса и галереи.
– Может быть, ты и прав, Альфред. Но меня это не очень волнует. И в конце концов пусть будет великолепный провал, который никому из вас не причинит большого огорчения.
– Постой, Мартин, – сказал дотошный Уайтфут. – Мы с Паулиной вовсе так не считаем. Мы думаем, что даже если пьеса пойдет, она не принесет людям добра. Люди пережили тяжелые времена, и они не хотят больше испытывать боли… и мы чувствуем то же самое…
– А то, что твои персонажи говорят и делают, – неправда, – осуждающе перебила Паулина. – Я просто не верю им… Все это ложь.
– Одну минуту, Паулина, – сказал он спокойно. – Ты вместе с остальными читала пьесу. Мы обсуждали ее.
– Да, но тогда мы не понимали, каким безысходным и безнадежным будет третий акт. – Она решительно стояла на своем. – Ты-то, конечно, знал это. Но мы не знали. В конце пьесы между людьми не остается ни проблеска взаимопонимания… Каждый бормочет что-то, будто запертый в стеклянном шкафу…
– Кстати, пьеса и называется «Стеклянная дверь», – напомнил он.
– С таким же успехом ее можно было назвать «Стеклянный гроб»! – выкрикнула взбешенная Паулина.
За этой репликой, которую бродвейский режиссер оценил бы как самую кассовую в спектакле, последовала пауза – пауза, определенно неловкая. Лезерс и Уайтфут переглянулись. Паулина, отнюдь не плакса, по-видимому, готова была разрыдаться; но она пересилила себя и сказала двум актерам:
– Идите вниз и начинайте первый акт. Скажите Бернарду, что к своему выходу я буду на месте.
– Хорошо, радость моя, – ответил Лезерс и вышел вместе с Уайтфутом, что-то громко мурлыча себе под нос, как он обычно делал в своих знаменитых комических сценах под занавес. Паулина села на маленький стул с прямой спинкой рядом с глубоким креслом Чиверела. Некоторое время она молчала и даже не смотрела на него. Но он смотрел на нее и думал о ней. Сколько ей лет теперь – сорок пять? Ей столько не дашь. Когда-то он пытался убедить себя и ее, что он в нее влюблен, но из этого ничего не вышло: они по самому своему существу были всего лишь коллегами и друзьями. Где-то был у нее муж, с которым она теперь не встречалась и о котором не вспоминала, и дети – мальчик и девочка, оба они еще учились в школе на средства Паулины; кроме того, она содержала мать и больную сестру, которая вечно находилась в клиниках. Отличная актриса, умная и добросовестная, быть может, слишком умная и добросовестная; быть может, ей не хватает какой-то искорки неожиданности, какого-то намека на неведомые измерения бытия, но она вполне стоит своих семидесяти пяти фунтов в неделю. Темноволосая, красивая, одаренная, и нет в ней этих отвратительных капризов, за которые проклинают стольких актрис. Он очень ценил ее и по-своему был к ней привязан. Но он знал, хоть и ненавидел себя за это, что томящий холод, подобно арктическому безмолвию сковавший его душу, неподвластен ее влиянию; она вроде бы не существовала для него; слова и поступки ее бессильны были растопить этот лед. Короче говоря, когда она смотрела на него вот как сейчас, сквозь слезы, он не видел ее. И каким предательством это было по отношению к верному коллеге, преданному другу!
– Ну что, Паулина?
Внешне она была спокойна, но волнение еще не прошло, и голос ее чуть дрожал.
– Дело не только в том, что пьеса провалится или причинит людям боль и сделает их жизнь еще тяжелее, такой конец – неправда. И это совсем не ты, Мартин.
– Вот тут ты ошибаешься. Это именно я. И я верю, что это правда. – Он помолчал. – Ты недовольна тем, что в конце пьесы между моими персонажами исчезает взаимопонимание. Но ведь так оно и в жизни, детка. Никакого взаимопонимания, разобщенность. Все бормочут и строят рожи за стеклянными дверьми.
– Нет, – сказала она, – в жизни все иначе.
В ответ он чуть было не предложил ей взглянуть на себя и на него – когда-то почти любовники, в течение многих лет коллеги и верные друзья, а теперь – непонимание, разобщенность: стеклянная стена. Но он удержался и выбрал другой путь.
– Я не собираюсь обкладывать зрителя грелками и давать ему снотворное…
– Никто тебя и не просит, – резко оборвала она.
– Пусть их проберет дрожь, пусть они потеряют сон и хоть один раз в виде исключения задумаются, прежде чем опять жечь и взрывать друг друга…
– А они вполне могут взяться за старое, если жизнь такова и только такова…
– Хорошо, пусть их. – Теперь он не устоял перед искушением порисоваться. – Но этот безнадежный финал, который ты так ненавидишь, – это мой прощальный дар нашему уютному, раскрашенному дому терпимости, Театру – милому, теплому, глупому, славному Театру с его вечным очарованием, о котором ты рассказывала мэру и муниципалитету…
Рассерженная, она вскочила на ноги.
– Перестань издеваться. Это была не фраза. Я говорила то, что думала.
– Я тоже думаю то, что говорю. Открою тебе секрет, Паулина. Примерно через час мне должен звонить из Лондона Джордж Гэвин, и десять против одного, что он предложит мне совместное владение и руководство тремя лучшими театрами Вест-Энда…
Она сразу оживилась.
– Ты же всегда этого хотел.
– Хотел когда-то. Но это пришло слишком поздно, как и многое другое. Когда нет ни идеала, ни подлинного взаимопонимания, ни…
– Да провались оно, твое взаимопонимание! Ты же не откажешься от его предложения?
Чиверел ухмыльнулся. Порисоваться еще? Нет, это дешевка; но он должен был доставить себе какое-то удовольствие напоследок перед уходом в бескрайнюю холодную пустыню своего внутреннего мира.
– Вот именно откажусь. Со множеством благодарностей. Я же сказал тебе, что с этим покончено.
Она с ужасом смотрела на него, потому что они не раз часами говорили о том, что было бы, если бы представилась такая возможность.
– Мартин, я не верю.
– Это правда, – сказал он на этот раз твердо и спокойно. – Я по-прежнему буду писать, может быть, киносценарии – время от времени, ради денег, – но для Театра больше писать не буду. Впрочем, это неважно, потому что Театр, каким мы его знаем, долго не просуществует. Прежнее волшебство потеряло силу. Да, я знаю, я слышал твои слова: он всегда при последнем издыхании. Но не забывай, что даже самые упрямые больные в конце концов поворачиваются лицом к стене. И, по-моему, сейчас в жизни Театра как раз такой момент.
– И тебя это нисколько не волнует?
– В какой-то мере волнует. Но не слишком.
К его удивлению, однако, она восприняла это вполне хладнокровно. Только посмотрела на него долгим задумчивым взглядом, как смотрят на больных.
– Сейчас тебя вообще мало что волнует? – спросила она.
– Да. Я сделал почти все, что я хотел сделать…
– Нет, не все. Ты не сделал главного – того, что должен был и действительно хотел сделать…
Чиверел поднял брови.
– Что же я хотел сделать?
– Бежать из своей внутренней тюрьмы, – сказала она резко. – Разбить стеклянную дверь, которую ты соорудил для себя.
– Этого не в силах сделать никто из нас, – ответил он, пожалуй, слишком категорично.
– Откуда тебе знать? Ты еще даже самого себя не знаешь. – Она помолчала, печально взглянула на него и тихо добавила: – Я знаю, что тебе плохо, Мартин, ты устал и выдохся, – может быть, мне не стоит говорить дальше…
– Продолжай, – сказал он мрачно. – Я выдержу.
– Не знаю. Ты усталый, больной человек, Мартин.
– О боже! – почти закричал он в раздражении. – Ты скоро посадишь меня в инвалидную коляску! Говори, в чем дело?
– Дело в том, Мартин, – и я давно хотела тебе сказать это, – что ты развращен успехом. Ты получил слишком много, и все досталось тебе слишком легко. И поскольку тебе не для чего – и не для кого – работать, бороться, не о чем и не о ком заботиться, ты заскучал, стал циничным и желчным, замкнулся в себе самом и вообразил, что знаешь о жизни все.
Он задумался над ее словами и пришел к выводу, что она совершенно не права. Что-то с ним не так, но дело совсем в другом. Ему пятьдесят, и он лет на пятнадцать старше тех, к кому можно отнести сказанное ею. Умные набалованные молодые люди – вот кто скучает, становится циничным и желчным. Он был далек от таких глупостей; но он не осуждал Паулину за то, что она этого не понимала. Он чувствовал невероятное, безмерное утомление и одиночество, словно вся его энергия, весь интерес к жизни куда-то улетучились. Может быть, одна какая-нибудь железа перестала нормально работать и нарушила баланс в организме. А может быть, весь механизм износился. Но не было смысла углубляться в эту тему с Паулиной, поэтому он просто проворчал, что он счастливчик и знает, что многим беднягам не так везло, как ему…
– Нет, нет! – воскликнула Паулина. – В том-то и дело. Вот где ты обманываешь себя, Мартин. Другие тут ни при чем. Это все ты, ты. Ты вообразил, что у тебя все уже в прошлом, что ждать больше нечего, поэтому от всего тебя воротит. И ты изобретаешь сложные теории, чтобы объяснить это. Разобщенность! Стеклянные двери!
– Не думаю, чтобы это было правдой, – сказал он мирно. Он отлично знал, что это неправда. – Но, предположим, ты права. Что же дальше? Вот я. Как я могу измениться?
Она с озадаченным видом посмотрела на него и жалобно проговорила:
– Я не знаю. Если бы это пришло откуда-то изнутри, из глубины… Но я не думаю, что это придет вообще, потому что ты надежно изолирован и защищен своей искушенностью и опытностью. – Она взглянула на него. – Но где-то за всей этой искушенностью и опытностью, скукой и желчностью живет совсем молодой, сбитый с толку и разочарованный человек… и одинокий… потому что ему не с кем поговорить – он заперт там один. Я поняла это десять лет назад, когда нам казалось, что мы влюблены друг в друга. И я старалась добраться до него, чтобы его ободрить, но не смогла – или ты не позволил мне, – и оттого все пошло вкривь и вкось. Ах, проклятье! – Слово вырвалось у нее потому, что она не хотела плакать, но вдруг обнаружила, что плачет. Она отвернулась, стараясь взять себя в руки. А Чиверел подумал, что голова ее как-то нелепо раскачивается из стороны в сторону, и тут же мысленно обругал себя за бесчувственность. Бедная Паулина.
– Прекрасная теория, моя дорогая, – сказал он мягко. – Но даже если бы это было правдой, тут, по-видимому, ничего не поделаешь.
– Я знаю. Это безнадежно. До того, другого Мартина Чиверела, который заперт там… один, можно добраться только чудом.
– А чудес не бывает. – Он немного помолчал. – И ты еще осуждаешь меня за то, что в конце моей пьесы все оказываются как бы за стеклом и яростно жестикулируют, но их никто не понимает…
– Нет, я не осуждаю тебя, – сказала она устало, словно они спорили уже многие годы. – И я не стану больше ничего говорить. Ты не изменишь этот безнадежный страшный третий акт. Ты уйдешь из Театра…
– Который все равно умирает, – заметил он.
Она повернулась к нему, вспыхнув от негодования.
– Конечно, он умрет, если такие люди, как ты, покидают его. – Затем она продолжала прежним тоном. – Но сейчас я думаю о тебе: вот ты перестал писать по-настоящему, а просто убиваешь время, стареешь, становишься черствым… и жалким.
Актерская дверь медленно, со скрипом отворилась, и Альфред Лезерс просунул голову в щель. Паулина поспешно отвернулась.
– Прости, что помешал, дружище, – сказал Лезерс, – но мы чертовски прочло застряли на этой телефонной сцене из первого акта. У Бернарда появилась идея сделать купюру. Может, ты спустишься на минутку и посмотришь?
Чиверел сказал, что спустится, и Лезерс исчез. Проходя мимо Паулины, все еще подавленной, Чиверел потрепал ее по плечу.
– Прости, Паулина. Не стоит так расстраиваться. Скоро твой выход. – И он пошел вниз на сцену.
3
Пока Чиверел был внизу, где сначала обсуждал предложенную Бернардом купюру, а потом трижды смотрел, как актеры прогоняют новый вариант телефонной сцены, в Зеленой Комнате случилось одно происшествие, о котором впоследствии Паулина подробно ему рассказала. Она решила задержаться там на две-три минуты, чтобы не показываться остальным в таком виде. Она тронула карандашом веки, напудрилась и, не совсем еще придя в себя, закурила сигарету. Она впервые оказалась одна в Зеленой Комнате. Это была старинная комната, довольно большая, обшитая темным деревом, со множеством портретов по стенам. Там стояли два высоких застекленных шкафа, полные костюмов, мелкой бутафории и разных безделушек, превратившихся теперь в театральные реликвии. Это подобие музея должно было бы придавать комнате безопасный и достаточно унылый вид. Но Паулина вовсе не ради смеха сказала в своей речи, что здесь водятся привидения. В этой мрачноватой, далекой комнате не было окон, и теперь, когда Паулина осталась одна, вся атмосфера, не зловещая и угрожающая, но словно насыщенная какой-то невидимой тайной жизнью, угнетала ее. Закурив сигарету, Паулина попыталась сосредоточиться на Мартине Чивереле и забыть, что она в Зеленой Комнате, но безуспешно. Она уже хотела уйти, вернее, обратиться в бегство, как вдруг снаружи послышались голоса, и дверь распахнулась.
В комнату влетела девушка, за ней с негодующими возгласами следовал встревоженный Отли. Девушка была растрепанная, в коротком коричневом пальтишке из твида и темно-зеленых спортивных брюках, и Паулина сразу поняла, что это актриса.
– Ах! – разочарованно вскричала девушка, оглядевшись по сторонам. – Его здесь нет. – Она с трудом переводила дыхание.
– Теперь вы видите, – сказал Отли, чье круглое красное лицо выражало глубочайшее неодобрение, – что все это ни к чему! Постыдились бы врываться подобным образом. Что бы это было, если бы все стали вести себя так, как вы?
– Да плевать я хотела! – сказала девушка, и это была не грубость, а просто отчаяние в соединении с молодостью. – Дело в том, что я не «все». Я актриса, и я должна видеть мистера Чиверела.
– В таком случае вы выбрали неудачный способ, – сказал Отли и повернулся к Паулине: – Прошу прощения, мисс Фрэзер. Я пытался ее остановить, но…
– Ах! – воскликнула девушка, широко раскрыв огромные круглые глаза. Она не была хорошенькой, но теперь Паулина увидела, что у нее своеобразная внешность, хорошее для актрисы лицо, широкоскулое, с красивыми темно-зелеными глазами, дерзким маленьким носиком и мягким выразительным ртом. – Вы – Паулина Фрэзер, это правда?
– Да, – улыбнулась Паулина, – а вы?
– О, вы никогда обо мне не слыхали. Меня зовут Энн Сьюард…
– Послушайте, мисс Сьюард… – начал Отли.
Но Паулина остановила его.
– Ничего, мистер Отли. У меня есть еще несколько минут, и я могу поговорить с мисс Сьюард.
– Пожалуйста, мисс Фрэзер, – уступил Отли. – Я ведь только старался, чтобы не потревожили мистера Чиверела.
Девушка неожиданно улыбнулась ему очаровательной улыбкой.
– Ну, конечно! Не сердитесь, я должна была сюда попасть.
Отли пошел к двери, ворча:
– Не уверен, что должны, но вижу, что попали…
Едва дверь за ним закрылась, Энн Сьюард с таинственным видом повернулась к Паулине.
– Понимаете, что произошло: я работаю в Уонли в репертуарном театре, это миль тридцать отсюда, и когда я узнала, что мистер Чиверел показывает здесь свою новую пьесу, я поняла, что мне просто необходимо с ним встретиться. Я вообще-то не такая, то есть я не всегда вот так нахально вламываюсь, а то меня, наверное, не взяли бы в уонлейский театр.
– Может быть, и нет, – улыбнулась Паулина, – но ведь у вас еще все впереди. Вы такая молодая.
Энн этого не находила.
– Мне двадцать три года, – объявила она печально.
– Ну, это не так уж много.
Энн посмотрела на нее с восхищением.
– Вы великая актриса. Когда у меня осенью выдалась свободная неделя, я отправилась в Лондон и, помню, во вторник пошла смотреть вас в пьесе Мартина Чиверела «Блуждающий огонь».
– Это чудесная пьеса!
– Да. Я ходила и в среду, и в четверг. Три раза. Вы играли удивительно. Только… вы не рассердитесь, если я скажу одну вещь?
Паулине стало смешно.
– Все может быть. Но давайте рискнем.
Отбросив всякое смущение, девушка горячо продолжала:
– Вот в конце второго акта, когда вы узнаете о том, что он вернулся и ждет вас, – тут, по-моему, вы должны были бы все выронить, что у вас в руках, как будто обо всем забыли, и потом выйти прямо в сад. Вы не сердитесь, что я это сказала?
– Нет, что вы! Собственно, я и сама хотела сделать что-то в этом роде, но наш режиссер мне бы не позволил. Знаете… мне кажется, вы настоящая актриса…
– Вы так думаете? – в восторге воскликнула девушка. – Я знаю, что я актриса. Конечно, в провинциальном театре это безнадежно, а уж у нас в Уонли и подавно. Я могла бы играть в тысячу раз лучше, если бы мне только удалось получить роль, особенно в пьесе Чиверела. Пожалуйста, мисс Фрэзер, я не хочу надоедать, мне самой противно так врываться, но я просто должна его видеть. Где он?
– Он сейчас внизу, на сцене, но скоро вернется сюда. Только я вас предупреждаю, он очень устал и не в духе и не хочет никого видеть…
– Я его не потревожу. Я только спокойно объясню, кто я такая и что я делала, и попрошу его посмотреть меня.
Паулина кивнула.
– Садитесь. Хотите сигарету?
– Нет, спасибо. И если вы не возражаете, я не стану садиться. А то мне как-то неспокойно.
Она в первый раз за все время обвела взглядом комнату, и у нее перехватило дыхание от внезапного и жадного юного изумления.
– Какая чудесная комната! Это и есть их знаменитая Зеленая Комната, о которой столько говорят?
– Да, – сказала Паулина. – И им в общем удалось сохранить ее такою, какой она была когда-то.
– Так жалко, что теперь у нас нет Зеленых Комнат! – Энн продолжала смотреть по сторонам. – Тут ужасно здорово! – прибавила она доверчиво и простодушно, как ребенок.
– Многие боятся сюда заходить из-за привидений, – сказала Паулина.
– Еще бы, здесь их наверняка полным-полно, они только и ждут, как бы показаться и шепнуть вам на ухо…
– Ах, перестаньте! – воскликнула Паулина.
– Нет, – сказала Энн. – Это ведь не обычные привидения – не убийцы и не сумасшедшие старухи; эти должны быть из наших – актеры и актрисы, которых, как и нас с вами, Театр лишил сна и покоя. И я бы их нисколько не боялась. Они тут, я уверена, их тут десятки. Мисс Фрэзер, – продолжала она возбужденным шепотом, – а вам не хочется посидеть тут поздно вечером и покараулить?…
Вот что значит двадцать три года!
– Боже избави! – воскликнула Паулина. – Я бы умерла от страха.
И внезапно, охваченная ужасом, вонзившимся в нее сотнями холодных иголок, она поняла, как ей страшно уже сейчас, в эту самую минуту, и поскорее села, предоставив девушке в одиночестве бродить по комнате, разглядывать портреты.
– Наверное, все они здесь когда-то играли, и в те времена этот театр был покрасивее, чем теперь, – сказала Энн, обернувшись. – Вот Эдмунд Кин – сразу видно, что хороший актер, правда? Элен Фосит – симпатичная. Мэтьюс-старший – этот наверняка был сногсшибательный комик… – Она шла дальше. – Миссис Йайтс… Мисс Дженни Вильерс в роли Виолы. Акварель. Дар Шекспировского общества города Бартон-Спа. Дженни Вильерс. Красивое имя. Я никогда о ней не слыхала, но почему-то имя мне кажется знакомым. Могу поспорить, что ей тоже приходилось докучать людям, прежде чем ее согласились посмотреть, хотя она такая милая и печальная, и волосы вьются локонами. Ой, что это?
Паулина испуганно вскинулась.
– Что такое? Что там?… Я ничего не видела.
С минуту они смотрели друг на друга. Потом Энн, с трудом переводя дыхание, но очень тихо произнесла:
– Ничего… но… вы ничего не почувствовали?
– Нет, – сказала Паулина смущенно. – Я думала, что вы нарочно напугали меня.
– Извините, пожалуйста, – сказала Энн медленно и осторожно. – Но чуть только я это сказала – ну, про Дженни Вильерс, – я почувствовала вдруг легкое дуновение, очень холодное, и потом кто-то – или что-то – проскочил мимо меня. Ай! – И она уставилась на пол.
Паулина вскочила на ноги, вся дрожа от нервного напряжения.
– Что? Что там?
Энн указала на пол. В нескольких футах от ближайшего стеклянного шкафа на полу лежала старинная фехтовальная перчатка, оливково-зеленая с красным. Энн подняла ее.
– Ее тут не было, мисс Фрэзер. Клянусь вам, не было. Я бы заметила.
– Это от старого костюма, – сказала Паулина, подходя ближе и рассматривая ее. – Они тут хранят остатки старых костюмов и реквизита. – Она кивнула на стеклянный шкаф. – Перчатка могла выпасть оттуда. И все. Вот вы и почувствовали дуновение.
– Наверное, – сказала Энн медленно. – Только она не выпала. Она должна была выпрыгнуть, чтобы так пронестись мимо меня. Ой! – И она снова вытаращила глаза.
– Перестаньте визжать! – закричала Паулина, не в силах больше притворяться спокойной. – Что там еще?
– Дверца шкафа, – ответила Энн виноватым тоном. – Видите, она закрыта. Как могла перчатка…
– Дверца могла внезапно распахнуться, – запальчиво возразила Паулина, – а потом снова захлопнуться. Так часто бывает.
– Да, наверное. – Теперь она уставилась на Паулину. – Только немного странно, что перчатка так себя ведет, правда?
– Ничего тут нет странного, и, ради бога, перестаньте делать вид, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Мне предстоит провести тут еще десять дней, а вам нет. Положите ее на место.
Энн направилась к стеклянному шкафу.
– Это она сделала, – прошептала она. – Эта самая Дженни.
– Какой вздор! Ну, будьте умницей. – Паулина подошла к двери. – Мистер Чиверел должен вернуться с минуты на минуту. – Она приоткрыла дверь, чтобы слышать шаги всякого, кто станет подниматься по лестнице. – Я знаю, что он не захочет говорить с вами. Я постараюсь убедить его. Вам лучше подождать за дверью.
– Но если я буду еще здесь, ему поневоле придется поговорить со мной.
– Ничего подобного, – сказала Паулина сердито. Славная девочка, может быть, даже умненькая, но все-таки довольно приставучая. – Не забывайте, что с ним постоянно ищут встреч, а он этого терпеть не может, особенно сейчас. Делайте то, что я вам говорю, – это ваш единственный шанс.
Энн сразу сдалась.
– Да, вы правы. Только не считайте меня неблагодарной.
Паулина все еще стояла возле приоткрытой двери, прислушиваясь к звукам шагов, доносившимся снизу.
– По-моему, он уже поднимается. Постойте там и подождите. Я сделаю все, что в моих силах.
– Вы прелесть, – сказала Энн, направляясь к двери.
Оставшись в комнате одна, Паулина подошла к стеклянному шкафу, где спокойно лежала перчатка, и некоторое время задумчиво ее рассматривала. Потом подергала маленькую защелку шкафа, которая оказалась вполне надежной. Наконец достала перчатку и осмотрела ее со всех сторон, словно предмет, извлеченный из шляпы фокусника. Услышав шаги Чиверела, она быстро положила перчатку на место, но шкаф закрыть не успела.
Чиверел нес пачку писем и рукопись своей пьесы.
– Я был на служебном подъезде. Вот тебе два письма, – сказал он, протягивая их Паулине, – а эти все мне, в основном вздорные. С той сценой теперь все в порядке. Мы сделали крошечную купюрку. Минуты через две тебя позовут, Паулина.
В нише возле двери стоял небольшой письменный стол, и Чиверел положил на него свою корреспонденцию.
Паулина медлила.
– Я уже иду. Мартин, здесь одна девушка из местного театра. Она потратила целый день и приехала сюда только ради встречи с тобой.
Чиверел раздраженно передернул плечами и сел.
– Отли незачем было впускать ее. – Он вскрыл письмо и пробежал его глазами. Его нисколько не интересовала эта девушка, но он понимал, что говорить с Паулиной, повернувшись к ней спиной, просто свинство. Но даже несколько минут работы на сцене вымотали его, и он мечтал, чтобы Паулина поскорее ушла и оставила его одного.
– Отли пытался задержать ее, но не смог, – объяснила Паулина. – Это очень решительная девушка, и я не удивлюсь, если она окажется совсем неплохой актрисой. А теперь, раз уж она здесь, ты поговоришь с нею?
Не оборачиваясь, он резко ответил:
– Нет.
– Не злись, Мартин…
На этот раз он обернулся и взглянул на нее.
– Она не имела права врываться сюда. И я могу только сказать ей, что мне до нее нет ровно никакого дела. Прости, Паулина, но если даже она молодая Дузе или Сара Бернар, мне это совершенно безразлично. Просто меня это уже не интересует. И слава богу, мне не нужно искать многообещающих молодых актрис. Чего ради я должен отдавать себя на растерзание?
– Мартин, ты но прав, – укоризненно сказала Паулина. – Что за мерзость!
– Мисс Фрэзер, на сцену, – позвал кто-то снизу.
Уже с порога Паулина крикнула ему:
– Хоть бы с тобой что-нибудь случилось, Мартин. Не знаю что, но что-нибудь такое удивительное, чего нельзя объяснить, а можно только чувствовать. – И она хлопнула дверью.
Просматривая письма, Чиверел услышал, что другая дверь отворяется, но не обернулся.
Затем молодой голосок произнес:
– Я актриса, мистер Чиверел. Меня зовут Энн Сьюард.
Он даже не взглянул на нее.
– Вы не имели права входить сюда. Прошу вас уйти.
– Я играла во многих ваших пьесах… и я люблю их.
Чиверел торопливо порвал два конверта и письмо от женщины, приславшей ему пространную идиотскую заявку на пьесу о переселении душ.
– Но тем не менее я занят и не желаю вас видеть.
– И даже взглянуть на меня не желаете? – недоверчиво спросила девушка.
– Да, – ответил он сердито, не оборачиваясь. – Прошу вас немедленно уйти.
Последовала пауза – странная, недолгая пауза.
– Вы пожалеете, что сказали это, и очень скоро. – Она говорила с необъяснимой уверенностью. Чудная девица; голос как будто неплохой; но он все же не собирался замечать ее существование. Он слышал, как она ходит по комнате, и не мог понять, что она собирается делать. Потом она сказала, к его изумлению:
– Смотрите, перчатка опять на полу. Даже привидения за меня. Берегитесь!
Он услышал звук закрывшейся за ней двери, но еще некоторое время сидел неподвижно. А когда встал, то обнаружил, что она взяла фехтовальную перчатку из шкафа, дверца которого была открыта, и швырнула ее на пол, словно бросая вызов. Какая-нибудь давным-давно почившая и позабытая Розалинда носила эту перчатку, и он рассматривал и разглаживал ее с меланхолической нежностью. Когда там внизу, на сцене, впервые надели эту перчатку, ярко-зеленую с алым, Арденнский лес, где «время они проводили беззаботно, как, бывало, в золотом веке»,[1]1
В. Шекспир “Как вам это понравится”, пер. Т. Щепкиной-Куперник.
[Закрыть] не казался таким далеким, таким безвозвратно утерянным, каким он кажется сейчас ему, равнодушному, утомленному человеку в полуразрушенном мире. В этой нелепой перчатке было что-то бесконечно женственное, она словно светилась отраженным светом того Театра, который некогда очаровал его, а теперь казался унылой площадкой для игр. Он собирался отнести ее на место, туда, где ей полагалось быть, но вместо этого неожиданно для себя положил на стол, а сам дочитал письма, написал короткую записку приятелю и нудное длиннейшее письмо своему агенту; часть писем он отложил в сторону, а остальные порвал к выбросил. Перчатка снова и снова притягивала его взор, и в ее ало-зеленом великолепии ему чудилась какая-то насмешка.