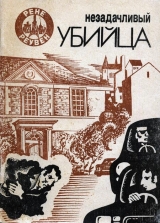
Текст книги "Незадачливый убийца"
Автор книги: Рене Зюсан
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Рене Реувен
Незадачливый убийца
Письмо, полученное в среду мэтром [1]1
Мэтр – обращение во Франции к адвокату и нотариусу.
[Закрыть] Октавом Манигу, парижским адвокатом.
Дорогой мэтр!
Конечно, вы сразу заглянете в конец письма, чтобы увидеть, чья там подпись. Напрасно, вы не найдете ее. Я отнюдь не из тех, кто желает вам добра. Настоящим я объявляю о своем намерении вас убить. (Теперь вы согласитесь, что подписать это письмо было бы крайне глупо). Конечно, для подобного решения у меня есть серьезные причины. И конечно же, преступление, которое я готовлю, будет безупречным по исполнению. Мне представляется в высшей степени непорядочным задавать работу присяжным только потому, что я избавил наш мир от такого господина, как вы.
Прежде чем открыть вам, что мною движет, хотелось бы заверить вас: я проделал свою работу весьма основательно. Я хорошо вас знаю, дорогой мэтр. Имейте в виду, что я слежу за вами вот уже несколько лет. В общем-то все связано с Лазурным берегом, чей умеренный климат склоняет к холодным блюдам (месть слывет здесь одним из них). Тот факт, что вы обосновались теперь в столице, ничего не меняет.
Итак: пресса, слухи в свете, хроника происшествий… прибавьте сюда немало тайных наблюдений, сделанных людьми, уже ушедшими от нас или покинувшими родные места, – и вы передо мной как на ладони. Вас зовут Октав Манигу. Со стороны матери вы единственный прямой наследник финансовой династии Дюлошей, берущей свое начало от покойного Октава Дюлоша, мужа вашей бабушки Матильды. Эта самая бабушка, восьмидесяти пяти лет от роду, с профилем орла и языком змеи, до сих пор обладает вполне ясной головой. Похоже, она не скоро еще свихнется, и в свете поговаривают, не пора ли ее пристрелить.
Матильда Дюлош превратила воспоминания о своем супруге, великом финансисте, сколотившем немалое состояние, в некий культ. Вы в какой-то мере его жертва; замечу, что прозвище, выбранное вами для себя, – «Октав II», плохо скрывает ваше раздражение. Я уверен, что если однажды вы придушите вашу бабулю, то вовсе не из-за того, чтобы овладеть ее наследством, просто вам давно хочется сжечь громадный портрет в рост Октава I, который безобразит салон частного отеля семьи на проспекте маршала Фоша.
Из всей родни Дюлошей мало кто остался сейчас в живых. Ближайшего из ваших двоюродных братьев зовут Жорж-Антуан Дюбурдибель. Не наживший детей (по крайней мере, в браке), неудачник, по слухам, в семейной жизни, он занимается сделками, связанными с недвижимостью. Как и вы, он покинул мирные небеса Прованса, чтобы уйти с головой в водоворот парижской жизни. У него одна слабость: страсть к лошадям, впрочем, столь мало разделяемая самими лошадьми, что она стоила ему неоднократного знакомства с больницей.
И наконец, чтобы уже покончить с родственниками, скажу о вашей двоюродной сестре Клод Жом, представляющей со стороны матери боковую ветвь Дюлошей. Было время – уже далекое, – когда ясновидцы из общества предсказывали ваш союз с ней (чтобы все состояние осталось в одних руках). Ваша бабушка положила конец их пророчествам: семья Жом имела прискорбную склонность к шизофрении. Отец умер безумным; сын Людовик, моложе Клод на пятнадцать лет, покончил с собой еще подростком, причем его умственное расстройство было столь же явным, сколь и неизлечимым.
В то время за Клод ухаживал Юбер Ромелли, чья семья имела сомнительную репутацию. Сам Юбер, которому приписывали связи с преступным миром Ниццы, в браке, видимо, остепенился; в это тем охотней верится, что женитьба на Клод обеспечила ему лучезарное будущее.
Вот все, что касается ваших предков и близких. Остается коснуться потомства. В шутку говорят, что старая Матильда выйдет из игры не раньше, чем увидит в семье Дюлошей еще одного отпрыска мужского пола, который незыблемой силой закона будет носить фамилию Манигу.
Уже пятнадцать лет она коротает послеобеденные часы, обдумывая варианты ваших браков по расчету. Потом обрисовывает вам самые их соблазнительные аспекты в фас, профиль и со спины – да видно, без большого успеха. Один раз чуть не выгорело дело с семьей Бюрдуа-Делюзи, но карты смешало преступление (в него как-то были впутаны и вы), по поводу которого утверждали, что без вас полиция ни за что бы не нашла виновного. Множество сведений, которые мне удалось собрать, относятся именно к тому времени. Тогда пресса столько судачила о вас… Если все это верно, вы теперь сможете употребить ваши способности сыщика для спасения собственной жизни. Согласитесь, восхитительная перспектива!
Из-за того, что называли «делом о залоге», вы бросились в работу, как в запой, чтобы забыть, по-видимому, свои неприятности. Очень скоро вы стали одним из самых видных адвокатов на Лазурном берегу. А потом отправились завоевывать Париж…
Сейчас у вас процветающее бюро в седьмом округе. Вам помогают два адвоката-стажера, о них я скажу в нескольких словах, ибо один и другой, по-моему, мало заслуживают внимания: добросовестные, прилежные, исправно посещающие собрания стажеров.
Первого зовут Робер Дюран. Он из тех, кто сильно затруднил бы полицию, вздумай она искать у него особые приметы. Впрочем, кое-что есть: косноязычная речь, что немало удивляет в человеке, посвятившем себя поприщу, требующему постоянного красноречия.
Вторым стажером, Патрисом Добье, вы обязаны пугающему – временами – доброжелательству вашей бабушки. Эта последняя имеет одну странность: относясь высокомерно к людям, которым чем-то обязана, она бесконечно благосклонна к тем, кому ей случалось делать добро. В данном случае речь идет о нотариусе вашей семьи, мэтре Даргоно; Добье был женихом его дочери. Девушка нашла безвременную смерть в автомобильной катастрофе, ipso facto[2]2
ipso facto – тем самым (лат.)
[Закрыть] свадьба расстроилась, но вы оставили у себя, так сказать, экс-будущего зятя нотариуса.
Что до вашей секретарши Мари-Элен Лавалад, то скажу о ней, что это воплощенный набор всех качеств, полагающихся ей по должности. Одевается она скромно, говорит мало, работает много, носит шиньон, очки и туфли на низком каблуке. Вы мудро поступили, выбрав именно ее, ибо с ней невозможно связать слухи, от которых пострадала бы ваша репутация. Помимо всего, ей приписывают редкостную язвительность в речах.
Я полагаю, вы уже порядком озадачены: к чему эта дотошность в изложении деталей, которые вам лучше знать, чем мне? Да просто к тому, чтобы убедить вас, что я не шучу. Не играю ли я с огнем, спросите вы. Ведь в конце концов можно отнести это письмо в полицию, там исследуют бумагу, особенности шрифта, отпечатки пальцев. Отнести можно… Я не думаю, что вы это сделаете, но смею вас заверить, что специалисты все равно ничего не обнаружат. Бумага самая обычная, машинка старая и спрятана в месте, где никому не придет в голову ее искать. Следов пальцев тоже не найдут: зачем существуют перчатки? И последнее: письмо было опущено в Париже, но что ему мешало быть написанным где-нибудь на Лазурном берегу? Скажу больше: я очень надеюсь, что письмо вы все-таки покажете полиции. Но, повторяю, техника вашего убийства разработана безукоризненно, другими словами, предусматривается любая случайность. Я обойдусь без этих хорошо подготовленных алиби, столь хрупких механизмов, что и песчинка выводит их из строя. Мое же алиби психологического свойства. Мне не придется никому рассказывать, как я провел день, когда произошло преступление, по той простой причине, что никто и не помыслит спросить меня об этом.
У меня нет никаких сообщников. Точнее, один есть – и какой: вы сами. Вот что я хочу сказать, дорогой мэтр: каждое произнесенное вами слово, каждый ваш поступок будут новым звеном ловушки, которую я делаю, еще одним камнем созидаемого мною преступления, дополнительным штрихом алиби, которое я себе обеспечиваю.
Быть может, пришел черед вопроса «за что?» В самом деле, за что? О мой бог, все очень просто. Я хочу умертвить вас, ибо закон людей невсеобъемлющ, ибо правосудие несовершенно, ибо некоторые деяния заслуживают кары, пусть даже уголовный кодекс и не предусмотрел за них наказания.
Ведь можно убивать не только остро отточенной бритвой или меткой пулей, но и безразличием, подлостью, игрой с чувствами живых людей. Возможно, вы все забыли, вы искренне поражены: «Я? Что я сделал плохого? Где, когда, как? И кому?..»
Я много говорил о вашей семье, о вашей работе. Мало – о вашей личной жизни. Вы из тех, кого называют весельчак, хват, а говоря грубо, бабник. Весь Лазурный берег судачил о ваших похождениях, был свидетелем ваших коротких интрижек. Говорят, мало есть женщин, давших вам отпор в тех случаях, когда вы не жалели времени для их обольщения. До какой степени эта столь явная радость жизни, эта лихорадочная веселость могут быть искренними – вот о чем мало задумываются. Может быть, вы стараетесь забыться?
Обратитесь к вашей совести, загляните в душу к себе, в самые ее потаенные уголки, чтобы увидеть всю грязь, там накопившуюся, оживите без всякого снисхождения ваши воспоминания.
Желая вам добраться до некоторых из них раньше, чем я доберусь до вас (ибо крайне неприятно умереть неизвестно из-за чего), прошу вас, дорогой мэтр, принять уверения в моих убийственно почтительнейших чувствах.
25 февраля, среда.
Из письма Мари-Элен Лавалад (Париж) Элеоноре Дюге (Анжер).
…Помнишь ли, дорогая Онор, мое последнее письмо? Я тебя коротко известила, что ушла из рекламного агентства: там сложились трудные для меня обстоятельства, но какие именно, я умолчала.
Теперь расскажу, в чем было дело: один из молодых художников этой конторы делал мне более чем явные авансы. Еще несколько лет назад я нашла бы их приемлемыми, но тут посчитала за лучшее обидеться. Это следствие довольно сложной сделки с собственным самолюбием. До тридцати лет я делала все, чтобы оставаться молодой (правда, особого счастья в личной жизни мне это не принесло); когда миновало тридцать пять, я дала задний ход, кокетство сменила деловитостью, всякое притворство – откровенным высказыванием всего, что на душе. Помимо того, я приучила называть себя просто по фамилии – Лавалад, без имени и даже без «мадемуазель». Впрочем, все эти меры мало помогли мне избежать эпизода, упомянутого выше.
Директору, удивленному моим уходом, я объяснила, что слишком стара для флирта, но еще слишком молода, чтобы пополнять любовную коллекцию нетерпеливых мартовских котов. Когда я начну совсем уж сильно краситься, тогда и найду время интересоваться кем помоложе.
Итак, я поступила в контору адвоката, уже хорошо известного на Лазурном берегу и лишь недавно бросившего якорь в Париже. Занимается он гражданскими делами. Это место мне устроила Сюзанна Браш, ныне Дюбурдибель. Помнишь ли ты эту дылду, чьи чрезмерные добродетели были притчей во языцех в нашем пансионе? Она вышла замуж – и удачно – за директора очень крупного агентства по продаже недвижимости, он же двоюродный брат моего патрона. По слухам, этот двоюродный брат вконец несчастен с Сюзанной. Страдалец не может найти утешения даже в том, что делит еще с кем-нибудь тяжесть своих супружеских цепей. Сюзанна погрязла в абсолютной нравственности, всем нам известной, и которую время бессильно было расшатать. Впрочем, чтобы обманывать своего мужа, нужен третий, а ведь если Сюзанне удалось склонить одного мужчину разделить с ней ложе – разумеется, в священных рамках брака, – то это повод сказать, что чудо случается только раз.
Что касается моего нового патрона – лучше всего описать его, процитировав из одной газетки несколько строк в рубрике, относящейся к Лазурному берегу: «…адвокат блестящий, но с ленцой, тридцати шести лет, значительное личное состояние, перспективы к увеличению его еще более значительны, постоянные доходы, частный отель в Ницце, живет в западном предместье Парижа, охота на тетеревов осенью, рыбная ловля летом и женщины – круглый год…»
Ты спросишь себя, как, выпутавшись только-только из одной истории, я решилась вверить свое время, а может быть, и честь человеку со столь ненадежной репутацией? Все очень просто, дорогая. В моем возрасте, и играя к тому же роль буки, я буду куда спокойней здесь, чем у какого-нибудь господина со столь ограниченными способностями к обольщению, что он свои ищущие взоры обращал бы лишь на одну меня, находящуюся, так сказать, всегда под рукой.
А теперь представь себе крупного мужчину, которому можно дать его годы плюс несколько килограммов – это и есть мэтр Манигу. В Ницце он немного занимался каратэ, чтобы поправить урон, наносимый фигуре вкусной едой, до которой он охотник; здесь, в Париже, он этот спорт оставил. Небольшая полнота сообщает определенную грацию его несколько неуклюжей – вразвалочку – походке. У него полное лицо с ямочками, не лишенное юношеской свежести. Острота его ума, признанная всеми, умеряется иной раз удивительной наивностью, о которой спрашиваешь себя, до какой степени она не притворна и не призвана укрепить его арсенал искусителя (ведь в каждой из нас дремлет мать). Я вспоминаю по этому поводу слова Люсиль Рожерон, той, чьи аборты свидетельствуют о практическом освоении науки любви: «Мужчины, как правило, куда менее наивны, чем об этом думают женщины, но гораздо более, чем полагают они сами».
Сейчас я не знаю, разглядел ли что-нибудь наметанный глаз моего патрона под личиной официальности, которую я ношу, но он не позволяет себе ни малейшей вольности, пусть даже в речах. Я думаю, что в общем-то у этого ловеласа к его отношениям с враждебным полом примешивается некая тайная стыдливость (в явном противоречии с тем, что о нем известно). Он принимает каждую женщину такой, какой она хочет быть, такова его манера уважать нас. Не улыбайся, милая змейка, и давай поговорим о других моих сослуживцах.
Это два адвоката-стажера. Фамилия первого Дюран. Имя Жюль, но он просит называть себя Робер. Я-то скорее сменила бы фамилию, но на вкус и цвет… Кажется, его детство прошло в каком-то приюте; своему теперешнему положению он обязан исключительно личным дарованиям. Он холостяк, впрочем, знаю я его мало, ибо и говорит он мало. Этот молодой человек и заикается, и скрытен – все сразу; оба эти недостатка едва ли не хуже, чем сама немота. Иногда мне кажется, что это тактическая уловка. В той мере, в какой внешность отражает ум человека, можно сказать, что за его молчанием скрывается немалая духовная глубина.
Второй стажер, Патрис Добье, если и поживей Дюрана, то ненамного, но его можно извинить: за несколько недель до женитьбы у него погибла невеста. Щетка жестких волос и форма челюсти дают основание думать, что не так скоро он забудет покойную. А если серьезно, Патрис – парень с головой и хорошим будущим. Ну и напоследок, упомяну бабушку моего адвоката. Как-нибудь потом я напишу тебе больше об этой старушке, которая мне почему-то несимпатична. У меня о ней смутное и, может быть, неточное представление, как о гигантской паучихе, затаившейся в своем семейном отеле в Ницце. Она никогда сюда не звонит, презирая такой способ общения. Патрон однажды мне сказал, что со времени его отъезда их отношения носят исключительно эпистолярный характер. Откровенно говоря, любопытно было бы хоть одним глазком заглянуть в их переписку…
3 марта, вторник.
Из письма Матильды Дюлош (Ницца) мэтру Октаву Манигу (Париж).
…Как все это понимать? Глупая шутка или здесь что-то другое? Я внимательно прочла присланную тобой фотокопию письма. Там много подробностей, касающихся тебя. Всех нас. Слишком много и не очень нужных, все это до такой степени, что задумываешься, а не является ли этот пространный реестр деталей некоей дымовой завесой. Ибо, по-моему, возможны два предположения. Первое: изложенное в письме точно отражает мысли пишущего, это наименее привлекательная гипотеза. Второе: намешали понемногу правды, выдумок, всякого циничного вздора, все это взболтали – и готова похлебка, достойная ума, чей сумбур выдает собственный же стиль.
Похоже, тебя как будто упрекают за старое прегрешение, может быть, многолетней давности, жертвой которого стала женщина. Для этого хотят показать, что интересуются тобой давно. Чушь. Если и мечтают укокошить тебя, то, как я понимаю, по причине, связанной с сегодняшним днем, и если столь хорошо осведомлены о тебе, то потому, что обретаются где-то рядом и не спускают с тебя глаз.
Теперь вопрос, зачем это письмо? Все просто, черт побери. Допустим, удалось отправить тебя ad patres.[3]3
ad patres – к праотцам (лат.)
[Закрыть] В руки полиции попадает это послание, оно ориентирует следствие в определенном направлении, т. е. старой любовной истории. И дело зайдет в тупик. Ибо в действительности речь идет о чьей-то уязвленной гордости или денежной истории, подоплека всего этого, повторяю, вполне современна.
Но вернемся к первой гипотезе. Если она верна, разреши тебе сказать, что ты этого заслужил. Я тебя достаточно предупреждала! Совсем недавно тебя видели в компании с этой неудавшейся актриской, не очень красивой и не очень умной, которая ищет прочного положения на сцене и никогда его не находит, оттого, может быть, что таланта у нее еще меньше, чем бедер!
В твоем возрасте столь многие уже вкушают здоровые радости семейной жизни…
9 марта, понедельник.
Из письма мэтра Октава Манигу (Париж) Матильде Дюлош (Ницца).
…Здоровые семейные радости, Меме, о которых, как вы пишете, я и не мечтаю? Но ведь это того же рода счастье, что и заход в долгожданную гавань или сладостная мысль о Иерусалиме, лелеемая в одиночестве пустыни. Не следует помышлять о них с беззаботностью, с какой собираются в кино или универсам. Это состояние заслуживает почтительного к себе отношения, молитвенного ожидания, которое не должно омрачать ничто мелкое и суетное. Оно, как чаша Грааля,[4]4
Чаша Грааля – священная чаша, в которую пролилась кровь Христа (из легенды XII–XIII вв.). Разыскать чашу, спрятанную в Англии, мог только человек совершенных моральных качеств.
[Закрыть] предполагает испытания, требует избранных, доказавших свое право быть ими. Признаться ли вам? Чтобы его достичь, нужна безмятежность, которой у меня нет, нужно умение жить – наука, в которой я чувствую себя новичком.
Да, Меме, брак – вещь прекрасная, святая, а между тем он опошлен вконец. В сущности, здесь то же, что с водительскими правами. На основании беглых испытаний и опрометчивых клятв доверяют всем и каждому руль семейной колесницы. А ведь общеизвестно, что умению вести этот экипаж обучаются лишь спустя много времени после получения прав. Как же не удивляться, приняв это в расчет, что столько супружеств летит под откос?
Что касается некоей актрисы, которая добилась в конце концов роли, вопреки отказанным ей бедрам и таланту, то я позволил бы себе ответить словами Галилея: «И все-таки она вертится!»
Но вернемся к серьезным вещам. Я вспоминаю себя тридцатитрехлетним. В день моего рождения вы пригласили меня к себе, чтобы вручить подарки. Среди них – традиционная папка наследника, даваемая мне на год, в этот раз при условии, что я возьму в жены вторую дочку Наруа. Вы снабдили меня ее снимком, как показалось, не очень охотно. Позднее у меня был случай показать его моему другу Дарвину. Он воскликнул: «О боже…» и закрыл глаза, А надо сказать, что этот парень абсолютно чужд мистики.
Вторым подарком была коробка с галстуками, раскрашенными от руки, неапольской школы (ее худшего периода). Я долго подозревал, что они были выданы с единственной целью, чтобы после их созерцания фото второй дочки Наруа мне показалось сносным. Как бы там ни было, вам, конечно, известно, что эта достойная девушка вышла вскоре замуж за одного моего друга, которому она регулярно рожает по девочке в год. Это не то, чего бы вы желали, верно? Я хорошо тогда сделал, что не связал себя этим союзом. Да и вообще, Меме, сейчас мне всего лишь тридцать семь. Чарли Чаплин имел детей до 70 лет, и хоть я не обладаю его способностями смешить, думаю, что у меня еще есть какое-то время для поисков в матримониальной области.
И последнее. Я понятия не имею, кто это алкает моей смерти, не ведаю также, что вдохновляет его на столь зловещее предприятие. Но не отвергаю гипотезы о некоем ревнивце, вознамерившемся отравить мне существование, каковой не рискнет, однако, осуществить когда-нибудь свои угрозы. Все это «треп», как сказал бы любящий крепкое словцо уже цитированный Дарвин.
Примите, Меме, уверения в моих почтительнейших чувствах.
14 марта, суббота, 9 часов.
Телеграмма мэтра Манигу (Париж) Матильде Дюлош (Ницца).
ВСЕ ПРАВДА ТЧК ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ В МЕНЯ СТРЕЛЯЛИ ТЧК ЕДВА НЕ ПОГИБ ТЧК ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ ОКТАВ
14 марта, суббота.
Из письма Мари-Элен Лавалад (Париж) Элеоноре Дюге (Анжер).
…Какой ужас, дорогая Онор! Сейчас расскажу, но прежде обещай мне не разворачивать пачку фотокопий, вложенных в это письмо. Немного погодя ты узнаешь, почему я прошу подождать.
Все это произошло вчера вечером. Дюран уже ушел, Добье тоже, причем раньше обычного: пытаясь забыть свое горе в работе, он чуть не каждый день задерживается допоздна. Я и сама уже почти собралась. Мы с мэтром Манигу говорили о разных пустяках. Есть у патрона сильная сторона: порой он умеет полностью отключаться от забот своей профессии. В какой-то момент он, что называется, по-свойски сел на угол моего стола… О последующем я сохранила отрывочные воспоминания, частью ясные, частью, как в тумане. Среди разговора – грохот, вспышка, оконное стекло разлетается вдребезги с каким-то мяукающим звуком, и тут же сильный удар в дверцу шкафа для одежды, прямо рядом со мной.
Я не успела шевельнуться, как мэтр Манигу бросился ко мне и, схватив за плечо, толкнул в безопасный угол. И сразу же выключил свет. Я никогда не подумала бы, что человек по виду даже неуклюжий может быть столь проворным.
– Не шевелитесь, – хриплым голосом произнес он, – стойте у стены…
Он осторожно, но, могу поклясться, и безбоязненно подошел к окну и задернул плотные шторы. Сердце у меня колотилось, ноги были ватными. Я буквально упала на стул, который он мне пододвинул.
Не сказав ни слова, патрон ушел в свой кабинет. Как только мне стало лучше, я присоединилась к нему. Он стоял в глубине темной комнаты, окно здесь оставалось открытым. Опускалась ночь, на улице зажглись фонари. Прямо против нас был глухой забор (там что-то строят), за ним – сплошная чернота.
– Стреляли оттуда, – сказал он задумчиво. – И у стрелявшего было достаточно времени, чтобы исчезнуть… Пойдемте, посмотрим, что он для меня припас.
Мы вернулись обратно и подошли к шкафу для одежды. Пуля застряла в дереве дверцы, проделав в нем круглое отверстие. Патрон взял ножик с намерением извлечь нашу зловещую гостью из ее гнезда. Внезапно он повернулся и пристально посмотрел на меня:
– Пуля прошла между нами, Лавалад. Целились в меня, но могли поразить вас. Я опасаюсь, что попытку могут повторить, и поэтому считал бы совершенно нормальным, если бы вы завтра же взяли отпуск.
Я пробормотала:
– Это маньяк?.. Страшно подумать, что произошло бы… Вы его знаете? Вы пойдете в полицию?
– Нет. – Ответил он сухо. – Не пойду. Осложнений будет куда больше, чем пользы. Знаю ли я, кто и почему стрелял? На этот счет у меня есть только одно свидетельство – анонимное письмо, полученное в прошлом месяце. Вот оно, прочтите. Теперь вы имеете право знать его содержание. Пока письмо будет у вас, снимите несколько фотокопий; возможно, они мне пригодятся…
Я сделала экземпляр и для тебя. Сейчас проведу линию из точек, чтобы обозначить паузу, нужную тебе для чтения. Я жду!
Ну как? Вот тебе образчик благоуханной прозы, причем благоухание того рода, какое источают кладбищенские цветы. Ты мне как-то говорила, что твой старший, малыш Себастьян, увлекается полицейскими романами. Спроси его при случае, что он об этом деле думает (конечно, не читай ему письма полностью: он еще слишком юн, чтобы входить в подробности жизни взрослых). Что касается мэтра Манигу, знаешь ли ты, какими были его первые слова, когда я подняла глаза от письма:
– Не смотрите на меня так, Лавалад, я совершенно не представляю, о чем идет речь.
Мило, не правда ли? Пусть грозит смертельная опасность, мы должны заявить с порога, что нас не в чем упрекнуть…
Слово за слово разговор возобновился. Я отважно отказалась покинуть его в обстоятельствах, столь драматических. Он, кажется, был тронут. Меня заинтересовало «дело о залоге», упоминавшееся в письме, и особенно его несостоявшаяся женитьба, которая, по-видимому, имела к этому делу касательство, но патрон ограничился замечаниями (довольно тонкими) общего свойства, храня молчание о сути событий. Зато он долго распространялся о разных других историях – наверное, я хорошая слушательница, а ты так не считаешь, змейка?
Он мне откровенно сказал, что сейчас у него нет ни постоянной подруги, ни женщины, в которую он был бы романтически влюблен. Как я поняла, все больше мимолетные увлечения, идиллии без будущего с молодыми особами без прошлого… Благодушие, безмятежность. Внебрачные шалости отца семейства, да и только! Короче, он ничего не объяснил мне из этого письма.
В какой-то момент мы заговорили о гипотезе его бабушки (преступление готовится совсем по другим мотивам, чем те, на которые намекает письмо) и отсюда перешли к предположению, нет ли у него врага в собственном бюро. Начав с себя, я заметила, что знает он меня в общем-то недавно, но мысль о моем вероломстве надо отбросить как несостоятельную: в этот вечер лучшим из алиби была я сама. Мы обратились к личности Дюрана, этого скрытного молодого человека, о котором я тебе уже писала. Если держаться мнения, что в уголовном деле виновным является тот, чье поведение и внешность менее всего способны внушать подозрение, то, несомненно, его можно считать вероятным убийцей (хотя в его руках мне скорее видится игрушечный пистолет). Мэтр Манигу взял его к себе по совету коллег из Дворца правосудия. У них с Дюраном нет общего прошлого, их дороги никогда не пересекались прежде. Подозрения на его счет решительно отклонены.
Патрис Добье, тот привлек большее внимание. Мэтр Манигу коротко рассказал о цепи событий, приведших Патриса к нему. У некоего, ныне старого и заслуженного нотариуса, после смерти жены остались на руках две малых дочери. Он воспитывал их с редкостным самоотречением, восхищавшим весь департамент Приморские Альпы. Его покойная жена, мадам Даргоно, была разумной и красивой женщиной. Дочери пошли в нее, правда, в том смысле, что старшая была умной, а младшая – красивой. Однако именно старшая обручилась первой с сыном местного промышленника. О Патрисе Добье (он и есть тот сын) было известно, что недостатки, присущие его возрасту, уравновешиваются качествами, обещавшими сделать из юноши хорошего мужа и примерного отца семейства. Он только что окончил факультет права в Париже и готовился к поступлению в адвокатуру.
Заботясь о надежном будущем любимой дочери, Даргоно попросил свою клиентку Матильду Дюлош устроить его без пяти минут зятя в бюро мэтра Манигу, человека с превосходной репутацией в профессиональном плане. Финал таков: несчастная невеста погибает в автомобильной аварии, Патрис продолжает работать у нас. Впрочем, он ценное приобретение, мэтр Манигу нашел это сразу. Добье способный и работящий человек, всегда охотно вызывается помочь в сложном деле. У них с патроном создалось нечто вроде ритуала: когда работа требует задержаться в бюро, Добье идет к восьми вечера в кафе на углу, откуда приносит легкую закуску; подкрепившись, они продолжают трудиться. В конце концов их отношения смахивают и на дружбу, это не только сотрудничество. Знаешь ведь, как оно порой бывает между мужчинами: связи, обязанные желудку, крепче, чем идущие от ума или сердца. При всем том вот закавыка: Добье, обычно уходящий теперь поздно, в этот вечер отсутствовал. Не кроется ли тут чего-нибудь?
На сегодня хватит, дорогая Онор, пока простимся. Буду держать тебя в курсе событий. Во всяком случае, я на это надеюсь. Мне в высшей степени неприятна мысль, что ты узнаешь новости обо мне из хроники происшествий или некрологической рубрики в большой прессе…
14 марта, суббота.
X… мэтру Манигу (Париж).
Дорогой мэтр!
Не знаю, какое впечатление вы составили по письму об убийце, но я совершенно уверен, что вы были разочарованы. Во многих работах, посвященных людям такого психологического типа, авторы стремятся сделать его образ туманным, а потому еще более опасным. Это злой гений ночи, природа которого извращена, таинственное существо, избранное судьбой, чтобы поражать ужасом слабые сердца. Его первое качество – непогрешимость.
Что в связи со всем этим вы думаете обо мне? Вчера я нанес удар неверной рукой. Я чуть не вышиб глаз вашей секретарше…
Не правда ли, жалок тот убийца, кто после каждой попытки вопрошает себя с беспокойством: «Уложил ли я его наверняка?» И все-таки я позволю себе слабость не взять назад ни одного слова из написанного вам. Преступление, задуманное мной, остается безупречным по замыслу. Единственно в его воплощении я оказался новичком. Да, я признаюсь, что никогда и никого не убивал. Я в этой области удручающе девственен и моя неопытность вместе с заботой о том, чтобы не быть схваченным, приведут меня, возможно, снова к неудачным попыткам. Поэтому я заранее прошу вас быть ко мне снисходительным.
Однако будьте спокойны, дорогой мэтр. Если я не убью вас во второй раз, это произойдет в третий. Или в десятый. Пусть в моих попытках не будет непогрешимости, но, по крайней мере, вы мне не откажете в непреклонности. И остерегитесь видеть в каждой из моих неудач повод надеяться для себя на спокойную жизнь, ибо если покушение не удастся снова, то это потому, что я приму все необходимые меры предосторожности, чтобы начисто исключить риск поимки. Не то чтобы я очень дрожал за свою шкуру, нет, но я хочу быть уверенным, что раньше или позже достигну своей цели.
И потом, ведь существует еще и любовь к искусству… Убиваешь и проводишь остаток жизни безнаказанным и невиновным, наслаждаясь мыслью, что распорядился вашей судьбой с тем приливом сил душевных, которые другие тратили бы на угрызения совести!
Итак, до скорой встречи, и верьте в мои искренние чувства до самой смерти (вашей, разумеется).
16 марта, понедельник вечером.
Из дневника Жюля (он же Робер) Дюрана.
Есть два типа скрытных людей. Одни – по темпераменту, другие – по необходимости. Я принадлежу ко вторым, играя роль молчаливого не хуже Гарри Купера, потому что когда молчу, я не заикаюсь. Вот то немногое, что у нас общего с этим героем вестернов, разве еще и рост, но мне он мало придает мужественности. Меня, скорее, считают просто верзилой.
Я пытался лечить заикание знаменитым способом Демосфена, камешками во рту, но пришел к выводу, что античный трибун просто-напросто сочинит легенду в целях саморекламы, ибо мой результат равен нулю. Как бы там ни было, когда у меня есть что сказать, я предпочитаю изложить это на бумаге. С рукой более твердой, чем язык, я нахожу при таком способе общения с самим собой собеседника по своему вкусу: деликатного, умеющего хранить тайну, с чувствительной душой. Впрочем, я знаю, что заикаюсь меньше, когда не волнуюсь. И еще: другие могут способствовать моей нормальной речи, Добье, например; с ним я изъясняюсь почти без затруднений, его спокойствие передается мне. Дружески ко всем настроенный, сдержанный, всегда готовый помочь, он пришел в бюро после меня, но быстро освоился с тонкостями профессии. У нас с ним разные пути. Я здесь на время, чтобы подготовить диссертацию. У меня хватает ума понять, что работа, требующая умения говорить, для меня заказана, я готовлю себя к карьере правоведа (впрочем, это и лучше оплачивается). Добье же думает об адвокатском поприще: горностаевая мантия, дворец правосудия, воздетые горе´ руки…








