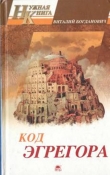Текст книги "Ночь Веды"
Автор книги: Раиса Крапп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
– Сладко ли ворованное, Иванко?
Вспыхнул Иван.
– А нищему и объедки с господского стола сладки!
– Кто ж господин?
– А то не знамо? – мрачная усмешка искривила губы. – Ярин, кто ж еще?! – ответным вызовом зазвенел голос, да переломился в отчаянной боли: – Только не любит он тебя, Алена! Жалеют ведь когда любят, а он не жалеет! Сейчас вон только бахвалился перед парнями, как горячо любишь его. Рассказывал, как намедни вечор ездила ты с ним дальние покосы глядеть. Смеялся, что травы теперь там не взять – примяли, мол, всю...
Алену будто изо льда в кипяток кинули, от боли прикусила губу. Но сказала ровно, без страсти:
– Одеться дашь?
Иван наклонился торопливо, поднял одежку Аленину, протянул виновато. В сторону отвернулся.
Неверными руками оправив на себе сарафан, проговорила Алена тихо:
– Так поверил ты Яриновым речам, Иванко.
Иль спросила, иль горькую думку вслух выговорила. Но Иван ответил с горечью:
– Да как не верить, Алена, когда своими глазами видел – в село-то вы вместе въехали.
– Догнал он меня уж перед самой околицей. Откуда ехал – не спрашивала, может, и с покосов. Я же проведала бабу одну в Дубровине, на сносях она.
– Неужто напраслину он... Зачем?!.
– Затем, что из правды сказать нечего.
– Алена... – голос прервался хрипотой. – Прости, Алена...
Отвернув лицо в сторону, молчит Алена. Не оттого, что простить не хочет... Когда больно ранил душу ее Иван – была сила терпеть. Но от мольбы его отчаянной встал в горле горький комок слез... Молчит Алена, потому что не может слова молвить. Иван лицо ее в ладони взял, тихо к себе повернул.
– Прости, жаль моя...
Заглянул в глаза, – дрожат звезды в двух озерах, полных горькой обиды.
– А коль знаешь наказание по вине моей – снесу с радостью. – Алена... Аленушка...
Качнулась она к Ивану, прислонилась лицом к теплой груди, услышала, как колотится его сердце. Замер Иван, будто не поверил. Потом руки на Алениной спине скрестил, прижал бережно, молча приник щекой к мокрым волосам. И тут взорвалась тишина ликующей соловьиной трелью.
Отстранилась Алена, глаза через слезы улыбкой засветились:
– Нам с тобой поет, Иванко.
Но он без улыбки глядел.
– Скажи, что не держишь сердца на меня, Алена. Я ведь и не тебя обидеть хотел... Над собой изгалялся... над любовью своей...
– Теперь все хорошо... все прошло... Забудь. Нет, погоди. Пообещай одно.
– Что хочешь!
– Пообещай, что с Ярином связываться не станешь.
Запнулся Иван с ответом. Алена руку подняла, по щеке его провела, с ласковым упреком позвала:
– Иванко!
И как мог он устоять пред ее нежным прикосновением, пред голосом чарующим? Сдался сей же миг:
– Обещаю тебе, что только захочешь, лада моя.
– Бог ему судья, Иванко. Потешился он всласть лжой своей. Теперь забудь о нем.
– А ты?
Улыбнулась Алена, головой покачала:
– Неужто все еще думаешь, что Ярин для меня хоть сколько-нибудь значит? Никогда. И ни на единую короткую минуточку. Выкинь ты эти свои думушки, Иванко.
– А я никогда не знал, что так радостно бывает пожелания исполнять! Скажи, чего еще хочешь, Аленушка?
– Да мне больше и желать нечего, – засмеялась Алена. – Исполнилось вдруг все, что желалось. Разве что вот это: чтоб никогда больше неправда нам глаза не застила. Чтоб были мы сами хозяева своим думам да заботам.
– Свет мой, Алена. Шел сюда, как слепой – черно вокруг было. И во мне одна только боль черная. И любовь моя казалась ржавой занозой, живую душу изъязвившей. Сейчас в то и не верится... Будто солнце во мне, весь радостным светом его полон... Ты – свет мой, Алена. Глазам не верю, рукам не верю, только держал бы тебя вот так, чтоб вдруг не исчезла, не растаяла.
– Разве похожа я на клочок тумана? – засмеялась Алена. – С чего мне таять?
– В снах моих ты тоже не была снежной дивой, а проснусь – и нет тебя. Заместо тебя одна лишь тоска беспросветная. Оттого и боюсь теперь.
– А это не сон.
– А вдруг сон?
– Но кто ж кому снится тогда?
Рассмеялся Иван и вдруг на руки Алену подхватил.
– Да я не отпущу тебя никуда! Будь ты живая иль только мечта моя никуда не пущу больше!
С тихой счастливой улыбкой положила Алена голову ему на плечо, не сказала ничего, только подумала, что и сама она боится поверить тому, как в миг короткий горе счастьем обернулось, сколь непрочна оказалась стена из лжи, что усердно возводил между ними Ярин.
Показалась им ночь одним мгновением быстролетным и одновременно безбрежной, просторной, огромной, как бездонное звездное небо. Потому что ночь эта смогла вместить и любовь их, и счастье бескрайнее. Сравнялась короткая летняя ночка со всеми днями, что сгинули, ложью и непониманием отравленные. Теперь казалось, что уж и не были те дни столь горьки, потому что вели к сегодняшней чаровнице-ночи. И удивлялись теперь, какой злой морок дурманил им глаза и мысли, водил, как слепых, окольными закоулками да тупиками, скрывал прямой и короткий путь, хоть был-то он на самом на виду.
И все ж – пролетела ночка. Только-только налилась чернотой, а уже обозначилось близкое утро посветлевшим небом. Не успели влюбленные наглядеться один в другого, надышаться друг другом, еще и рук не разнять... а птицы уж распелись во всю, зорька полыхнула в полнеба и отгорела, погожий денек обещая.
На виду у всех, рука об руку вернулись Иван с Аленой из росных лугов. И лица их столь просветлены были, так глаза лучились – будто шли они в невидимом сиянии своего счастья. И так велико оно было, что одарили они каждого, кто видел их. Как будто частичка их света западала в души людей, и тепло людям становилось, радостно невесть от чего, на устах улыбки расцветали, и хотелось делать добро.
Алена к Любице подошла, сказала виновато:
– Не держи зла на меня.
Подняла девица понуренную голову, глянула на Ивана, на Алену.
– Ты ведь не держишь... а я знала, как будет...
И никто не увидал, как Ярин быстро в заросли густые отступил – так тени бегут от света.
Ярин нарочно изгадал некую причину, рано по утру заявился к соседям . А причина одна была – Алена. Ночью он подходил к ее балагану и пустым его нашел. Ждал до рассвета. Уж когда люди просыпаться начали, скрылся в кусты, к себе побрел. Да вскоре назад вернулся, во чтобы то ни стало надо было ему увидеть Алену, тревожные думы свои успокоить. И увидел – с Иваном.
Опомнился в согре непроходимой, чуть ли ни в болотине – под ногами уж слякотно чмокало. Как оказался тут – не помнил. Будто сила какая вогнала Ярина в комариный сумрак, в паутьи тенета. В волосы мелкий гнус набился, лицо все облепил. С яростью стер его Ярин, вломился напрямую в чащу, сминая кусты и ветки, выдрался на свет. Оглянулся, как будто боялся кого увидать за своей спиной, дернул губами в злой усмешке:
– Ну, гляди теперь...
Кому те слова назначены были, может, он и сам не знал.
* ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ *
приведет нас еще на другое свидание
Новости по селу быстро разлетаются – вроде и покоса еще никто не покидал, а в селе уж знают все. Пересудов ни на один и не на два дня хватило. Говорили разно. С одной стороны, всем очевидно было, что Алена и Иван, как две половинки целого. А с другой – уж больно яростного врага они нажили, никто бы себе такого не пожелал – избави Господи!
Алена с Иваном не таились, ни любви, ни счастья своего от людей не прятали, и люди принимали это, навроде так оно и быть должно. Хотя другому кому такая открытость не сошла бы за так просто, осудили бы старшие. А от этих – лишь радости вокруг прибывало. Любовались на дивно прекрасную пару. А все ж любование это как вроде тенью сумрачной обладало, тревожным выжиданием горчило. Никто и не надеялся, и не верил, что Ярин такую обиду лютую безответно снесет. Но шли дни за днями и – ничего. Ярин вроде как нашел себе утеху со старыми дружками. И пьяным, и веселым, и злым его видали, но и только. Если у Ярина и лежало что на сердце супротив Алены и соперника счастливого – там он все и похоронил, но ни к Алене, ни к Ивану и близко не подходил.
И никто не знал, даже Ивану Алена не сказывала, что была-таки у нее с Ярином встреча.
Случилась она заблизко после того, как с покосами управились. Ярин, видать, глаз с нее не спускал, искал случая свидеться наедине. Момент такой ему представился на второй или третий день. Теленок куда-то утянулся с утречка пораньше, и объявился, когда Иван стадо уже на пастбище выгнал. Алена непослушника поругала для виду, а сама и радешенька – телка-то в стадо гнать надо, а то коровушка весь день неспокойна будет, того и гляди домой сбежит. Лишняя причина с Иваном увидеться, не в радость ли?
Как Ярин углядел ее? А только едва Алена обогнула ближний перелесок, он уж тут как тут, на коне скрозь лесок наперехват проскочил. Перерезал дорогу, осадил резко коня прямо пред Аленой, соскочил в горячке, будто все еще гнался, остановиться не мог.
– Охолони! Гляди, теленка мне испужал, – кивнула Алена на телка.
Тот, хвост задравши, прочь по лугу несся. Правда, недалеко ускакал. Остановился, постоял, уставясь на нежданную напасть, никакой беды от нее не увидал и принялся щипать траву.
Ярин, будто не слышал и не видел ничего, за руки ее схватил:
– Алена!..
– Да уймись же! – Алена резким движением стряхнула его руки. Успокойся!
– А где взять покою, Алена, когда день и ночь как на жестоком костре горю? Нету мне покою нигде, ни в сне, ни в вине, ни в утехе любовной. Да что покою? Мне воздуху нету, света нету – мне только и воску в свечечке, что одна лишь ты.
– Ярин, что ж, не знал ты раньше, что не всегда, чего хочется, то и можется? Видать впервой это с тобою, когда за вкусным куском потянулся, а он не твоим оказался, чужим? Брать легко. А отказаться – сила нужна. Слаб ты, Ярин?
– Кусок лакомый – прихоть. А ты не прихоть, Алена. Все, что имею, отдал бы за одну тебя, все к ногам твоим положил бы. За тебя убить могу, аль сам умереть. Веришь ли, Алена?
– Умереть быстро и красиво, на моих глазах? Да чтоб, по разумению твоему, горевала об тебе всю жизнь да каялась? Не знаю, может и верю. Но на медленном костре гореть – ты, вишь, не согласный, – усмехнулась Алена.
– Не смейся ты надо мной, Бога ради! Я как в бреду горячечном, сам не знаю, на что способный. Тошно мне, Алена, не доводи до греха. Я сам себя боюсь. Чем умолить тебя, не знаю. Знаю только, не улестят тебя ни богатство, ни знатность рода моего. Так спаси душу мою, Алена, не дай ей в тяжком грехе сгинуть. Люблю тебя крепко. И молюсь на тебя, и проклинаю. Помоги же! Пусть он уходит, сделай так, ты можешь. Пусть все станет, как было.
– Как было, уже не станет. Зачем пустые слова говоришь?
– Не пустые, – упорно замотал Ярин головой. – Ты можешь, захоти только.
– Хочешь исхитриться в одну воду дважды зайти? Увы, не под силу то никакому человеку, как бы ни хотелось!
– Человеку, может и не под силу. А ты – человек ли?
Удивленно глянула Алена.
– Только человек, Ярин.
– Тогда покорись мне.
Теперь уж изумление расплескалось в Алениных глазах.
– Покориться?! Тебе?! – Рассмеялась искренне. – Да в уме ли ты, Ярин? Одной лишь Божьей воле я буду покорна.
Вспыхнул Ярин, метнулся было к Алене, да будто невидимая и невиданно крепкая паутина упруго назад его откинула – то Алена ладошку между собой и ним поставила.
– Ох, остерегись Ярин до меня докасаться, – почти пропела, в глазах ни злости, ни гнева, одни смешливые искорки скачут. Но вдруг пропали они, будто туча грозовая надвинулась, молниями опасными сверкнула: – И не только до меня. Ивану обиду какую учинишь – не пожалею тогда.
Бледный от ярости, отшатнулся Ярин, круто отвернулся к коню своему, лицом к холке приник, стиснув в кулаках вороную гриву.
Глава одиннадцатая
про разговор вблизи лунного мостика
Не все слова Ярина пустыми были. Угроз его Алена мимо ушей не пропустила. Уже с самой той счастливой ночи она заботу имела, ждала от него какой-нито выходки недоброй. Слишком хорошо знала его, и опаска та вовсе не была лишней. Не за себя, понятно, за Ивана боялась Алена. Боялась, что в один несчастливый миг сведет лихо Ярина и Ивана лицом к лицу, и мир покажется им тесен – не разминуться. Знала Алена, что Ивана только обещание, ей данное, держит, но если Ярин первым зацепит, Иван ему не спустит и сочтет себя от обязательств свободным.
Вот потому Алена ни на миг не отпускала Ивана. Где бы он ни был, она душою с ним была – сердцем чуяла, как с ним и что: весел или опечалило что, далеко он или близко, в покое или в заботе. Ивану она про то не сказывала, не одобрил бы он этого ее призора, еще бы и обиделся, что Алена, как на дите малое, на него не надеется. Да ведь он Ярина-то в дурной его поре не видел и не знал. Когда Иван в Лебяжьем объявился, Ярин тогда уже от прежнего от себя как небо от земли отличался.
И про Алену тоже Иван еще многого не ведал. Алена и хотела бы про себя рассказать, да все случай не находился. А начни говорить без времени – слова легковесны будут, как пустая яичная скорлупа, и столь же бесплодны. Ждала Алена. И случай скоро явился...
В деревне уже ни единого окошка не светилось, уснуло Лебяжье, успокоилось. Только откуда-то издалека еще доносились по временам неразличимые голоса, смех девичий. Собака со сна залилась лаем, может, лисий запах услыхала. Ей отозвалась другая, и третья... Навроде переклички ночных сторожей. Перекатилась через село, и опять все затихло.
На Велинино озеро лунная дорожка легла – гладкая, ровная, хоть вставай да шагай по ней с одного берега на другой. Даже рябь не трогала ее, серебристым зеркалом расстелилась. Ветра не было, а камыши все же шептались чуть слышно сухим своим шепотом.
Алена засмотрелась на дорожку, слушая неторопливый рассказ Ивана о прожитом дне. Помнилось, что не отблеск луны на воде лежит, а серебряный невесомый мосток перекинут над звездной бездной, пугающей и манящей одновременно. Но манящей – боле. Захотелось ей спуститься в нее и найти там нечто бесценное, редкое и красоты неописуемой. Улыбнулась Алена своим мыслям и игре лунного света. А тут и Иван вдруг умолк.
Он лежал на пушистой большой охапке свежего пахучего сена. Сено это Иван вокруг озерка накосил, придумал, что к зиме козой обзаведется, вот и готовил ей припас. Алена сидела чуть впереди, подобрав под себя ноги. На волосы ее ночь плат свой опустила, выкрасила их в темное, только чуть золотились в лунном блеске завитки локонов. Еще щека Ивану видна была захотелось сейчас же протянуть руку и тихонечко провести по ней пальцами, чувствуя теплую бархатистость. А еще бы лучше – обнять крепко, прижать к себе, как дите малое, и идти так с ней через всю жизнь, согревая своим теплом, укрывая руками бережными...
Алена обернулась на примолкшего Ивана, поглядела долго и вдруг улыбнулась смущенно. Ивану улыбка ее странной показалась.
– Ты знаешь, про что я думаю?
Помедлив, Алена с той же улыбкой ответила:
– Нет...
А услышалось в нем: "Да".
Усмехнулся Иван:
– Ты и вправду ведьмачка, Аленка.
– Ведовка я. Вединея.
– А это не одно?
– Да вроде и одно. Только ведьмачка – недобрая, черная.
Иван взял ее за руку, потянул, уронил к себе на грудь. Спросил в продолжение своих мыслей:
– Почему не разрешаешь сватов к матери твоей засылать? Я знаю, жених я не шибко завидный. До сей поры, как ветер вольный жил, хотел мир поглядеть, людей узнать. Добра нажить не старался, не для кого было стараться. Но теперь есть. У меня руки к любому труду способные, и силой Бог не обидел. Я такие хоромы для тебя поставлю, Алена...
Она тихо пальцы на его губы положила – замолчал Иван.
– Желанный мой, ежели б я мил-сердечного дружка по хоромам да нажитому добру выбирала, так ты, небось, не забыл еще, – только пальцем бы шевельнуть... Не про то мои думы. Обождать чуток надо, Иванко. Вот сравняется мне девятнадцать...
– Когда ж это будет?
– Скоро. В конце лета.
– Но почему, Алена? Зачем ждать надо?
– Не хочу до той поры ни тебя, ни себя обещанием связывать... Слово, данное спехом, тяжельше цепей бывает.
– В ком сомневаешься? В себе иль во мне?
– В будущем...
– Странный срок ты назначила. Будто как сравняется тебе девятнадцать годов, так ты уж не та будешь, что теперь, – усмехнулся Иван.
– Может, так оно и станется... И срок не мной назначен. Велина упредила, но в точности об этом ни ей, ни мне ничего знать до поры не дано.
– Что же такое сказала тебе старая ведьма, что боишься ты своих девятнадцати годов? Не верь старушачьим сказкам. Мне верь, Алена. Ничто меня не заставит от тебя отказаться.
Ничего не ответила Алена, вздохнула тихо, опустила голову на грудь Ивану.
Глава двенадцатая
открывает упреждение старой Велины
Странные свои "сказки" старуха начала сказывать так за год, за полтора до смерти.
Случилось Алене одним ненастным осенним вечером у Велины заночевать. Ничего необычного в том не было – Аленка у старухи давно уж не гостьей стала, а навроде внучки. Старуха будто и крепка еще была, а годы свое указывали – хворобы тело ломали. Бывалоча, и с топчана своего поутру встать не могла. А Алене к тому времени шестнадцать годков сравнялось – совсем невеста, и в Велининой избушке она давно уж как хозяйка распоряжалась.
Коротали они долгий вечер, на огонь в печи смотрели, ненастье слушали. Приютно было в натопленном избяном тепле, неспешный разговор вели, а хоть и молчали, – тоже хорошо было. Неистовый ветер стегал дождевыми плетьми в единственное подслеповатое оконце, разбойно свистел в трубе. Алена покосилась в темное окошко, сказала:
– Ишь, разошелся...
Сама поближе толи к огню, толи к старухе придвинулась.
– Неужто непогоды забоялась? – спросила Велина.
– Да ветер живой ровно, так и рвется в избу. И дождь тоже.
– Они и есть живые, а как же? Только бояться тебе их нечего, подружитесь еще. А у меня тоже была ночь, когда я ненастья забоялась. Одна за всю жизнь, слава Богу. Жу-у-уткая та ночка была, особенная...
– Чем особенная-то?
Улыбнулась Велина:
– А в ту ночь ты уродилась.
– Тогда я про нее слыхала уж, матушка говорила, что молнии полыхали беспрестанно.
– Верно. Только матушке твоей не шибко-то до погод было. А у меня руки дрожали от страха. Еще ведь причина имелась – было то как раз в Ночь Веды.
– Никогда не слыхала про такую ночь. И кто такая Веда?
– Не слыхала, потому как про нее мало кто знает, не положено всем знать. А Веда – госпожа наша. Моя, твоя. Всех, кто ведовскими да знахарскими талантами наделен. Тоже впервой тебе говорю про нее. Теперь надо. Чую, веку моего самый краешек остался.
– Не пугай меня, Велина!
– Чем же? Неужто ты смерти боишься? Э-э, дитятко милое, смерть милосердна.
– Ой ли? Эвон Баклачиха как мучается! О смерти со слезами молит, а та нейдет. Где ж милосердна?
– Так то не смерть жестока – жизнь. А в жизни этой каждый получает той мерой, какой сам меряет. От Баклачихи кто добро видал? А вот жестокосердия сверх всякой меры. Мужика свово бедного и то поедом заела, в гроб вогнала. Одного-единственного сынка родила, взрастила без любви и его любить не научила, кому в радость ее Будамир? Вот за все это и платит теперь Баклачиха. И молит о смерти, как о милости великой, что страдания ее прекратит.
– Неужто, Велина, совсем ты смерти не боишься?
– Жду ее, как гостью желанную, высокую. Устала я. И тело мое износилось, как одежка в дороге дальней и многотрудной. И ноша годов тяжка. Покоя хочу. Одно держит – ты, Ленушка. Но про то в другой раз поговорим. Сейчас я другое должна сказать. Про тебя самуе. Ты уж знаешь, Алена, многим повитухам дано видеть судьбу дитяти в тот миг единый, как в мир оно входит. Я тоже многих судьбу прозревала. И каждый раз надежду лелеяла – может как раз на это дитятко я потом заботы свои сложу, ему умения свои передам. Долго ждала, забоялась уж, что не даст мне Бог приемника узреть. И вот в Ночь Веды пришли за мной, к роженице позвали. Я уж знала, что не простое дите в мир идет, все приметы на то указывали, и правду тебе скажу – не обрадовалась. Страх меня взял – доброго от такой опасной ночи ждать не приходилось.
– Да почему же, бабушка?
– Шибко дурная ночь была. Вся природа ровно в корчах лютых корчилась и криком кричала в родовой муке. А мне надо было ее дите первой в мире этом встретить, на руки принять – а у меня руки ходуном ходили. Ох, натерпелась я. Знала – случись что с младенцем, ни матери, ни мне ночи той не пережить.
– Ой, Велина, да что ты говоришь такое?!
– Что было, то и говорю. Ты знать должна.
– Но страхи-то твои, выходит, напрасны были? Никакое я не особенное дитя, такая же, как ты.
– Я к тебе немало годов присматривалась, глаз не спускала, прежде чем к себе, к делу своему допустить. Не могла не войти в тебя ярость той ночи. Боялась я, что в один недобрый миг прорвется из тебя сила недобрая, злая, черная.
– И что же, Велина? – требовательно посмотрела на нее Алена. – Увидала ты дурное во мне?
Старуха сухую ладонь себе на глаза положила, будто заслонила их.
– Вот оно, Алена. Сила в тебе, – я краю ей не вижу. Знаешь ли ты, как опасна она? Равно, в добро и во зло ее оборотить можешь. Бойся невзлюбить людей. Причин для того они много дадут. Добрым на презлое отвечать ох, как трудно. Карать легко и сладко. И погибельно. Не заметишь, как равнодушна к боли чужой сделаешься, сама злом станешь. Но ты не Баклачихе ровня. Она, как досадная муть в чистом потоке – обожди чуток, ее и унесет, развеет без следа. А ты, Алена, сама черным потоком станешь и многих ядом смертельным напоишь.
Замолчала старуха.
Помедлив, Алена глаза на нее подняла, поглядела сквозь слезы, в них стоящие.
– Не будет этого, Велина.
– А я и не сказала, что будет. Упреждаю только, чтоб знала откуда беду ждать. Сила в тебе и, вправду, страшно большая. Прежде чем ею пользоваться, надобно тебе научиться семь железных узд на нее накидывать, чтоб не могла из воли твоей выходить.
– Никакой такой силы я за собой не чую! – с досадой возразила Алена.
Улыбнулась старуха.
– Да ты уж теперь можешь все то же, что и я. Только я свое умение по крошечке год к году копила, а ты, ровно, родилась со всем этим, с готовым уж. Да оно так и есть. Наделяет Веда даром особенным тех, кто в саму ее ночь рождается. Только тяжки подарки ее. Как крест, который до часу последнего нести. И не скинешь.
– Чем же они тяжки?
Велина провела шершавой ладонью по буйным Алениным кудрям, вздохнула:
– Так кому много даст, с того и спросит больше.
– Веда – злая?
– Она... единая. Все в ней. Она не злая и не добрая. Дарит без радости и карает без гнева.
– Выходит... нет в ней любви... Любовь бесстрастность эту оправдала бы. А так... баба ледяная эта Веда.
– И хотела бы тебе впоперек сказать... да нечего. Может и правда твоя, что Веда холодна, как лед, и любви не знает. Я ведь про нее мало что сказать могу. Да и те крохи малые, что известны мне, в разнобой идут. Слышала, что Веда – дух бесплотный и вездесущий. И другое совсем слыхала – будто жила девица такая, лекарка необыкновенная. И, мол, Веда – душа ее. Нет, не стану вранье тебе пересказывать, а правды не знаю...
Какое-то время только дождь бился в окно, да потрескивал огонь в печи. Потом Алена спросила тихо:
– Велина... а ты удержалась? Бесстрастно смотрела на зло, людьми творимое?
Старуха вздохнула.
– Мы сами только люди. Где бесстрастности взять? Потом каялась горько. По сей день молю Бога о прощении за те прегрешения свои... Сказать же тебе всю правду – давно уж я людей не люблю. Беспамятны, неблагодарны, злорадостны...
– Но при том случая не помню, чтоб отказала ты в помощи, – удивленно проговорила Алена.
– Это другое. Хочу я того, иль не хочу, а это урок мой, и я его честно сполнить должна. За него мне пред Господом ответ держать.
После раздумья снова заговорила Алена:
– Не согласна я с тобой, Велина. Не знаю, какими глазами ты на людей глядишь, только не то, что есть видишь. Совсем дурных по пальцам перечесть можно. И пожалеть. Не только их вина, что дурны они – сперва ведь кто-то же отравил их души семенами беспамятности, неблагодарности, злорадства... В человеке всего намешано, на то он и человек, не ангел. Подойти с приветом, с добром – и он к тебе такой же стороной повернется, но лишь увидит, что фальшива твоя доброта – ершом ощетинится, защищаться станет.
– Неужто ждешь, что перечить тебе стану? Да я бы только и желала всем сердцем, чтоб завсегда на добро твое люди добром отвечали, чтоб горькие разочарования обошли бы тебя стороной.
О многом еще говорено было. А уже совсем незадолго перед кончиной старуха такой разговор затеяла:
– Ленушка, все я тебе отдала, чем владела, ничего не утаила – на душе теперь легко так, хорошо. Вот скажу тебе самое последнее и совсем готова буду. Послушай меня со всем вниманием. Двадцатый свой год без меня распочнешь, ничего я уже не подскажу тебе и не напомню. Поэтому сама крепко запомни, что скажу. Девятнадцатая твоя Ночь Веды особенной станет. Готовься к ней загодя. Солнышко в тот день встреть и проводи одна, вдали от людей. Весь день в доме твоем будь – и широко же он раскинется, без единой стены, без пола и кровли. Узнавать его будешь, и узнавание это обернется как удивлением великим, так и радостью небывалой. Как солнышко проводишь, иди на Русалочий омут. Много жути про него сказывают, но жуть он другим кажет, а тебе в тот день бояться некого – зверь к ногам твоим ляжет, нечисть любая столь глубоко от тебя забьется, что и сгинет какая. Омут же... он откроется тебе иной своей сутью. Какой – не знаю, всем по-разному. Я тоже к нему ходила, мне он тоже открывался. Дарил меня восторгом и изумлением... Но рассказать об том – слов таких нету. По мне, так это и не омут, а сокровищница премудростей великих. И каждый раз получала я меру их. Нет, вру. Не каждый. Ходила-то я к омуту немало, и просила, и молила, а открылся он мне всего три разочка. И я это за благо почла. А то ведь бывает, что и всего-то единый разок он до кладезей своих допускает. А еще слыхала я, что жила девица, она к омуту, как в собственную кладовую ходила, брала все, в чем надобность имела. Омут пред ней не закрывался. Как тебе будет – того не знаю. Одно знаю – в полночь надо тебе там быть, и ночь эта станет главной в твоей жизни. И это последнее, что мне открыто из твоего будущего. Больше – и хотела бы, да нечего мне тебе сказать.
...Утром старая Велина не проснулась. Отошла во сне – тихо и спокойно, никого не потревожив. Вопреки тому, что знахари, как водится, с жизнью расстаются мучительно трудно. Видать, заслужила Велина легкую смерть.
Глава тринадцатая,
о мучительных сомнениях Ивана
и о его твердом решении
– Вот, Иванко, я все рассказала, ни единой капельки не утаила... Сам видишь теперь – рано обеты да клятвы раздавать, может, я вовсе не той окажусь, с кем захочешь ты судьбу свою воедино слить.
Молчит Иван за спиной у Алены, ни словечка ни молвит, будто и нет его. Алена обхватила колени зябко, голову на них положила. Каждое мгновение Иванова молчания душу ей выстуживало. Вот зашелестел сухой травой – на Аленины плечи вдруг свитка легла, теплом его угретая. Иван за спиной глухо проговорил:
– Нет, не все... Еще одно скажи... Я-то нужен ли тебе буду?
– Иванко!..
– Нет, погоди. Не торопись. Хоть я, хоть другой кто-то... Нужен ли? Страшно мне, что я – только забава на время. Об чем говорила ты сейчас... Слаб я пред этим, мал... Хотел быть тебе опорой, заслоном пред бедой всякой... А тебе оно и не надобно... Потешишься любовью моей, как цацкой дешевой, да и уйдешь не оглянувшись...
Помедлила Алена, потом заговорила:
– Не по кому никогда не тосковала я. Не знала, что такое одиночество: если не с людьми вместе, так вот с этим, – повела Алена рукой. – Оно такое же живое. А потом ты пришел. Еще в лесу поняла, что я одна – всего-то половинка от целого. А ты – вторая половина. Правду ты сейчас сказал – не нужен мне кто-то, другой. Не будь тебя – ни к кому бы не кинулась от одиночества. И об ущербности своей не ведала бы. На беду себе.
Смолкла Алена. Иван тоже молчал, смотрел в ожидании. И Алена снова заговорила:
– Беда, коль человек любви не знает. Тогда ее место займет бесстрастность, потом равнодушие, а потом и сердце зачерствеет, бесчувственным станет. – Подняла лицо к Ивану. – Понимаешь ли ты теперь, что в тебе спасение мое? Твоя любовь не даст мне ожесточиться, от того как раз сбережет, чего Велина опасалась.
Иван за плечи ее взял, к себе поднял, долгие мгновения глядел в глаза близкие. Потом вдруг обхватил руками своими, прижал крепко, зашептал с горячностью торопливой:
– Аленушка, лада моя... И ты знай... сладкое, горькое ли, все делить с тобой хочу. Я ведь тоже до тебя не знал, как пуста и безрадостна жизнь моя была. Любил ли кого – не знаю. А теперь любви во мне столько, что весь мир обнял бы. Вынь из меня ее опять – чем жить останется? Хоть увечные тоже живут ведь, да разве жизнь это? Доживание сирое. Да... правда... думал я, что по-другому у нас будет. А теперь ровно облако нашло, и не знаешь, чего ждать от него – уйдет без следа иль ненастьем обернется. Только ничего оно не переменит. Ты мне еще дороже стала. А ненастье – переживем. Только вместе чтоб...
– Спасибо тебе, Иванко...
– За что меня-то благодаришь? – искренне удивился Иван.
– Будто не знаешь?
– Не знаю!
– А я и не скажу тогда, – улыбнулась Алена.
– Почему?
– А загордишься сверх всякой меры! – рассмеялась Алена и хотела ускользнуть из кольца рук Ивана, да он проворнее оказался, "захлопнул ловушку".
– Э-э, нет! Отпущу, когда захочу.
– Не губи, человече. Сгожусь еще.
– Скоро ты по-другому запела, хитрюга! Сперва скажи, чем гордиться мне, потом уж и пой. Тогда, может, отпущу.
– А я передумала – не хочу, чтоб отпускал.
– Ох, и лукавы же вы, Евины дочери!
Иван упал на спину, Алену на себя уронил – встать не дал, руки за ее спиной в замок сцепил.
– Жди завтра сватов, Алена.
– Нет, Иван!
– Да, люба моя. Не стану я тебя слушать, да сроки надуманные выжидать. Раз нужны мы друг другу – чего же боле? Дурак бы я стал, коль ждал да опасался – кабы чего не вышло. С любой заботой вдвоем легче расправляться, вот мы и будем вдвоем, не по одиночке. Не перечь мне, ладно?
Отстранилась Алена, хотела сказать что-то, да поглядев в лицо его, в глаза, только вздохнула тихо и счастливо, и опять щекой к груди его прижалась. Потом вдруг рассмеялась негромко своим мыслям.
– Об чем ты?
Потерлась Алена носом, сказала с улыбкой:
– Муженек-то у меня строг будет – не приведи Господь!
Неправду сказала. Рассмеялась она из-за того, что вспомнила, как заявила Ярину, что никому не будет покорна, кроме воли Божьей.
– А ты думала! – самодовольно проговорил Иван. – По струнке ходить выучу!
И расхохотался, как встрепенулась Алена, разрывая его объятия, забилась – да не тут-то было. Руки у Ивана и не шелохнулись, ровно каменные.