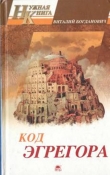Текст книги "Ночь Веды"
Автор книги: Раиса Крапп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Видать, погнали их волки. Лошадь, обезумев от смертного страха, понесла не разбирая дороги, напрямик по лесу, повозку-то и расхристало о деревья. Но еще раньше, видать, девчонка выпала из возка сзади, когда стало его мотать да кидать по корням, по ухабам. А вот как она звериных клыков избежала, как проскочили ее волки, погоней увлекшись – об том лишь Бог знает.
Дарьюшка-то, правду молвить, помнила еще кое-что, но даже Ивану и доброй "баушке" он не все могла рассказать. Вроде помнила, но когда люди начинали спрашивать, память об той ночи вдруг уходила вглубь, таилась, и Даренка путалась, сама уже не знала, вправду ли пробудилась от криков отца и матери, от сильной тряски? Вправду ли трясло повозку так, что Даренку кидало от стенки к стенке. Ночь была холодная шибко, лютый ветер сек дождем пополам со снегом, но Даренке было тепло в большущем батюшкином тулупе, в который мать завернула ее. Вот она и каталась мягким коконом, и больно ни чуточки не было. Сперва хотела она из тулупа выбраться, но кричали так страшно, что Даренка оцепенела от страха. А потом вдруг полетела куда-то вместе со своей теплой темнотой.
В той ночи было еще много – одиночество и жестокий холод, страх и слезы, и большая серая собака со злым пламенем в желтых глазах.
Но было и другое – тихая, спокойная радость и твердое знание, что все страшное кончилось. Это когда шла она по лесной дороге и рядом, с обеих сторон шли батюшка и маменька, держа ее за руки, необычайно ясные, светлые. И хоть еще стояла в лесу ночь, но Даренке темно не было – они трое шли будто в тихом зеленоватом сиянии. И босые Дарьюшкины ноги не чуяли ледяной, запорошенной снегом земли...
Они шли, шли, и Дарьюшке было так радостно, как в утро Христова воскресения. А потом родители остановились. И стали молча прощаться. Даренка сначала, было, испугалась, хотела заплакать, да лица их были так светлы, руки – такими нежными и добрыми... и Даренка вдруг сердцем услышала их голоса: "Мы всегда здесь, всегда рядом. И всегда будем рядом. Но тебе не надо с нами оставаться, тебе еще долго идти. Иди, доченька, иди вперед. Там тебя ждут".
Тут Даренка увидела впереди на дороге большую и добрую олениху, а когда обернулась – родителей на дороге не было. Она опять чуть-чуть испугалась, но их голоса возникли снова, и Даренка поняла, что они никуда не ушли от нее.
И лес показался таким своим, знакомым, добрым. Ненастья лютого как ни бывало. Ночь дохнула совсем летним теплом. Ветерок, как шаловливый соседский парнишка летал меж вершинами спящих дубов и тревожил их, громко шурша прошлогодними листьями. Даренка знала откуда-то, что захочет, так велит ему умолкнуть, упасть к подножиям дубов либо улететь играть сухими листьями в другом месте. Иголочки молодой травы забавно щекотали босые ступни, упруго пружинили, оберегая нежные маленькие ножки от колючек и сучьев. А когда кончалась долгая ночь, птицы развлекали ее, летали низко, она протягивала к ним ручонки, и они садились на маленькую ладошку.
По рассказам Даренки выходило, будто не то день, не то два вела ее через лес олениха, что спала она, к теплому боку ее привалившись и холода ни чуяла...
Иван и верил, и не верил – но ведь и впрямь, на опушку Даренка с оленихой вышла... Этих странных рассказов Дарюшкиных он никому не пересказывал – досужи люди разговоры говорить и догадки сочинять.
Сердобольные бабы предлагали Ивану отдать им найденку, пусть подымается, в разум входит рядышком с их собственными детками. А что до лишнего рта за столом... дитенок вон како горюшко изведал, да неужто у кого язык повернется куском хлеба попрекнуть? Да об чем говорить, любая из Лебяжинских баб готова сиротинку обогреть, обласкать, лакомым кусочком порадовать. Это ему, молодому да холостому не для чего чужим дитем себя отягощать. И не простое это дело – дите малое ростить. Сухой коркой не прокормишь, рогожкой не обернешь – и сварить вкусно надо, и обиходить, и постирать, и рубашонку сшить, да мало ли!
Но осиротевшая матушка Аленина и Иван все уже обтолковали и решили. Даренка им – Богом даренное утешение. И никому, никогда, ни за какие посулы они ее не отдадут. А жить станут втроем, семьею. Если еще и сомневался кто, что так оно лучше всего, так сомнения эти скоро очень растаяли, как клочья тумана под жарким солнцем. Потому, что опять засияли, залучились потускневшие глаза матери, когда под осиротелым кровом зазвенел детский голосок и смех. Про Ивана и говорить нечего – он с первых минуточек будто сердцем прикипел к малехе. А девчоночка до того ласкова, до того понятлива была – глянет в глаза, ну будто в душу, проведет маленькой ладошкой по щеке или волосам, куда печаль девается, и усталь, и боль уходили. И мать, и Иван верили, что девочку Бог им послал и никому другому – вроде как наместо утерянной Алены. Алена – незабвенна и незаменима, это ясно, да все ж теперь стало чем дальше жить. И так они в это верили, что иной раз чудилась им Алена в лице, в словах, в смехе Даренки. Вот наваждение!
Глава шестьдесят первая,
нежданная встреча в березовом перелеске
И все бы, кажется, хорошо, а Иван места себе не находил, будто лихоманка колотила, – Алена боле не пришла ни разу. В первый день, как Даренка у них появилась, ждал он ночи в азарте и нетерпении, об находке удивительной своей рассказать и услышать, что скажет на это Алена. Не давало покоя предчувствие, будто должна Алена сказать что-то об девочке, больше, чем он знал. А может и не слова то будут, а знак малейший, от которого сделаются понятными смутные догадки и ощущения Ивана. Как жаждал он Алену увидеть! А она не пришла.
И на другую ночь то же, и на третью... А там Иван и сон потерял, чего только не вздумал в долгие-предолгие ночи. Уж до того дошел в усилиях отгадать причину: а вдруг взревнует Алена, мол, нашли утеху, уж и про горе свое забыли... Одурманенное бессонницей сознание мучительно искало выход. А вдруг не должен был он брать девочку в дом? Так теперь-то что? Отдать кому ни попадя? Да ведь это невозможно, нельзя! Нет, Алена не могла бы такое потребовать! Но тогда отчего нейдет?.. И опять влекло мысли, одну за другой, по тому же кругу, опять и опять, как невольников в связке... А дни шли.
Даренка будто чуяла его терзания, вроде бы даже стороной от Ивана старалась держаться, не вертеться на глазах. А в то же время – приластиться незаметно, невзначай будто. То головенку золотую приклонит, то спешит подать какую вещь, Ивану нужную и глядит: толи похвалит, толи прочь погонит. И ведь малеха же, несмышленыш – что она понимать могла? Но от глазонек ее печальных, ожидающих, у Ивана сердце заходилось, и в мыслях своих он со всем отчаянием, со всей страстью звал: "Алена! Аленушка! Да что ж ты нейдешь, люба?!"
И когда скрозь бессонное оцепенение его, скрозь темноту ночи проступили вдруг белые станы берез, он даже обрадоваться не смог, а только вздохнул судорожно: "Ну, вот!"
Обступили его березки, будто светлые, чистые девицы в хоровод заключили. И пространство меж ними заполнял тот свет особенный, что бывает только в березовых рощах, ровно сами березы испускают лучи невидимые, и стоит роща светлее светлого, яснее ясного. И проникает это сияние аж в душу. Еще в храме такой свет бывает – торжественный, не принадлежащий земному. Вот и теперь – замер Иван в неземном березовом сиянии. И увидал – за деревьями, приближаясь к нему, возникает и пропадает девичий силуэт. Устремился туда Иван всем существом своим... и на месте остался, хотя возликовал всем сердцем: "Аленушка! Желанная моя! Иль не Алена?.. Ах, да кому быть еще? Она! Она!"
"Да что это творится со мною?! – в отчаянии рванул Иван ворот рубахи, будто он теснил дыхание. – Ведь Алена! Я вижу!" Но в следующий момент: "Да неужто не она?.." Лицо строго, неулыбчиво, величаво... неуловимо переменчивое. И уж деревья почти не закрывают ее, а Иван все понять не может, Алена к нему идет или нет. И вот – встала. Только три шага до нее. Не Алена...
– Нет, Иван. Не Алена.
И смотрит. Иван слова молвить не может, язык камнем мертвым отяжелел...
– Сто лет здравствовать тебе, Иванко. Ни хворям, ни годам тебя не одолеть...
– Кто ты? – не слушает Иван.
– Веда.
– Зачем обличье ее взяла?
Повела бровью. В глазах искорки блеснули, как солнце на самоцветных гранях.
– Чье?
– Але...нино... – но нет, нет больше Алены в этом чужом лице... – Так вот ты... Веда...
Приподняла она чуть руку, проговорила негромко:
– Утишь сердце свое, Иванко. Злой холод в нем поднимается. Думаешь: "Вот виновница всех бед! Вот к кому ушла Алена и не вернулась! Ежли б не она!.." Только не я ведь сгубила Алену, а ожесточение человеческих сердец. Не оправдываться пришла я, Иван, а вернуть покой душе твоей.
– Где Алена?!
Помедлив, протянула она к нему руку:
– Идем. Сам увидишь. Держи мою руку, я укреплю тебя, не то сорвешься.
– "Куда идем? – хотел спросить Иван, – Как это – сорвешься?" – Но рука поднялась помимо воли его, и пальцы Веды сомкнулись на ней крепко. Иван вздрогнул.
– Иванко, верь мне, не опасайся. Готов со мной идти?
И снова хотел спросить Иван: "Куда?" Но только вытолкнул хрипло:
– Готов... – и будто ухнул в черный провал...
Не упал, только потерялся на миг. Но была при нем точка тверди, опоры и растерянность сразу прошла. Опорой стала рука пришелицы, и теперь он вверил ей себя без малейших сомнений потому, что едва соприкоснувшись руками, ясно почувствовал Иван – Алена здесь, ее тепло в руке разливается. А коль Аленушка с ним, так он без раздумья шагнет хоть к дьяволу в глотку.
...Когда обрел он себя, увидел, что оказался посреди леса, в ненастной ночи. Ветер свистел меж голыми стволами, мотал тяжелые лапы елок, лепил на них мокрый снег. Но сам Иван ни холоду, ни ветру не чуял, и не то летел он над мотающимися голыми верхушками, не то висел... нет, и так неправильно сказать... Он присутствовал в промозглом весеннем лесу в эту злую ночь.
– Иван, меня ни про что не спрашивай. Сам все увидишь. Потом забудешь опять, помнить про это тебе нельзя. Но с души беспокойства уйдут, покой обретешь.
И тут захолонуло сердце у Ивана, как увидел он лесную дорогу, к которой теснились темные ели. И сквозь густую кашу из снега и ледяного дождя, мимо вековых мрачных великанов брела девчушка. Маленькие ноги еще толком не выучились по земле шагать, запинались за мозолья корней, наружу выпирающих, соскальзывали в узкую колею, недавно оставленную колесами в холодной перемешанной со снегом земле.
– Даренка! – охнул Иван.
– Она. Но и не она.
Пригляделся Иван: большой, материнский плат с говоры сбился назад и видны темные хвостики косичек. Они выбились наружу и растрепались, потеряв пестрые ленточки. У Ивана даже навроде камня с души свалилось – его-то Даренка золотоголова, от ее кудряшек только что свет по горнице не идет.
Девочка не плакала, устала, видать, от долгого плача и теперь время от времени только вздрагивала всем маленьким тельцем от судорожных всхлипов. И тут у Ивана сердце обмерло: из-под елового шатра выступил на дорогу большой серый зверь, постоял и затрусил краем дороги за человеческим дитем.
– Спаси ее! – лихорадочно проговорил Иван. – Спаси!
– Иван, мы видим то, что уже свершилось. Ничего не поменяешь. Лучше гляди, гляди.
Волк изготовился к прыжку, и Иван крикнул в отчаянии:
– Да Веда же ты! Прогони его! Прочь!
Вдруг темно у Ивана в глазах стало, как будто бы кто покров темный на него накинул. Только услыхал взвизг и почуял, как шевельнулись волосы на голове. Но тут же разобрал, что это не человечий голос, так визжит, к примеру, собака, когда палкой побьют. И в глазах прояснело. Странный изумрудный свет разливался меж стволами, струился, перетекал волнами. Иван успел ухватить взглядом, как зверь с поджатым хвостом кинулся в чащобу от этого света. Иван глазами назад метнулся, отыскивая ребенка. И споткнулся о неподвижный комочек на черной земле.
Девочка лежала ничком, ткнувшись головой в землю.
– Она живая?.. – со страхом, упреком и непонятной надеждой на невероятное спросил Иван. И осекся, онемел. То ли мнилось ему, то ли вправду обозначилась в зеленом сиянии девичья тонкая фигурка, из того же сияния сотканная. Эту хрупкую фигурку Иван из миллиона отличил бы... А она гибко склонилась над недвижным, скомканным комочком плоти, протянула руки, от них потек на девочку жидкий зеленый свет, облил ее всю. Подняли ласковые руки малеху, поставили на дорогу. Вот теперь Иван без сомненья свою милую Даренку видит... и еще другие черты находит, самого дорогого для него лица... иль сияние зеленое так обманно?
В беспокойстве Иван к Веде оборачивается:
– Алена где? – вот только что склонялась Алена над дитем, поднимала с земли, а куда потом делась – не углядел.
– Разве не видишь? И ни в каком другом месте ее не ищи, теперь она здесь.
– И что же?.. Не придет Алена больше?.. – в голосе Ивана отчаяние.
Веда с улыбкой на девочку глядит:
– Она идет к тебе. Неужто впрямь не видишь?
Иван глядел вслед маленькой золотоголовой топотунье, которая шла по схваченной морозцем дороге сквозь ненастную ночь, как по летней полянке.
– Все видел Иван? Все понял?
– Все...
– Тогда, пусть идет.
Глава шестьдесят вторая,
обретение
И снова окружила их солнечная роща.
– Скажи... ту девочка ты спасти могла?.. Она ведь погибла в лесу, да?
– Верно.
– Как же ты... видела... смотрела... и не вмешалась.
– Иван-Иван... Я могла бы сказать, что погубила ее родительская беспечность, торопливость никчемная. Себя сгубили и дитя свое, когда ринулись через лес в ночь, в ненастье. Только вернее будет другое – на роду ей такая гибель написана была. Винишь... А ведь ей вторая жизнь подарена, на счастье.
– Нет, не виню... что ты! – поспешил разуверить Иван. – Только жалко дите... Каково ее было.
– Жалей, – вновь улыбнулась Веда. – Пуще любить станешь.
И Иван улыбнулся тоже. Но сказал раздумчиво, с серьезностью:
– Пуще не бывает.
И вздохнул:
– Жалко... Не сказалась мне Алена...
– Когда ж было? И об чем говорить? Еще прощаться б вздумал. А к чему, когда она теперь при тебе всегда. Знаешь, где ее найдешь. Я попросить хочу тебя. Окрести Даренку. Может, она и крещена уже, да ты не знаешь. Я ж хочу ее крестной матерью быть. По долгу приглядывать за нею, хранить и помогать.
Иван поглядел в замешательстве.
– Опаску против меня имеешь? – грустно дернула уголком губ Веда. – Прав ты, знаю. Только не торопись остерегать ее от меня, я Даренке не наврежу. А злое подступит – укрою. Да ведь, и поздно Иван, хочешь ты или не хочешь допускать ее до меня – поздно уж. В тот миг, как обрела она новую жизнь, так и коснулось ее большее, чем обычному человеку доступно.
– Будь по-твоему. Позову тебя в крестные. Но кто ты, Веда-хозяйка?
– Дух бесплотный, я нигде и всюду. Часть меня в человеках, которые ведают. Часть – в других существах, об них знают люди по сказкам да преданиям. Часть – вовсе в других мирах...
– Велика ты... Но как же бесплотна? Я будто до сих пор руку твою на своей чую. И плоть ее, и тепло живое.
– Предстать перед тобой кем хочешь могу. Алена видала меня в этом образе, потому я такой к тебе пришла. Наперед, Иван, знай, я рядом всегда. Меня ни звать, ни ждать не надо – я вокруг, в травинке каждой, в луговых запахах, в журчании ручья. Во всем, что жизнью наполнено. Без зова не явлюсь, но коль понадоблюсь – вмиг узнаю об этом.
Иван еще слышал ясный голос, но в глазах его – показалось сначала – как дымка встала. Потом понял, что не глаза виноваты, что тает, теряет четкость облик прекрасной женщины, стоящей перед ним.
– Уходишь?
– Встрече нашей конец подошел. Будь счастлив, Иванко. Дари любовь свою, в завтрашний день не заглядывая. Будь счастлив, светлый человек.
...Вскинулся Иван ото сна – за окном тихая весенняя ночь. Что разбудило – непонятно. И тут опять, будто всхлипнул кто. Иван подхватился – Дарьюшка! В момент очутился у большого сундука, где из подушек и одеял была устроена временная постелька.
Девочка спала. Но что-то снилось ей, отчего она всхлипывала во сне.
– Маленькая... – Иван легонько, невесомо провел рукой по шелковым кудряшкам – они буйными, упругими завитками рассыпались по подушке. Золотко желанное, что за беда у тебя?
Девочка открыла глаза, сонно поглядела на него.
– Что тебе снится, девонька моя? Плохой сон? Я прогоню его.
Она не отводила от него глаз, потом прошептала:
– А серчать на меня не будешь?
– За что?
– Не знаю. Только у тебя глаза хмурые... ровно, серчаешь всегда.
Иван почувствовал, как зажгло под веками, как будто ветер песком дунул в лицо.
– А хоть ты и не глядишь, я все равно знаю, что хмур. У меня вот тут болит тогда, – она уставила пальчик в рубашонку на груди.
Вовсе уж ни в силах ничего сказать, Иван протянул к ней руки. Она с готовностью подалась к нему, крепко обхватила за шею, прильнула.
– Славница ты моя! – пробормотал Иван, прикоснулся губами к теплой нежной щечке, вдыхая еще непривычный ему, удивительный аромат.
Девочка подняла голову, посмотрела на него озадаченно и тронула маленькими, горячими ладошками его лицо.
– Тебе тоже больно? – спросила беспокойно.
– Теперь нет, – улыбнулся Иван.
– Тогда не плачь больше, – принялась она отирать его щеки.
Иван молчал, дивясь и той волне радости, которая хлынула вдруг в его сердце, вздымая его на самую вершину счастья, и легкости маленького тельца дотоле не доводилось ему пестовать на руках малых деток, доверчивость маленького человечка оказалась столь сладостна... И одновременно пытался вспомнить Иван, – нечто удивительно, что снилось ему только что.
Вспугнутый сон отлетел, осталось только твердое ощущения, что было в нем про Алену. Значит, дождался он, пришла-таки Алена. А что сон забылся видать, так Аленушка хотела. Но теперь от печали и следа не осталось, в сердце одна только радость, источник которой вот эта кроха у него на руках. И было еще одно, самое главное, самое стойкое ощущение, что Алена здесь, рядом, с ним в каждую минуту. И впереди – встреча с ней, а уж он отыщет, непременно ее отыщет.
– Спи, дитятко мое ненаглядное, разумница моя... Я покажу им, как мою девоньку забижать! Ужо я вам!
Он шептал ей тихие слова, когда бессмысленные, когда смешные, но полные нежности и любви. Тихонько баюкал ее, покачивая на руках невесомую ношу свою.
– Спи, радость моя, красавица моя. Никому-никому тебя не отдам!
С тихим счастьем обретения он глядел, как смежились сонно реснички, словно лепестки цветов. Она еще раз вздохнула прерывисто, ворохнулась у него на руках, устраиваясь поудобнее – упругие золотые кудряшки пощекотали грудь Ивана. Он любовался ею, и на лице его был покой и счастливое умиротворение.
Глава шестьдесят третья
Эпилог
Однажды появился на Лебяжьем странник. Седые волосы лежали на плечах, за спиной – легкая котомка, в руке – черемуховый посох. Шел себе не спеша серединой улицы. Глядел вокруг не как чужой, а так, как смотрит человек в доме своем, где все знает и все принадлежит ему. Собаки деревенские выбегали из дворов навстречу чужому и... ластились к нему, приветливо виляя хвостами, провожали дальше. Весть полетела по селу, обгоняя странника – признали его. Об этом человеке давно и широко молва шла. Будто глазами своими, юношески молодыми, любого видит в истинном свете его, душу видит, помыслы, и толку нету лжу ему говорить. Будто владеет он волшебной целительной силой, исцелить болезного ему – лишь рукой коснуться. Только просить об исцелении труд напрасный. И про хвори ему рассказывать не надо, он так их видит, и сам выбирает, кого избавить от страданий, а кого с ними оставить. Однако в тоске и безнадеге ни один не останется, коль посчастливилось со старцем встренуться – странным образом оставляет он в сердце каждого свет веры и искру надежды, как путеводные звездочки, которые отныне будут сопровождать на всех дорогах жизни, освещать ночи несчастий, а радость делать еще светлее...
Много чего рассказывали про старца удивительного столь, что порой и не верилось, вправду ли ходит такой по свету, а может то предание старины незапамятной, а может сказка-мечтание об такой святости в земном человеке.
И вот шел он по пыльной улице, вроде совсем как странник обычный, но что-то было в нем, что люди признали: "Он!.."
Отворяли широко ворота и двери, выходили с поклоном, с надеждой, что в их дом войдет и будет это все равно, что благословение на счастье и благоденствие... Но старец на привет приветом отвечал, поднимал руку, чтоб крестным знамением осенить, и так же не спеша шел дальше. И дошел почти до околицы, когда из проулка старцу навстречу быстро вышла девица, будто выпорхнула. Седовласый странник как вкопанный стал, глаз с нее не сводя, и она так же стояла, но глядела на него с улыбкой, чуть склоня голову на бок. И в прекрасных ее незабудковых глазах не было и тени благоговения, с которым глядели на него другие.
Толи это долго было, толи мгновения короткие они друг на друга глядели, а потом девица поклонилась низко старцу, подошла и взяла его за руку, и он пошел за нею. Люди же глядели им в след и дивились той странной схожести, которая бросалась в глаза теперь, когда странник и девица шли рядом. Они оба были высоки и легки в движениях, будто земля не тянула их тяжестью. Длинные седые волосы старца не были тусклыми и безжизненными, они падали на плечи волнами и ярко серебрились на солнце. А у девицы золотые, буйные, с рыжеватым отливом кудри как будто сами светились солнечно. И еще схожесть была в том, что невозможно было глазу проскользнуть по ним без остановки, напротив, приковывали, зачаровывали они людские взоры. И стояли люди, разные характером и нравом, глядели кто радостно, кто растроганно, со слезой, кто восхищенно, но ни один – завистливо, злобно ли, аль с другой какой недобротой.
Девушка растворила широко воротца перед гостем, но старик не вошел, остановился.
– В счастливый дом иду. Живущие в нем менее других нуждаются, чтоб вошел я в него.
– Это нужно тебе самому, – приветливо улыбнулась девица.
Они сидели за пустым столом и смотрели друг на друга. И никто не признал бы сейчас старца с пронзительным взором, наделенного чудесной силой в старике с устало опущенными плечами, а глаза... глаза, как много было в них и как поразили бы они случайного соглядатая. Нет, не поразили – сразили бы на месте.
Они сидели так, пока в дом не вошел, чуть пригнув в дверях голову, высокий широкоплечий мужчина и девица взглянула на него вспыхнувшими светом глазами.
– Дарена, гость у нас! Да за пустым столом!
Старец встал неторопливо, повернулся во всей своей благородной красоте, прямой, высокий, с величественной осанкой.
– Господь благослови тебя, добрый хозяин. А только задушевную беседу ни на какое самое богатющее угощение не поменяешь.
– Ты прав, мудрый странник. Но коль прервал я вашу беседу, так значит самое время трапезе подошло.
– Ты рано так. Случилось что? – Дарьюшка быстро подхватилась из-за стола, глядела обеспокоено.
– А как же не случилось. Ко мне сосед, Добролюб верши прилетел, беги, говорит, домой спехом, там у тебя такое!.. Аж перепугал. Садись, странный человек, раздели с нами нашу пищу, – позвал Иван и, утерев руки полотенцем, тоже присел к столу.
Дарьюшка положила руки ему на плечи и осталась так на несколько секунд, будто позволяя гостю полюбоваться на них двоих.
К вечеру старец засобирался в путь.
– Да что это ты надумал?! – возмутился хозяин. – Куда на ночь? И думать не смей, никуда мы не пустим тебя!
– Мне что день, что ночь, все едино. Страшна только ночь в себе самом. А коль ее прошел, тогда уж ничего не страшно. Не останавливай меня, добрый хозяин, так надо.
– Но люди ждут увидеть тебя, слова мудрые услышать. Ведь подумают, что не поглянулось тебе у нас, и чего ждать им тогда окромя беды.
– Я к вам приходил. А люди... Не тревожься, они ничего не скажут и беды никакой ждать не будут. Проводи меня, Даренушка.
Шагнув через порог, старец повернулся лицом в дом и, благословив жилье, отдал после земной поклон и дому, и хозяевам.
Дарьюшка проводила недолгого гостя за околицу. По обе стороны наезженной дороги легли поляны, дорога нырнула в ложбинку, потом опять устремилась вверх. У подножия взгорка старик остановился, повернулся к провожатой.
– А ведь я знаю тебя, девица, – сказал он слова, которые будто бы и сказаны уже были в той молчаливой беседе. Но это он должен был проговорить вслух потому, что про вину свою молчать легче, чем назвать ее и повиниться.
– И я знаю кто ты, старец Михаил. Иван тоже. Мы рады, что довелось еще свидеться.
– Значит, простили?
– Давно. Даже не в этой жизни, – ясно улыбнулась она.
– Счастливцы. А я несу вину, как веригу.
– Тогда я велю тебе снять ее. Жизнь твоя и дары, тобой обретенные, свидетельство тому, что давно искупил ты вину свою.
Из груди старика вырвался долгий вздох, будто и впрямь скинул он тяжкую ношу с себя. Дарьюшка привстала на цыпочки и прикоснулась губами к его щеке.
– Спаси тебя Бог, детонька, – в чистых глазах старца блеснули слезы. Теперь иди назад, я хочу побыть здесь один.
Недвижным изваянием он стоял в траве у дороги, скрестив руки на посохе, и смотрел на село, лежащее перед ним напротив, на пологом склоне. У странника было смутное ощущение, что только что побывал он в каком-то ином мире, на странном островке, обтекаемом Временем-рекой. Лебяжье было вроде в точь тем самым, которое оставил он студеным осенним рассветом, но одновременно неуловимо другим. И дело не в том, что он не был здесь столько времени, совсем не в том. И "столько" – это сколько? Он не знал, сколько лет ему. За долгую-долгую жизнь случалось ни раз, что одного и того же человека он видел сперва несмышленышем, потом женатым, рядом с собственными детьми, а потом – немощным стариком при смерти. А сам он все шел и шел длинными своими дорогами, которым не видно было конца. Сперва, как мог утешал, когда встреченный в том нуждался. Мучительно старался отыскать нужные слова, чтоб донести до разума другого то, что знал, испытал, перечувствовал сам. Павшего не топтал никогда, сам считал себя таким же, потому чужой грех пропускал сквозь собственную душу и коль находил даже самые малые крупицы света в чужой душе, указывал на них, помогал опереться, чтоб выбраться из безысходной неправедности. А не находил – оставлял другому частицу своей души: вот, обопрись только. И сам ежечасную поддержку чувствовал: Господь не оставил его, укреплял, давал силы и мудрость, наделял талантами, о коих прежде и не помышлялось... А сколько лет длится путь его – кто знает. Он тоже стал островком и живет по другому времени, такая вот милость великая дана ему. Разве ж одной короткой жизнью можно было искупить ту преступную вину?.. Или может, иное ждет его – вечное скитание по чужим дорогам и чужим грешным, болящим душам?..
А Иван молод. Хоть и не тот уже ясноликий хлопец, что щелкал по утрам кнутом, будил баб Лебяжинских. Но все ж молод, силен, легок, и в ковыльной шапке волос не различить седины. А ведь ровесники. Только каким счетом считать?
Ложбинка между тем стала затягиваться беловатой дымкой, потом реденький молочный разлив пополз вверх по склонам. В далеких оконцах засветились огни. Теперь взгорок с деревней и впрямь казались островом, плывущим в неведомом пространстве. И огни светились как маячки для тех, кто потерялся в белой, бездушной пустоте. Звали, обещая кров и участие, домашнее тепло, сытный ужин за столом, где соберется дружная большая семья.
Но он был Странник, домашний покой и уют звали других, странника ждала дорога. Он наклонился, отыскал в траве котомку, закинул ее за спину и шагнул на Дорогу.