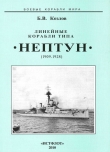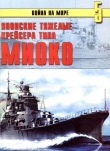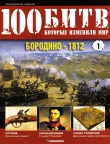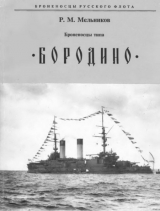
Текст книги "Броненосцы типа "Бородино" "
Автор книги: Рафаил Мельников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Делая последнюю попытку откреститься от подкреплений Небогатова (они уже полностью лишали оснований уклоняться от боя), он дошел до того, что нежелание соединяться с отрядом Небогатова мотивировал наличием в его составе 8 транспортов, которые-де вместо усиления эскадры только ослабят ее необходимостью выделять силы для их охраны. Словно его заставляли идти в бой, непременно взяв с собой эти транспорты! Той же шитой белыми нитками хитростью было и мнение о том, что целесообразность присоединения Н. И. Небогатова может выясниться лишь по опыту первых боевых соприкосновений с японским флотом. Как будто японцы обещали ему время и возможность подумать об этом! Отсюда и постоянные запугивания императора огромностью ожидаемых потерь ("дойдет четвертая часть"), трудностями похода, невыносимостью для экипажей существования в условиях тропиков на Мадагаскаре – о чем его предупреждали в Петергофе! – и постоянно нагнетаемая в приказах, донесениях и письмах картина полной неспособности командиров кораблей справиться со своими обязанностями, отчего и адмирал не в состоянии добиться от эскадры какого– либо уровня боеспособности. Дошло даже до жалоб на свою физическую немощь, намеки (в письмах жене) на благотворность его замены (еще на Мадагаскаре) адмиралом Чухниным, который мог бы прибыть с оказией па кораблях отряда Д. Г. Фелькерзама, и даже до признания, что он "просто человек, не обладающий нужными данными, чтобы справиться с задачей".
Однако в официальных донесениях он, свято блюдя чистоту и незапятнанность послужного списка, ни разу не высказал ни прямой просьбы о собственной замене, ни категорического настояния о возвращении эскадры с пути или задержки ее на подходе к театру военных действий. Но все его хитроумные недосказанности, завершившиеся уже совершенно панической телеграммой от 2 мая о своей немощи и о том, что состояние эскадры "очень плохое", не возымели на императора никакого действия. Он твердо верил в воинскую доблесть своего командующего. Приказа о возвращении не последовало.
Нетрудно представить состояние адмирала, который рассчитывал на совсем иной результат. Бешенство его, вызванное таким, как он вполне мог считать, "предательством", было неописуемо. Оно, возможно, окончательно помрачило его рассудок, и Рожественский, осознав крушение своей карьеры, решил, что в отместку за совершенное с ним "предательство" должна погибнуть и эскадра. Такая изуверская мысль и раньше проскальзывала в его переписке, где он, словно отмечая посторонний факт, высказывался о том, что если и "перестанет существовать эта глупая вторая эскадра", то это "небольшая уже будет надбавка к позору, к горю народному". Привыкнув смотреть на эскадру как на разменную монету в игре своих карьеристских амбиций, он не задумался и ее бросить ва-банк. И сделано это было не из благородных побуждений о воинском долге, а из злобной мстительности к тем, кто "предал" его в Петербурге.
И с драмой этого обезумевшего себялюбца и строгого моралиста (преследуя всех замеченных в нарушении нравственности и понятий воинской чести, он во время похода чуть ли не каждый день находил отдохновение в обществе плававшей на госпитальном "Орле" "дамы сердца") несопоставима подлинная драма тех 16170 человек, которые составляя личный состав эскадры, были отданы в почти неограниченную и бесконтрольную власть полубезумного человека. Их честь, совесть и патриотизм в продолжение всего похода были ежечасно оскорбляемы и угнетены истерически-дикими выходками адмирала и всей невыносимостью созданного им на эскадре режима административного террора. С каждым днем это убивало в людях интерес к службе и веру в успех похода.
Во всех подробностях эта обстановка отображена в книгах А. С. Новикова-Прибоя и В. П. Костенко. Горькое сознание безраздельной подчиненности невежественному самодуру угнетало не только П. А. Вырубова. Все видели нелепость происходящего, все понимали, что эскадру, не дав ей должной, даже по обычным меркам, артиллерийской подготовки, ведут к гибели, но никто -ни командиры, ни адмиралы – не осмеливались даже осведомиться у командующего о его замыслах и планах боя. Свыкнувшись с беспрекословным повиновением его воле и убедившись в бесполезности каких-либо объяснений, все они ни о чем давно уже не спрашивали, шли за ним безропотно и угрюмо.
Никто не удивлялся, почему, зная о безнадежной, уже более месяца продолжавшейся болезни второго флагмана эскадры контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама, З. П. Рожественский не перевел его на госпитальный "Орел" и не назначил ему (и пе вызвал из России) преемника. Все понимали, что командующий, единолично и полновластно распоряжавшийся всей эскадрой через головы своих флагманов и командиров, не нуждался в помощниках и сотрудниках, все делал сам и что в этих условиях добавление еще одной декоративной фигуры, какими адмирал сделал всех своих флагманов, не имело никакого значения. Поэтому на кораблях, успевших перехватить секретный семафор о смерти Д. Г. Фелькерзама (последовавшей 10 мая 1905 г.), как должное восприняли и продолжавший, как ни в чем не бывало, развеваться над "Ослябей" контрадмиральский флаг, и фиктивное исполнение функций умершего адмирала командиром броненосца В. И. Бэром. Никто не задумывался о более чем серьезных последствиях, к каким могла привести (и привела в бою) эта нелепая канцелярская тайна, которую адмирал и те, кто был в нее посвящен, не сочли нужным сообщить только что присоединившемуся к эскадре и ставшему теперь командующим 3-м броненосным отрядом Н. И. Небогатову.
Как одну из очередных, уже не вызывающих никакой реакции причуд командующего восприняли и последовавший, не раньше и не позже, а именно в день перед боем 13 мая 1905 г. приказ, который извещал эскадру о том, что "дальномерное дело на судах эскадры накануне боя находится в крайнем небрежении", и призывал "обратить особое внимание и воспользоваться хотя бы оставшимися до боя часами для водворения порядка в этом деле".

Эскадра у Носси-Бэ. На переднем плане стоит эскадренный миноносец «Блестящий»
Бедь никакой науки для выявления диапазона гарантированных измерений этих имевших большую погрешность (из-за еще незначительной базы) на дальних расстояниях приборов на эскадре не было, и приказ обратился в очередную выволочку за якобы нерадивое отношение командиров к своим обязанностям.
Безропотно провели 13 мая и затеянные З. П. Рожественским, первые после Мадагаскара и отнявшие от похода целые сутки, обширные эволюционные учения. Учения, естественно, оказались без практики неудачными, но повторены не были. Видимо, и они *
[Закрыть]преследовали все ту же цель: указать эскадре на ее никчемность и в очередной раз напомнить, что спасти ее может только беспрекословное подчинение железной воле командующего.
Да, готовность и привычка повиноваться во всем была на эскадре доведена, как отмечалось в труде МГШ "до высших ступеней", и оставалось ждать чудес тактического искусства от командующего. Держась твердой линии о своей полной непогрешимости, адмирал на вопрос о целях задержки на сутки перед входом в Цусиму (пасмурная погода того дня увеличивала шансы миновать японские дозорные отряды и пройти узкую часть пролива незамеченными) с достоинством Конфуция отвечал, что маневры по его сигналам "неприятель впереди", "неприятель сзади" имели цель "еще раз подтвердить начальникам отрядов, что именно им следует делать, когда неприятеля нет в обстреле бортовых орудий". Поразительны и его высокомерие, и это отсутствие даже тени раскаяния, и все тот же топко поданный лейтмотив полной неспособности к самостоятельным действиям его кораблей и начальников отрядов, и ханжеский намек на то, что начальники его отрядов, в действительности схваченные железной уздой ежеминутного повиновения, будто бы имели свободу самостоятельных действий.
Конечно, отнять у людей право мыслить был не в силах даже сделавший для этого все командующий. Понимание натуры и "талантов" командующего проявил не только погибший со своим кораблем лейтенант Вырубов. В штабе командующего крейсерами контр-адмирала Эпквиста, поверив призывам адмирала к разработке офицерами тактических задач, осмелились предложить З. П. Рожественскому план будущего боя, в котором крейсера могли активно взаимодействовать с броненосцами, а не только охранять обоз из транспортов, которые адмирал, руководствуясь собственной внутренней логикой, продолжал вести с собой. С какой, надо думать, брезгливо-гадкой ухмылкой сунул командующий под сукно этот план, который на словах одобрил и обещал привести в действие. В бою на использование этого плана не было и намека.
План у Рожественского был другой. Руководствуясь сложившейся убежденностью, что его командиры неспособны выполнять даже простейшие эволюции, он, практически отняв у своих флагманов все предусмотренные Морским уставом права и низведя их до роли пассажиров, строжайше предписал: в бою кораблям неотрывно следовать один за другим, замещая выбывших следующим в строю и невзирая ни на что (обходя подбитые и вышедшие из строя), держаться в строю за головным, которым последовательно будет становиться тот, кто останется во главе строя.
*Если отбросить известную версию о намерении адмирала, как и его предшественника по Роченсальмскому сражению, приурочить бой к «высокоторжественному дню» – на этот раз «священного коронования их императорских величеств».

На кормовом балконе броненосца "Император Александр ИГ старший офицер корабля капитан 2 ранга В. А. Племянников (слева) и мичман А. А. Адлерберг. Оба офицера погибли в Цусимском бою.
Состоявшаяся 10 мая последняя грандиозная погрузка угля породила на кораблях надежду, что эскадра пойдет более безопасным кружным путем вокруг Японии. Избранный маршрут напрямую через Корейский пролив З. П. Рожественский попросту держал в тайне и вел эскадру туда, куда, как ему казалось, «было надо». Убоги были предпринятые им перед боем стратегические хитрости: отправка части транспортов в Шанхай, смехотворная демонстрация отправкой крейсеров «Днепр» и «Рион» русского присутствия в Желтом море (где Порт-Артур уже полгода был в руках японцев), и, наконец, выглядевшая «в высшей степени жалкой» демонстрация вспомогательных крейсеров «Кубань» и «Терек» вблизи восточных берегов Японии.
Вместе с тем, идя на прорыв Корейским проливом, адмирал, чтобы, наверное, ввести в заблуждение собственную эскадру, а главное, чтобы оправдать свою "тихоходность", продолжал вести с собой в бой еще 6 транспортов и два госпитальных судна, которые, идя в конце строя, несли все свои отличительные огни.
Многочисленны были и глупости, совершенные на подходе к Корейскому проливу еще до вступления в бой. Это была ненужная возня с разгрузкой захваченного 5 мая 1905 г. английского парохода "Ольдгамия" и размещение части его команды на госпитальном судне "Орел" (что дало японцам повод, захватив судно, удержать его в качестве военного трофея). Непонятное великодушие проявил командующий к другому, захваченному в тот же день и столь же подозрительному норвежскому пароходу, который для досмотра привели к эскадре и, отпустив, дали ему пройти вдоль всего ее строя, чтобы он, прибыв в Японию, смог доставить туда последние сведения о составе русской эскадры. Это были те непонятные маневры в канун "высокоторжественного дня" и необъяснимо беспечное намерение идти на прорыв, ведя с собой и белый "Орел", огни которого навели на эскадру японского разведчика. Это произошло на исходе ночи 14 мая 1905 г.

На баке «Князя Суворова». День Нептуна во время перехода через экватор.
Не веря своему счастью, японский вспомогательный крейсер «Синано-Мару», привлеченный огнями госпитального «Орла», уже начал с ним сближаться для досмотра, как вдруг в уменьшившейся дымке обнаружил всю походную колонну русской эскадры. Он оказался в самой середине ее строя, но мер по перехвату разведчика принято не было. Он вызвал себе на «смену» для сопровождения эскадры, крейсер «Идзуми», но и этот, видимый уже всей эскадрой (это было около 7 час. утра), ни отогнан, ни уничтожен не был. В блистательных выражениях З. П. Рожественский впоследствии в июле 1905 г. доносил морскому министру: «..Я не приказал крейсерам отгонять его и полагал, что командующий крейсерами не делает об этом распоряжение самостоятельно, разделяя мои соображения о возможности увлечься погоней в сторону находящихся поблизости, закрытых мглою, превосходных сил неприятеля». Нельзя не восхититься, как тонко З. П. Рожественский накидывал сеть своей вины на командующего крейсерами, вовлекая его в общую с ним ответственность, как ненавязчиво внушал министру, что эскадра будто бы состояла из почти что самостоятельных единиц, имевших право на инициативу.
А затем начались и вовсе чудеса Конечно, отказавшись от собственной цепи охранения, как это сделал адмирал, можно было надеяться уменьшить риск обнаружения эскадры дозорами противника. Но ради этой цели, чтобы не дать противнику сведений о себе, следовало без промедления перехватывать и уничтожать все разведочные корабли с того момента, когда факт обнаружения эскадры уже нельзя было скрыть. Не приняв мер по перехвату "Синано-Мару" и сменившего его легкого крейсера "Идзуми", эскадра, неторопливо вползая в пролив "парадной" 9-уз скоростью, равнодушно взирала на то, как вызванная "Идзуми" по радио целая свора японских разведчиков, состоявшая, словно в издевку над русскими, из слабых и тихоходных судов, буквально обступила ее со всех сторон. Радиоэфир был перенасыщен треском японских радиопередатчиков, которые безостановочно сообщали своему командующему сведения о составе, скорости и курсе русской эскадры. Но З. П. Рожественский, демонстрируя то ли крайнее "презрение к врагу", то ли готовность предаться мазохизму в его предельно– извращенной форме, ничего и против этих разведчиков не предпринимал.
Будь эти слабые и частью устаревшие корабли своевременно уничтожены превосходящими силами крейсеров и быстроходного броненосца "Ослябя", встреча с главными силами японского флота, лишенного оперативной информации о противнике, могла бы состояться в более позднее время и при иной, более благоприятной обстановке. Этот гарантированный успех (главные силы были еще далеко, и японские разведчики не ушли бы от расправы) был необходим для необстрелянных экипажей русских кораблей, имевших ничтожную огневую подготовку. Он мог бы снять накопленное огромное нервное напряжение, рассеять угнетавшую всех обстановку неверия и пессимизма, придать людям уверенность в своих силах, пробудить мощный стимул к активной наступательной тактике. Очень может быть, что этот подъем снял бы с эскадры оцепенение слепого повиновения, вернул бы командирам способность мыслить и действовать активно. Но все это не входило в планы командующего. "Я не пытался гоняться за ними, потому что должен был сосредоточенно продвигаться вперед", – холодно ответствовал он па недоуменный вопрос комиссии.


Будни эскадры. На баке во время якорной стоянки (вверху) и построение корабельного оркестра на юте.
В заботах о -создании наибольших возможностей для деятельно выполнявших свою задачу японских разведчиков З. П. Рожественский запретил просившему разрешение командиру крейсера «Урал» вмешаться в японские переговоры. Его мощная станция могла надолго вывести из строя все японские передатчики. «Не мешать японцам телеграфировать», – был ответ командующего. В том же духе отвечал он и па вопрос об этом в следственной комиссии. Оказывается, адмирал был озабочен сохранностью станции «Урала», которая, видите ли, всегда расстраивалась, как только начинала работать. Отказался он и от намерения отогнать разведчиков огнем 305-мм орудий «Суворова» (о таком намерении по эскадре было сделано оповещение), а когда ближайшие к разведчикам корабли, не смея без разрешения броситься в атаку (говорят, что командир «Осляби» запрашивал об этом адмирала и получил отказ), не выдержали напряжения (комендоры держали врага под прицелом 40 минут) и, не выходя из строя, открыли стрельбу, последовал второй, вошедший во все хрестоматии, исторический приказ: «Не бросать снарядов».
Вся эта идиллия с мирно сопровождавшими эскадру и усиленно телеграфировавшими японскими крейсерами продолжалась до полудня, когда до адмирала вдруг дошло, что главные силы японского флота, которым он столь галантно помог без затруднения сосредоточиться, должны находиться уже где-то поблизости. "Они, наверное, нападут в строе фронта" (секрет этого озарения также остался не раскрыт), а потому и свою эскадру адмирал решил перестроить во фронт. Но разведчики не хотели проявить деликатность и продолжали висеть на флангах эскадры. По-прежнему не решаясь их обеспокоить, З. П. Рожественский начал маневр, дождавшись, когда набежит мгла. Но мгла рассеялась, эскадра снова стала видна разведчикам, и адмирал, дабы преждевременно не обнаружить свой маневр, отменил перестроение во фронт для продолжавших идти в кильватере 2-го и 3-го броненосных отрядов, а уже выстроившемуся во фронт 1-му отряду приказал (ведя его за собой) перестроиться обратно в кильватерную колонну. Позднее явилась версия о том, что адмирал, удрученный нестройно выполнявшимися маневрами, махнул будто бы рукой и отказался от всех перестроений. Так ли это было или перед нами очередная версия адмиральских апологетов – сегодня, видимо, уже не разобраться. В итоге всех этих маневров образовались две колонны, шедшие одним курсом в расстоянии 10– 20 каб, причем "Ослябя" – головной левой колонны (2-й и 3-й броненосные отряды) оказался на правом траверзе "Орла" – концевого правой колонны. Тогда же, словно ожидая этот момент, из мглы справа на бешеной (в сравнении с 9-уз русских кораблей) 16-уз скорости показался, пересекая курс русской эскадры, подоспевший японский флот.

Впереди холодные волны Цусимы.
Застигнутый врасплох, З. П. Рожественский заметался и, дабы кильватеру врага противопоставить свою кильватерную колонну, повернул влево, чтобы затем встать впереди и образовать из всех своих 12 броненосцев единый, вытянувшийся гуськом строй. Но глазомер «генерал-адъютанта» оказался никуда не годным: 11-уз скорость, с которой правая колонна пыталась «влезть» в голову левой, оказалась недостаточной для выполнения маневра. Колонна 1-го броненосного отряда («Суворов», «Император Александр III», «Бородино», «Орел») уходила вперед очень медленно и, выстроившись в кильватер чуть правее левой, отставала, по крайней мере, на один корабль, отчего «Орел» оказался на правом траверзе «Осляби». Но З. П. Рожественский счел маневр выполненным (репетичного корабля, который мог бы дать ему знать о действительном взаимном положении броненосцев, он не предусмотрел) и тотчас же «сбросил» скорость своей колонны до тех же 9 уз, каким шла колонна левая. Одновременно, дабы всегда оставаться правым, он поднял сигнал: «2-му и 3-м отрядам вступить в кильватер 1-му».
Чтобы выполнить это приказание, ведущий левой колонны "Ослябя" сначала пропустил вперед "Орел", только еще вышедший на его правый траверз и уже двигавшийся с той же 9-уз скоростью. Способ выполнения был один – уменьшить скорость или даже остановиться, дав "Орлу" уйти вперед, а затем, описав коордонат вправо, выйти в кильватер "Орлу" и всей шедшей несколько правее колонне 1-го отряда. Так на виду уже сближавшейся контркурсом японской эскадры произошел тот самый "кавардак", который вполне точно (на основе опубликованных свидетельств) описал в "Цусиме" А. С. Новиков-Прибой. Вслед за уменьшившим скорость, а затем и вовсе остановившимся "Ослябей" начали уменьшать скорость и выкатываться из строя следовавшие за ним "Сисой Великий", "Наварин", "Адмирал Нахимов".
Лучшего подарка для японцев нельзя было придумать: стреляя по скучившимся, почти остановившимся кораблям, можно было, накрыв их эллипсом рассеивания огня всей эскадры, добиться исключительно высокого процента попаданий. Все это произошло в момент, когда японцы, дойдя контркурсом почти до траверза "Осляби" (многие участники боя настаивают именно на этом положении), начали циркуляцию влево вслед за головным броненосцем "Микаса" и ложиться на сближавшийся, почти параллельный с русскими курс. Этот поворот, который продолжался, по разным оценкам, от 10 до 20 минут, предоставлял русским казавшуюся до того мгновения невероятной возможность выигрыша всего похода и боя. Делая этот рискованный поворот, японский командующий в течение всего маневра намертво привязывал спой флот к жестко фиксированной позиции – петле, проходившей его кораблями, которая при наличии предприимчивости у противника и давала ему возможность подойти почти вплотную и завязать ближний бой. Уклониться от такой стремительной таранно-минно-артиллерийской атаки (все эти виды оружия можно было применить с невозможной в других обстоятельствах эффективностью) японцы, не закончив поворота, не могли. Атаку могли предпринять (с участием быстроходного "Осляби") имевшиеся у З. П. Рожественского четыре новейших броненосца типа "Бородино". Словно бы созданные в предвидении такой атаки, эти корабли Отличались исключительно надежным бронированием из двух полных (по всей длине корпуса) броневых поясов и двойным или тройным превосходством (в бою "лоб в лоб") в числе 152-мм пушек, бронебойные снаряды которых могли пробивать почти всю броню японских броненосцев.
Превратив атаку в скоротечную беспорядочную свалку и единоборство одиночных кораблей, русские могли реализовать вполне удовлетворительную, мало чем уступающую японцам, боевую подготовку своих кораблей для одиночного боя и, наоборот, лишили бы японцев их главного преимущества– умения вести хорошо организованный и управляемый артиллерийский эскадренный бой с применением массированного огня с дальних расстояний. На эскадре не могли не знать, что в боях под Порт-Артуром японцы с близких расстояний стреляли гораздо хуже, чем с дальних. А главное, такая атака позволила полностью нейтрализовать органический, как считал З. П. Рожественский, недостаток его эскадры – "тихоходность".
Обладая З. П. Рожественский хотя бы малой способностью к "глазомеру, быстроте и натиску", которыми была пронизана суворовская "наука побеждать", будь он способен на подлинно творческие озарения, вспомни он не раз повторявшиеся С. О. Макаровым слова своих великих предшественников: "на войне обстановка повелевает", и имя его, случись эта вполне возможная, дерзкая и смелая атака, вошло бы в ряд с именами самых славных флотоводцев. Но роль флотоводца была, как это теперь очевидно, не по нему. Хотя Рожественский и оценил, если верить его позднейшим показаниям, "необычайно выгодные условия" для первого удара эскадры, однако он оказался неспособен мгновенно принять решение и молниеносно использовать предоставлявшийся ему неслыханно счастливый и почти гарантированный шанс если не разгромить японский флот, то провести с ним бой на равных. Его интеллекта хватило лишь на то, чтобы, не меняя ни курса, ни строя, ни скорости эскадры, поднять в 13 час. 49 мин. флажный цифровой сигнал "единица", что означало "бить по головному", и одновременно начать стрельбу самому. Этим он с первой минуты начисто дезорганизовал и без того весьма зыбкую систему управления огнем эскадры. Ведь согласно его же приказам, пристрелку должен был осуществить сначала головной корабль, а затем, получив от него корректурные данные о прицеле, могли открывать огонь и остальные корабли. "Единица", поднятая на мачте "Суворова", заставила открыть огонь сразу все корабли. Не отличая падения своих снарядов, в беспорядке сыпавшихся вокруг "Микасы", наши корабли не могли корректировать свою стрельбу, а полное отсутствие на эскадре даже зачатков системы массирования огня сделало его для японцев почти безвредным. Новые, но обладавшие недостаточной базой дальномеры Барра и Струда помочь не могли.
В те неумолимо истекавшие для русских последние минуты надежды, когда японцы начали свой поворот, а русский командующий, подставив под расстрел "Ослябю" и следовавшие за ним корабли, занимался лишь выравниванием строя, В. И. Бэр мог бы спасти положение. Словно самой судьбой уже выдвинутый в направлении к японской эскадре, обладая по праву адмиральского флага властью командовать своим отрядом, "Ослябя" во главе своих кораблей был вполне в состоянии сделать то, на что оказался неспособен З. П. Рожественский. В этом бою, в котором отличная выучка комендоров "Осляби" и повышенное бризантноё действие 254-мм снарядов могли бы нанести японцам ощутимые повреждения, были все шансы общими силами 2-го броненосного отряда подбить один из японских кораблей, и тогда делалась реальной возможность подхода и кораблей 3-го броненосного отряда контр-адмирала Н. И. Небогатова. В этих условиях подоспевшим кораблям 1-го броненосного отряда оставалось бы довершить разгром японцев. Во всяком случае в условиях боя кораблей один на один японская эскадра могла бы быть, безусловно, рассеяна и не смогла бы добиться той победы, которой в конце концов завершился Цусимский бой. Не было бы и того постыдного по своей беззащитности расстрела "Осляби" всей японской эскадрой, не было бы и его столь быстро последовавшей бессмысленной гибели.
Увы, изучением великих сражений прошлого, освоением уроков активной тактики и всего блистательного опыта Суворова, Нельсона, Ушакова, Сенявина, Нахимова, видимо, не утруждали себя ни З. П. Рожественский, ни В. И. Бэр, ни большинство тогдашнего флотского офицерства. Все военачальники той поры, как горько заметил один из воевавших в Маньчжурии полковых командиров, проявили лишь одну несомненную способность – "водить порученные им войска на убой". Не вспомнили на "Ослябе", уже загоревшемся от первой серии сыпавшихся на него японских снарядов, и о подвиге командира броненосца" Ретвизан" Э. Н. Щенсновича, который в опасной ситуации, грозившей в бою 28 июля 1904 г. русской порт-артурской эскадре потерей ее управления (из-за выхода из строя флагманского броненосца "Цесаревич" и растерянности второго флагмана), нашел в себе решимость вырваться из кучи сбившихся кораблей и в одиночку, принимая весь огонь на себя, броситься в таранную атаку на флагманский броненосец "Микаса". Не решившись использовать предоставившийся ему шанс, В. И. Бэр остался в общем строю и обрек на неминуемую гибель и себя, и свой корабль, и эскадру.
Не проявив ни способностей флотоводца, ни личной отваги, З. П. Рожественский и в последующие 5 часов боя, находясь па "Суворове", оставался столь же непостижимо равнодушен к происходящему и судьбе приведенной им на убой эскадры. О предельном маразме, в котором он пребывал все это время, и унтерском уровне мышления, свидетельствует эпизод с появлением раненого адмирала в башне 152-мм орудий. Не считаясь с тем, что башня повреждена и поворачиваться не может, что подача испорчена и кораблей противника в углах обстрела ее орудий не видно, адмирал приказал вызвать прислугу и начать стрелять!
Уже в первые полчаса боя, когда жестоко избитый "Ослябя" едва держался в строю, а "Суворов" оказался под неслыханно метким, частым и плотным огнем, командующий должен был решиться на какое-то кардинальное решение. Нельзя было столь бездарно играть в поддавки, позволяя японцам, которые пользовались почти двойным превосходством в скорости, с легкостью охватывать голову русской колонны и сосредоточенно расстреливать всем флотом ведущий ее корабль, одновременно прикрываясь от огня концевых кораблей за дугой изгибавшегося строя. Ведь можно было, рискуя даже потерей действительно тихоходных кораблей, увеличить скорость и не позволить японцам столь безнаказанно концентрировать огонь на головном корабле. Можно было в момент, когда японцы сближались, броситься на них строем фронта уцелевших броненосцев. Таран, мины из носовых аппаратов и кинжальный огонь могли бы смешать строй японской эскадры и заставить их отойти, дав русским кораблям передышку, хотя бы на ночь. Но адмирал оставался безучастен, сидя под прорезью рубки.
Приведя эскадру, словно по сговору с японцами, в самый центр их сосредоточившихся сил, связав корабли гибельным приказом тянуться один за другим и превратив флот в караван смерти, выключив из действия всех своих флагманов и фактически полностью устранившись от руководства боем, З. П. Рожественский, по существу, самым подлейшим образом предал своих матросов и офицеров, предал последние надежды маньчжурской армии, предал вековые традиции флота и его славную историю.
Но корабли, поставленные своим командующим в условия гарантированного истребления, вступили в бой и вели его с редким, превзошедшим все прошлые сражения мужеством. И первыми были броненосцы типа "Бородино".

Цветы для генерал-адъютанта.