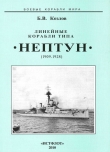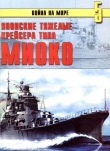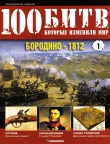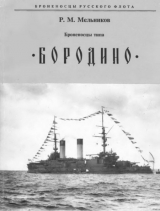
Текст книги "Броненосцы типа "Бородино" "
Автор книги: Рафаил Мельников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Путями Бартоломеу Диаша и чайных клиперов
Тихим и пасмурным днем 2 октября 1904 г. броненосцы «Князь Суворов» (флаг командующего контр-адмирала З. П. Рожественского), «Император Александр III», «Бородино» и «Орел», составляя четвертый эшелон и главную силу 2-й Тихоокеанской эскадры, вышли из Либавы в море. Таяла за кормой низкая полоса этой крайней на западе, еще принадлежавшей России, прибалтийской земли, и лишь угадывались оставшиеся за аванпортом, грандиозные, с двумя великолепными доками, но все еще остававшиеся незавершенными сооружения порта Императора Александра III. Эскадра начала отсчет времени своего, как оказалось, 220-дневного, еще никому не ведомого ни по маршруту, ни по продолжительности похода.
Пройдя за время месячной стоянки (с 30 августа до 28 сентября) более чем скромный курс начальной боевой подготовки, который справедливее было бы считать первым этапом освоения экипажами техники своих кораблей, броненосцы должны были уже в пути превращаться в полноценные боевые единицы. Задача перед ними, как о том, напутствуя в Ревеле, сказал император Николай Александрович, поставлена недвусмысленная: совершить победоносный поход, отомстить за "Варяга" и "Корейца" и благополучно вернуться на родину.
И хотя уже прозвучали в кают-компании гвардейского экипажа броненосца "Император Александр III" поразившие всех своей безысходностью слова командира Бухвостова ("…победы не будет. Мы все умрем, но не сдадимся"), даже безнадежным скептикам не могло привидеться, что всем этим четырем самым большим, сильным и совершенным из имевшихся в русском флоте броненосцам, в которых вся Россия видела свою надежду и спасение, суждено пройти путь только в одну сторону и никто из них обратно на родину не вернется. И нам всем, кто верен своей истории, какой бы отчаянной она временами пи казалась, и кто сегодня всей душой переживает столь нежданные для России события той 90-летней давности, важнее всего понять, как и почему все это произошло, в самом ли деле была изначально предопределена гибель кораблей или же они имели реальные шансы на победу. Каковы были эти шансы и что помешало их реализации – в выяснении этих вопросов и состоит задача нашего исследования.
Труден был предстоящий путь, но и много было времени, отпущенного на подготовку к бою. Велики были силы японского флота, сумевшего, хотя и без прямой победы, пережить 1-ю Тихоокеанскую эскадру, но немалую мощь составляла и 2-я эскадра, чьи вспахивающие море четыре колонны заняли собой едва ли не все пространство южной Балтики. Самое крупное из когда-либо единовременно отправлявшихся на войну соединений русского флота, а оно состояло из лучших на Балтике кораблей, в значительной мере представлявших собой итог всех программ 20-летнего парового судостроения в России, покидало ее.

Эскадра перед уходом из Либавы.
В первом эшелоне, вышедшем из Либавы в 7 час. утра 2-го октября, были крейсера «Алмаз» (флаг контр-адмирала О. А. Энквиста), «Светлана», «Жемчуг», «Дмитрий Донской». Их сопровождали транспорты «Метеор», «Князь Горчаков», миноносцы «Блестящий» и «Прозорливый». Второй эшелон, вышедший часом позже, составляли броненосцы «Ослябя» (флаг контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама), «Сисой Великий», «Наварин», крейсер «Адмирал Нахимов» и шедшие с ними транспорт «Китай» и миноносцы «Быстрый» и «Бравый». В третий эшелон, вышедший в 9 час. 30 мин., входили крейсера «Аврора» (брейд-вымпел ее командира капитана 1 ранга Е. Р. Егорьева), транспорты «Анадырь», «Камчатка», ледокол «Ермак», миноносцы «Безупречный» и «Бодрый». В завершающем четвертом эшелоне (такой порядок следования позволял командующему лично подстегивать и подбирать отстававшие по тем или иным причинам корабли) вместе с четырьмя броненосцами шли использовавшийся в качестве посыльного судна быстроходный бук– сирно-спасательный пароход «Роланд», а также транспорт «Корея» и миноносцы «Бедовый» и «Буйный».
Стоявшая перед новыми кораблями задача всесторонней наладки и полного освоения экипажами техники и вооружения осложнялась не только острой нехваткой времени, вызванной ускоренными темпами достройки и сдачи всех четырех броненосцев. Давали себя знать и крайне обострившиеся изъяны прежней системы подготовки специалистов и комплектации кораблей, где также главенствовала пресловутая "экономия". Кадры специалистов флота готовили в количестве, явно не отвечавшем резко ускорившимся в конце XIX в. темпам пополнения флота новыми кораблями, а уровень их подготовки (стрельба из безнадежно устарелых пушек броненосца "Адмирал Лазарев" и вахты у допотопных машин и котлов броненосца "Первенец") отставал от неудержимо совершенствовавшейся новой техники, с которой ученикам школ специалистов предстояло встретиться на кораблях во время службы.
Тревожные симптомы этого неблагополучия уже проявились неполадками с котлами Бельвиля на шедшем в 1902 г. на Дальний Восток броненосце "Победа" и уже вовсе аварийным их состоянием на совершавшем тот же путь в 1903 г. броненосце "Ослябя". Но ГМШ, который отвечал за комплектацию и боевую подготовку кораблей, этими фактами ничуть не был взволнован. И только что возглавивший его контр-адмирал З. П. Рожественский на крик души старшего механика "Осляби", доносившего об остром некомплекте и необученности машинной команды и таком же плачевном состоянии младших инженер-механиков, только что выпущенных из училищ, отозвался весьма равнодушно: "Очень жаль, что сам справиться не может, а неопытность команды – вещь обыкновенная".
Дорого обходилось флоту это столь привычное для адмирала, очень накладное для казны обыкновение новую, дорогую и сложную технику отдавать в руки плохо или вовсе не обученных матросов. Однако традиции марсофлотов, привыкших ничего не видеть ниже палубы, были сильны. О них с недоумением свидетельствовал младший инженер-меха– ник на "Ослябе", недавний выпускник Московского высшего технического училища А. А. Быков: "Начальство смотрит на машину как на лишнюю вещь на корабле и притом вещь грубую, сделанную из железа, чугуна… О ней можно и не заботиться. Поэтому между строевым начальством и машинным у нас идет постоянная нелепая перебранка; и чтобы сделать что-нибудь самое необходимое для машины, я должен ждать еще разрешения строевого начальника".
Вред этой системы проявлялся не только во все более весомых расходах на ремонт обрекавшихся на постоянные аварии механизмов, но и в провалах проводимых флотом операций, ярким примером которых стала неудача похода "Осляби" в 1903 г., когда он, не успев из-за ремонта поспеть до начала войны в Порт-Артур, был возвращен на Балтику и в новое плавание отправился уже с эскадрой З. П. Рожественского.
Крайне вредной оказалась и бездумная чиновная практика (лишь бы соблюсти число и форму) комплектования экипажей строившихся кораблей, отчего ко времени вступления их в строй значительная часть матросов-специалистов, которые только что освоили механизмы в ходе работ, увольнялась в запас, и корабль опять попадал в руки совсем не знакомых с его механизмами матросов. Новая практика подготовки специалистов у новейших котлов и механизмов построенного для этой цели учебного транспорта "Океан" еще не успела принести своих результатов. Всю смену нового поколения машинистов и кочегаров, подготовленных в единственном, состоявшемся в 1903 г., перед войной рейсе из Кронштадта в Порт-Артур, пришлось оставить на кораблях эскадры Тихого океана, которая также задыхалась от некомплекта специалистов.

Эскадра в Балтийском море.
Ради хотя бы частичного пополнения опустошили все резервы и экипажи кораблей Балтийского флота. Ведь, кроме уже находившихся в строю и новых достраивавшихся кораблей, люди были нужны и .. для превращенных в крейсера пароходов Добровольного флота «Петербург» и «Смоленск», и приобретенных с той же целью в Германии четырех океанских пароходов, и еще для четырех прозванных «экзотическими» крейсеров, которые, спохватившись, в мае 1904 г. собирались купить в Аргентине.
Чтобы как-то исправить положение с комплектацией новых броненосцев, по несколько десятков человек из числа новобранцев отправили для ускоренного обучения на транспорт "Океан". Уже не считаясь с традиционным комплектованием из состава флотских экипажей, к которым корабли были приписаны, людей на новые корабли собирали по всему Балтийскому флоту и снова и снова требовали матросов с уже изрядно опустошенного Черноморского флота. Вместе с новобранцами и призванными из запаса матросами как нельзя кстати оказались и вернувшиеся из Чемульпо экипажи "Варяга" и "Корейца". Они обязались не участвовать в войне (это было условие, на котором японцы соглашались выпустить русских моряков из Чемульпо), но все же пополнили команды тех кораблей, с которых матросов снимали для перевода на корабли 2-й эскадры. Люди поступали (и часто не тех специальностей и не того уровня подготовки, какие требовались) до дня ухода из Кронштадта, Ревеля и Либавы, а часть офицеров догоняла эскадру на рейсовых пароходах. Особенно большой была прибывшая с юга в апреле 1904 г. партия из 338 матросов, из которой почти всех специалистов назначили на "Орел", "Князь Суворов" и "Бородино".
Движимые патриотическим чувством и желанием отличиться, просились на войну многие матросы и офицеры. Выпускник водолазной школы Туртанов, который предложил проект управляемой легководолазом торпеды, получил назначение на броненосец "Бородино". В ГМШ множилось число телеграмм, личных просьб и ходатайств о назначении на корабли 2-й эскадры. Так за своих племянников, мичманов, ходатайствовали светлейшая княжна Елена Александровна и генерал-адъютант граф Олсуфьев, о назначении на новый корабль своего сына просил капитан 1 ранга Г. Ф. Цывинский.
Отбор претендентов вел лично командующий эскадрой контр-адмирал З. П. Рожественский, который особенно строго разбирался с впервые поступавшими (вследствие мобилизации) на корабли из запаса прапорщиками флота. Имевшие мореходное образование и опыт плаваний на торговых судах, они попадали на корабли лишь в том случае, если своей безукоризненной службой и деловыми качествами были лично известны или знакомы адмиралу.
Тогда же решался и вопрос о том, допускать ли их в состав офицерских кают-компаний *
[Закрыть]или перевести в общество кондукторов. Разрешение в конце концов (хотя и с унизительной оговоркой «на время военных действий») последовало – война заставила поступиться кастовой замкнутостью исключительно дворянских кают-компаний кораблей. Не сразу освоились в них и принятые на службу в качестве младших инженер-механиков выпускники Московского высшего технического училища и Харьковского и Петербургского технологических институтов, а также не участвовавшие еще в плаваниях корабельные инженеры. Этих молодых офицеров З. П. Рожественский потребовал назначить «для содержания в порядке систем непотопляемости» и для руководства работами при возможных повреждениях".
Так получили назначение на "Князь Суворов" Л. С. Политовский (ставший флагманским корабельным инженером), на "Император Александр III" А. Н. Зданкевич (в феврале 1905 г. списан по болезни в Россию), на "Бородино" Д. М. Шангин, на "Орел" В. П. Костенко, на "Ослябю" К. А. Замчинский, на "Сисой Великий" Н. И. Лохвицкий (в феврале 1905 г. переведен на крейсер "Олег"). И не один должен был пройти месяц напряженного плавания и суровых походных будней, пока офицеры, впервые представлявшие разные социальные слои, смогли составить дружную флотскую семью, в которой превыше всего ценятся высокие личные качества, заботы службы и совершенствования своего корабля.
Именно таким неформальным коллективом, способным при необходимости дать отпор даже самодурским выходкам адмирала, стала кают-компания броненосца "Орел", летопись походной жизни которой ярко отобразил в своей замечательной книге В. П. Костенко. Долгий и суровый поход сдружил офицеров почти всех кораблей, и каждый внес в дело совершенствования техники и боевой выучки опыт предшествовавшей службы.
Здесь на эскадре встречались давние и недавние сослуживцы, ветераны флота и его молодая смена с кораблей всех военно-морских театров России: отличавшиеся столичным духом балтийцы,независимые, не расстававшиеся со своими белыми фуражками черноморцы и неизменно задававшие тон тихоокеанцы -те, кто плавал на кораблях Сибирской флотилии и эскадры Тихого океана, кто познал особую суровость дальневосточной службы и кто теперь совершал второй, третий, а иные и четвертый вояж вокруг света. Так в русском флоте именовали плавания на Дальний Восток, которые по возвращении на родину приравнивались к кругосветным.
На флагманском "Князе Суворове" представителями 1-й эскадры были плававшие на "Рюрике" старший артиллерийский офицер лейтенант П. Ј. Владимирский (в 1897-1901 гг.), младший минный офицер П. А. Вырубов (в 1899-1900 гг.), младший артиллерийский офицер лейтенант А. А. Прохоров. На клипере "Разбойник" старшим офицером в 1894-1896 гг. побывал на Востоке командир капитан 1 ранга В. В. Игнациус, на клипере "Крейсер" в 1888-1890 гг. и на канонерке "Кореец" в 1894-1896 гг. служил старший офицер капитан 2 ранга А. П. Македонский, на крейсере "Дмитрий Донской" в 1900-1901 гг. и на броненосце "Севастополь" в 1901-1902 гг.-младший артиллерийский офицер лейтенант А. А. Прохоров. На крейсере "Адмирал Корнилов" в 1892-1895 гг., канонерке "Гиляк" в 1899-1901 гг. и броненосце "Петропавловск" в 1901-1902 гг. плавал старший минный офицер лейтенант Н. И. Богданов, на клипере "Разбойник" в 1892-1895 гг. и крейсере "Адмирал Корнилов" в 1894 г. -старший штурманский офицер лейтенант В. П. Зотов, на клипере "Забияка" в 1900 – 1903 гг. – ревизор лейтенант П. И. Орнатов, на клипере "Забияка" в 1898 г., канонерской лодке "Сивуч" в 1898-1900 гг. и крейсере "Генерал-Адмирал" в 1903-1904 гг. – вахтенный начальник лейтенант А. А. Редкин. Представителем Черноморского флота был плававший на броненосце "Ростислав" в 1900 г. и на канонерской лодке "Черноморец" в 1901 г. (а в 1902-1903 гг.– на крейсере "Герцог Эдинбургский") – вахтенный начальник лейтенант Б. А. Данчич. Все старшие (и большинство младших) специалистов корабля были выпускниками минных или артиллерийских классов. Выпускником Морской академии 1898 г. и штурманским офицером 1-го разряда (с 1904 г.) являлся старший штурман В. П. Зотов, такую же подготовку имел вахтенный начальник Б. А. Данчич.
*Принявший на себя командование морскими силами на Балтике вице адмирал А. А. Бирилев высказывался об этом отрицательно.

Командиры кораблей 2-й тихоокеанской эскадры: в верхнем ряду (слева направо): капитан 2 ранга И. И. Чагин («Алмаз»), капитан 1 ранга В. И. Бэр («Ослябя»), капитан 2 ранга К. К. Андржеевский («Грозный»), капитаны 1 ранга Е. Р. Егорьев («Аврора») и С. И. Григорьев («Адмирал Сенявин»); в нижнем ряду (слева направо) капитаны 1 ранга В. В. Игнациус («Князь Суворов») и П. И. Серебренников («Бородино»), капитан 2 ранга В. И. Ферзен ("ИзумрудГ) и капитаны 1 ранга Б. А. Фитингоф («Наварин») и Л. Ф. Добротворский («Олег»).
Из штабных чинов флагманского броненосца штабной опыт (непосредственно под началом З. П. Рожественского в ГМШ) имел старший флагофицер лейтенант Е. В. Свенторжецкий. Без малого 10– летний тихоокеанский стаж (плавания с 1893 по 1902 г. на крейсерах «Адмирал Нахимов», «Рюрик» и «Варяг») имел второй старший флаг-офицер лейтенант С. Д. Свербеев. Столь же весомые послужные списки были и у других флагманских специалистов штаба командующего эскадрой и офицеров других кораблей.
Из командиров новых броненосцев наибольшим опытом обладал капитан 1 ранга Н. М. Бухвостов, который до назначения в сентябре 1903 г. на "Император Александр III" прошел элитарную школу службы и командования двумя кораблями Гвардейского экипажа – корветом "Рында" в 1898– 1902 гг. и крейсером "Адмирал Нахимов" в 1902-1903 гг. Его корабль, в отличие от всех своих сверстников типа "Бородино", имел уже годичный опыт плавания и, укомплектованный отборным составом матросов и офицеров Гвардейского экипажа, неустанно и не без оснований своим порядком службы приводился командующим в пример всей эскадре. Хороший опыт командирства имел и капитан 1 ранга П. И. Серебренников, который до назначения в декабре 1902 г. на "Бородино" командовал пятью кораблями (мониторы, канлодки, минный крейсер), а в 1900-1902 гг. крейсером "Россия", пройдя в 1891-1896 гг. на крейсере "Рюрик" памятную каждому командиру школу службы в должности старшего офицера. Менее объясним путь службы двух других командиров: В. В. Игнациус после командования в 1896-1899 гг. кораблями далеко не первой линии – монитором "Ураган", минным крейсером "Всадник" и вовсе уж рядовыми (в 1900-1901 гг.) миноносцами 8-го флотского экипажа в октябре 1901 г. получил назначение на "Князь Суворов", что позволило ему во всех деталях ознакомиться с ходом постройки и всеми особенностями устройства своего корабля. Наименьший стаж командования (но зато изрядный опыт в 1892-1895 гг. в должности старшего офицера "Генерал-Адмирала" и броненосца "Полтава") и притом уже давно не имевшим боевого значения учебным рангоутным крейсером имел командир "Орла" капитан 1 ранга Н. В. Юнг. Но все они понимали главный секрет руководящей должности – доверять и опираться на ближайших помощников – старших офицеров, поддерживать и поощрять инициативу всего офицерского состава корабля.
Бесспорно, велика, особенно на первых порах, была роль командующего эскадрой контр-адмирала З. П. Рожественского, издавна слывшего на флоте жестким и требовательным службистом. Добиваясь всеми средствами скорейшего, как он выражался, "водворения порядка" на кораблях наспех формировавшейся эскадры, он не щадил никого и в своих едких приказах по эскадре выставлял на вид все те многочисленные и вначале неизбежные промахи и недоработки в организации связи, наблюдения, службы вахт, учебных и боевых тревог, лично им выявляемые на флагманском броненосце. Исключительно важной была и роль главных носителей и блюстителей порядка – бывалых, прошедших долгий путь до получения заветных "лычек" боцманов, кондукторов и фельдфебелей, усердием и рвением которых к службе поддерживаются в конечном счете дисциплина, порядок, организованность и исполнительность всего собранного на корабле матросского коллектива более чем из 800 человек.

Командиры кораблей 2-й тихоокеанской эскадры: в верхнем ряду (слева направо): капитаны 1 ранга А. А. Родионов («Адмирал Нахимов») и Н. В. Юнг («Орел»); в нижнем ряду: капитаны 1 ранга М. В. Озеров («Сисой Великий») и Н. Г. Мишин («Генерал-адмирал Апраксин»).
Так общий опыт и энергия всех матросов и офицеров соединялись с генетической памятью флота, хранимой его вековыми традициями, историей и Морским уставом, обогащались принесенными офицерами и унтер-офицерами с прежних своих кораблей обычаями и порядком службы. И постепенно под влиянием особых условий плавания и нетерпимости адмирала ко всем малейшим отклонениям от норм и внешних проявлений организованности и морской культуры налаживались на новых кораблях быт и дисциплина, бесперебойное обслуживание механизмов, действия команды по всем предусмотренным расписанием авралам, учениям и тревогам. Не хватало только опыта стрельбы и маневрирования, но это уже не зависело от командиров кораблей. Эскадру вел получивший от императора особые полномочия и суровый со всеми адмирал, который, как позднее выяснилось, даже штабных чинов не посвящал в свои замыслы и планы.
Все понимали, что, пока эскадра, разделившись на отряды, огибает Африку с запада и с востока, главная ее цель – успешное безостановочное движение и сосредоточение, как всем было известно, на Мадагаскаре. На это время откладывалась (исключая тренировки по обслуживанию орудий и техники) вся боевая подготовка.
Неожиданной проверкой боевой готовности эскадры и именно четырех новых броненосцев оказался загадочный Гулльский инцидент, о котором и сегодня молчат мемуары и архивы всех причастных к нему сторон. Тогда на исходе первого часа ночи 9 октября 1904 г. шедшие в первом эшелоне четыре новых броненосца по приказанию командующего открыли огонь по пересекавшим путь без огней, подозрительным, похожим на миноносцы судам. Но в лучах прожекторов открылись работавшие с сетями на Доггер-банке рыболовные суда, и спустя 10 минут после начала стрельбы огонь по сигналу с "Суворова" (поднятый вертикально луч прожектора) был прекращен. Этот инцидент показал, что новые броненосцы, несмотря на всего недельный опыт плавания, представляют собой уже достаточно организованные боевые единицы: при всем охватившем комендоров азарте практически неуправляемой ночной стрельбы офицеры сумели сразу после сигнала остановить стрельбу и тем спасли от уничтожения многие из оказавшихся серьезно поврежденными английские суда. Для расследования обстоятельств этого драматического происшествия, которое повлекло с обеих сторон гибель людей (на "Авроре" умер смертельно раненный священник), эскадра по приказанию из Петербурга была задержана до 19 октября в Виго (куда пришли утром 13 октября).
По выходе в море эскадра подверглась демонстративному конвоированию отрядом английских крейсеров. Не отставая вплоть до Канарских островов, они, держась в отдалении, то брали эскадру в полукольцо то окружали полностью. Это была также демонстрация искусства в выполнении сложных маневров и перестроений. Но адмирал не счел нужным воспользоваться преподанным ему наглядным уроком и, проявив свое угрюмое "презрение" к противнику, весь поход до Мадагаскара, несмотря на идеальные, казалось бы, условия, не занимал эскадру никакими эволюциями.
Так сложилась естественная в глазах Рожественского, но крайне вредная для боеспособности кораблей рутина одного лишь безостановочного движения вперед, превращавшего корабли не в боевое соединение, а в караван транспортов. К этому убаюкивающему однообразию, исподволь приучавшему людей к мысли, что большего, чем неудержимо двигаться вперед от эскадры и не требуется, добавлялся обильный поток адмиральского бумаготворчества. За поход было выпущено до 1200 приказов и циркуляров, в которых он без всякой системы и порядка, просто по "вдохновению", вперемежку с наставлениями по морской практике и способам погрузки угля, знакомил экипажи со своими представлениями и взглядами на тактику ведения боя. Одним из первых, еще на Балтике выпущенных документов приказом от 8 июля 1904 г. была объявлена "Организация артиллерийской службы на судах 2-й эскадры Тихого океана". Уже тогда офицеров-тихоокеанцев должно было насторожить отсутствие в этой инструкции какого-либо упоминания об опыте 1-й эскадры.

Стоянка эскадры у Скагена.
Не счел адмирал нужным и объявить по эскадре обязательную, казалось бы, для нее, как составной части еще действовавшего флота Тихого океана, инструкцию для похода и боя, составленную первым командующим С. О. Макаровым. Молчанием в приказах З. П. Рожественского обходилась настольная для всех офицеров книга С. О. Макарова «Рассуждения по вопросам морской тактики». Хуже того, по справедливости бичуя выявлявшиеся на кораблях в первый период плавания недостатки в организации службы, адмирал не стеснялся бросить тень на погибшую в декабре 1904 г. эскадру, которая будто бы в начале войны «проспала» лучшие свои корабли.
Известные, в общем-то, и ранее адмиральские "особые методы" воспитания подчиненных, в основе которых была утонченная язвительность в письменных приказах и самая низкопробная площадная брань вперемежку с приступами бешенства и истерии на командном мостике, очень скоро, благодаря особым, врученным ему императором полномочиям и дисциплинарным правам, начали все более интенсивно применяться ко всем (исключая тех, кто имел в Петербурге слишком весомые связи) командирам кораблей флота его императорского величества. Матерная брань, нецензурные прозвища для кораблей и командиров – все то, о чем мы знаем по "Цусиме" А. С. Новикова– Прибоя, – это, увы, не плод пристрастия советского романиста. Обо всем этом свидетельствуют многие участники похода. Неизбежным следствием этих мер могло быть только одно – неудержимо разраставшаяся пропасть отчуждения между адмиралом (и молчаливо поддерживавшим его штабом) и командирами, утратившими всякое уважение к своему командующему.
И хотя Гулльский инцидент уже посеял среди офицеров первые сомнения во флотоводческих талантах командующего (шедший тогда далеко позади отряд контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама, также обнаруживший рыбаков, не стал их расстреливать, ограничившись наблюдением в лучах прожекторов), убаюкивающий успех первого, слишком легко давшегося этапа похода начал было примирять офицеров со странными выходками командующего и делать их, как писал родным лейтенант П. А. Богданов, привычными даже "к адмиральскому рыку".
Идя по маршруту знаменитого морехода Бартоломеу Диаша (1488 г.) и повторившего его плавание в 1497 г. Васко да Гамы, корабли З. П. Рожественского не испытывали забот со снабжением топливом и продовольствием. В четырех избранных для их пополнения пунктах западного побережья Африки их поджидали шедшие с опережением, зафрахтованные в Германии и Англии пароходы. Эта флотилия, доходившая до 11 судов, обеспечивала плавание эскадры и развенчивала постоянно приписываемый З. П. Рожественскому исключительный подвиг беспримерного плавания. Да, поход отличали и количество впервые собранных в эскадре кораблей, и 18000-мильная дальность и 220-дневная продолжительность. Но оказывается, что из этих 220 дней на плавание приходится лишь 79, отчего получается, что новейшие корабли, способные развивать скорость до 18 узлов, продвигались с такой же среднесуточной 9-уз скоростью, с какой 40 лет назад совершали свои пробеги (то безнадежно заштилев, то выжимая из парусов даже сегодня немыслимую 21-узловую скорость) чайные клипера. И если можно вести речь о подвиге, то он, бесспорно, состоял в исключительной выносливости экипажей кораблей, на плечи которых ложились изнурительные угольные погрузки. Так на переходе из Дакара под уголь было приказано занять помещения батареи 75-мм орудий, бани, прачечные и сушильни, проходы у котельных кожухов, запасные выходы из кочегарок, кормовые срезы наружного борта, для чего требовалось демонтировать все оборудование этих помещений. Вместо привычной, всегда идеальной флотской чистоты, корабельные помещения были превращены в неискоренимые рассадники грязи. Приняв двойной (2200 т вместо 1100 т) запас, корабли вместо проектной осадки 8,4 м осели в воду до 9,3 м.
И нельзя не удержаться от резонного вопроса: а не лучше ли было не превращать боевые корабли в угольные транспорты, а сделать совсем наоборот – жесточайшей ревизией всех запасов разгрузить корабли до проектной осадки и тем обеспечить нормальное положение брони, достижение проектной скорости и уменьшение расхода угля.

Эскадра адмирала З. П. Рожественского следует в сопровождении английских крейсеров (с рисунка того времени).
Получив возможность пройти Суэцким каналом, корабли были бы избавлены от плавания вокруг Африки и могли бы прийти к Мадагаскару (если это было действительно нужно) более коротким путем, имели бы больше времени на боевую подготовку, которая при меньшем утомлении экипажей и в условиях Средиземноморья могла бы получить иное развитие. Проще была бы и доставка боеприпасов из России на пароходах из Черного моря. Но адмирал, боясь, видимо, тлетворного влияния французской Ривьеры и прочих курортных прелестей временного базирования эскадры в Средиземном море, предпочел загнать ее в мадагаскарское пекло, где становилась сомнительной не только интенсивная боевая подготовка, но и само существование кораблей как боевых единиц. *
[Закрыть]
Подвиг совершали кочегары у котлов, машинисты у машин, обеспечивая сохранность находившейся на опасном пределе температуры, с которой не справлялась никакая вентиляция, техники кораблей.
Свою высокую живучесть, мореходность и умеренную качку, несмотря на перегрузку, продемонстрировали и корабли во время жестокого шторма, в который 8 декабря 1904 г. они попали у мыса Доброй Надежды. Проявив себя подлинным мысом Бурь (как и предполагал назвать его Бартоломеу Диаш), мыс Кап стал свидетелем того, как броненосцы, проваливаясь меж валами, полностью исчезали из поля зрения соседних кораблей и как волнение предшествовавшего дня сменилось еще более жестоким ураганом. Тысячетонные массы воды стеной накатывались на корабли, превращая их почти что в подводные лодки и снося на палубах все, что удавалось сорвать с креплений. В мгновение были смыты заботливо по приказу адмирала уложенные на бортовых срезах запасы угля. При каждом размахе продольной качки корабли то вздымали над водой до киля весь таранный штевень, то всем своим высоким полубаком с носовой башней уходили в воду, вызывая отчаянный перебой винтов. Бортовой качки почти не было – ее гасили, действуя как судовые кили, бортовые срезы у башен 152-мм орудий.
Замеченную рыскливость на попутном волнении устранили (как это было на "Орле") по предложению корабельного инженера В. П. Костенко, создав дифферент на корму затоплением нескольких отсеков. Целые сутки тщательно следили за подкреплениями из вымбовок и упоров крышек иллюминаторов. Опускаясь на волнении глубоко в воду, они отчаянно фонтанировали в стыках, но выдержали удары и давление и тем спасли корабль от близкой, как никогда, гибели.
Корабли и люди выдержали жестокое испытание, и эта победа над стихией у мыса Доброй Надежды (неспроста, видимо, португальский король дал ему такое название) породила у многих веру в счастливый исход всей операции. Всем казалось немыслимым, чтобы, придя на край света и имея такие корабли и сроднившиеся с ними экипажи, эскадра могла потерпеть неудачу.
Но трудности похода, сколь бы значительными они не были, составляли лишь половину задачи. В конечном счете предстояло вступить в бой с изощренным и уже имевшим боевой опыт противником, и задача неустанной и настойчивой подготовки к бою как кораблей, так и эскадры в целом должна была стать главной целью похода. Понимая это, командиры и офицеры не жалели сил на каждодневные тренировки в освоении их экипажами техники и вооружения. Регулярно проводились частные и общие учения, тренировки с приведением в действие всей системы подачи боеприпасов и ПУАО, отработка приемов заряжания, практика в дальномерном и глазомерном определении расстояний, приобретение навыков быстрого прицеливания. Но все эти действия без венчающей их боевой стрельбы были не более чем работа вхолостую. Все понимали, что корабль тогда только можно считать готовым к бою, когда стрельба для него стала постоянным и привычным занятием.